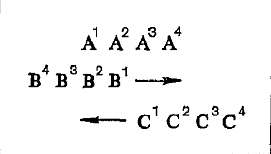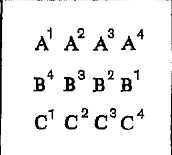|
||||
|
|
ДРЕВНЕГРЕЧЕСКАЯ ФИЛОСОФИЯ КАК ИДЕОЛОГИЯ РАБОВЛАДЕЛЬЧЕСКОГО ОБЩЕСТВА Вo всех рабовладельческих обществах способ материального производства основывался на физическом труде рабов, лишенных всех юридических и имущественных прав. Но история Древней Греции — особая историческая ступень в развитии обществ этого типа. Это ступень, когда совершился переход от бронзы к железу. Ко времени этого перехода греки достигли больших успехов в развитии торговли и потому первые использовали возможности, предоставляемые железом, и преимущества железа перед бронзой, предшествовавшей железу. Применение железа сделало более доступными металлические орудия. В античном обществе влияние торговли и развитие купеческого слоя имело своим постоянным результатом развитие рабовладельческого хозяйства. В самой торговле значительное место занимала торговля рабами, число которых, сначала малое, росло. Возвышавшийся купеческий слой во многих городах-государствах добился преобладания и установил политический строй рабовладельческой демократии. Употребление монет, перешедшее из Лидии (в Передней Азии) в Грецию, привело к тому, что греческим обществом были заложены основы денежного хозяйства. Хотя товарное производство издавна существовало во многих областях Ближнего Востока, но лишь с распространением денег оно не только достигло высокого развития, но и произвело переворот во всем прежнем обществе. Уже в 5 в. до н. э. промышленностью в значительной степени овладел рабовладельческий способ производства. В результате дешевизны рабской рабочей силы исчезли импульсы для развития начавшегося перед тем технического прогресса. Рабы трудились в рудниках, в мастерских, использовались в качестве домашней челяди. При демократическом правлении класс рабовладельцев распространил рабский труд на все отрасли производства. С достижением этого успеха вскоре начался затянувшийся на столетия процесс все возраставшего упадка античного общества. Ограниченность, свойственная экономике при рабовладельческих отношениях, мешала дальнейшему развитию производительных сил, тормозила и ослабляла их использование. На место покорения сил природы была поставлена эксплуатация человеком человека. Философия, развивавшаяся в античной Греции, отражала своеобразие общественной системы, в которой она возникла. Умственное движение от 7 до 4 в. до н. э. может быть охарактеризовано как развитие или как путь от мифологии и от религии к материалистически мыслящей науке. В 10 — 9 вв. до н. э. в городах-государствах Древней Греции, в южной части Балканского полуострова, на западном побережье Малой Азии, в современной Южной Италии и в прибрежных греческих городах острова Сицилия достигло высокого расцвета древнее рабовладельческое общество. До археологических открытий конца XIX — начала XX в. историки древнего общества ошибочно полагали, будто античное общество было первым по времени высококультурным миром, предшествовавшим на территории Европы возникновению европейского феодализма. После раскопок Шлимана, Дёрпфельда и других выяснилось, что античному рабовладельческому обществу предшествовало более древнее и также достигшее высокого культурного уровня общество рабовладельческого типа. Не только в Троаде, на острове Крит, но и в Микенах были раскопаны и исследованы остатки монументальных сооружений и дворцов — свидетельство блестящей культуры их строителей и обитателей. В настоящее время уже давным-давно оставлено мнение, будто, например, эпос Гомера есть начальная ступень в развитии поэтического искусства, а архитектура классической Греции — начальный фазис в развитии европейского зодчества. Однако при всем углублении исследования, обнаружившем существование предшествовавшего классической Греции большого и высокоразвитого исторического культурного мира, непоколебленным осталось положение об античном рабовладельческом обществе как о своеобразном культурном мире, достигшем высшего уровня и оказавшем значительное и длительное влияние на последующее развитие европейских народов в эпоху феодализма и капитализма. Греческое рабовладельческое общество отнюдь не было замкнутым и самодовлеющим. Зачатки технических навыков, научных знаний и искусств греки заимствовали у своих соседей — народов более древней и в то же время более высокой культуры. Это были вавилоняне, египтяне, финикийцы, персы. Однако усвоив у них зачатки искусств и научных знаний, греки в короткий срок поразительно развили эти зачатки. Они создали замечательную собственную мифологию, архитектуру, поэзию, театр. В математике, астрономии, механике, отчасти также и медицине они превратили знания, накопленные их восточными соседями и предшественниками, в науки, для которых характерны не только известная сумма данных и сумма наблюдений, но и обоснование познанного, а также его систематическая связь. Одним из важнейших явлений и результатов исторического развития Древней Греции стала древнегреческая философия. Возникнув в конце 7 — начале 6 в. до н. э., древнегреческая философия до конца своего развития, пресекшегося в VI в. н. э., оставалась характерным, своеобразным и значительным явлением культурной жизни античного общества. Греческие философы принадлежали в большинстве к различным слоям «свободных», т. е. по преимуществу рабовладельческого класса. Их общественно-политические, нравственные и педагогические учения- выражали взгляды и интересы этого класса. Тем не менее в разработке даже этих вопросов, а особенно в разработке основ философского мировоззрения, древние греки создали учения, высоко поднимающиеся над тесным историческим горизонтом рабовладельческого общества [ср. 1, т. 23, с. 346]. Древнегреческая философия возникла не как область специальных философских исследований, а в неразрывной связи с зачатками научных знаний — математических и естественнонаучных, в связи с зачатками политических знаний, а также в связи с мифологией и искусством, для которого, как показал Маркс, греческая мифология была и его «почвой» и «арсеналом», и его «предпосылкой» и «материалом» [I, т. 12, с. 736–737]. Только в эпоху так называемого эллинизма, начиная с 3 в. до н. э, некоторые науки, прежде всего математика и медицина, обособляются в специальные области исследования. Однако и после этого древнегреческая философия продолжает развиваться как мировоззрение. заключающее ответы не только на вопросы собственно философские, но и на вопросы наук: математических, естественных и общественных. Восстановление наследия и содержания учений древнегреческой философии представляет исключительные трудности вследствие происшедшей еще до конца античного мира утраты большей части произведений древнегреческой философии и науки, в том числе почти всех произведений материалистических школ. Полнее сохранились сочинения крупных идеалистов 4 в. до н э. (Платона и Аристотеля), а также неоплатоников (Плотина, Прокла). В средние века уцелевшая часть литературного наследства древнегреческой философии частично сохранялась, изучалась и разрабатывалась в Византии, в Армении, в странах арабской культуры и среди культурного слоя народов Средней Азии. С середины XII в. благодаря посредничеству ученых арабов и евреев, а также византийских греков становится гораздо более полным знакомство ученых Западной Европы с крупнейшим мыслителем древнегреческой философии Аристотелем, а начиная с XV в. интенсивно развивается незавершившийся и по настоящее время процесс разыскания, восстановления и изучения всего состава учений и произведений древнегреческой философии. До возникновения марксистской философии и до ее торжества в СССР, наступившего после победы Великой Октябрьской социалистической революции, исследование древнегреческой философии, сосредоточившееся главным образом в Германии и Англии и породившее огромную специальную литературу, тормозилось и обесценивалось идеалистической тенденцией буржуазных ученых. Они либо замалчивали явления древнегреческого материализма, либо поносили его и были не способны по достоинству оценить его значение, либо искажали материализм и даже сближали учения его корифеев (например, Демокрита) с учениями идеалистов. Буржуазные исследования по истории древнегреческой философии страдали ограниченностью узкофилологического подхода к древнегреческой философии. Ее изучение требовало прекрасной филологической подготовки, которая, однако, редко соединялась у специалистов с равноценной философской подготовкой. По сравнению с многовековым домарксистским периодом марксистское изучение древнегреческой философии началось недавно. Принципиальная точка зрения марксистского подхода к изучению древнегреческой философии сформулирована в трудах классиков марксизма-ленинизма. Специальное научное исследование вопросов истории древнегреческой философии с позиций марксистско-ленинской историко-философской методологии началось советскими учеными только в 20-х годах XX в., но, несмотря на весьма краткий срок, дало важные новые результаты. I. Ранняя философия древнегреческого Востока и Запада  Древнегреческая философия возникла не в собственно Греции, не на Балканском полуострове, а на восточной окраине греческого мира — в ионийских городах западного побережья Малой Азии, основанных греками и развивших раньше, чем это произошло в самой Греции, рабовладельческую промышленность, торговлю и выросшую на их основе духовную культуру. Последняя создавалась не только гением высокоодаренного народа, но, как уже сказано выше, была обусловлена также и его связями со странами более древних восточных цивилизаций Вавилона, Финикии, Египта. Первые материалистические учения на грани 7–6 вв. до н. э. возникли в Милете — крупнейшем в 6 в. до н. э. из всех малоазиатских греческих городов. С конца 7 до конца 6 в. до н. э. здесь последовательно жили и учили три мыслителя: Фалес, Анаксимандр и Анаксимен. Задавшись вопросом о том, откуда все возникает и во что все превращается, они искали начало происхождения и изменения всех вещей. При этом они понимали первовещество не как мертвую и косную материю, а как вещество, живое в целом и в частях, наделенное душой и движением. Все три первых милетских философа сочетали философское исследование, а также зачатки научного исследования с запросами и задачами разносторонней практической деятельности. Поэтому они оказались одновременно создателями первых в Древней Греции астрономических, математических, физических и биологических понятий и догадок, конструкторами первых простейших научных приборов (гномон, солнечные часы, модель небесной сферы), а также авторами первых основанных на наблюдении предсказаний астрономических явлений. Однако собранные и самостоятельно добытые ими знания являются для них не отдельными истинами наук (которых еще не было) и не только основой для практического действия, но прежде всего элементами цельного мировоззрения, объединяющего отдельные чувственные явления в мысли об общем для них вещественном первоначале. 1. Милетские материалисты ФалесПервым в ряду милетских философов был Фалес (конец 7 — первая половина 6 в. до н. э.). Это был деятель, соединявший интерес к запросам практической жизни с глубоким интересом к вопросам о строении мироздания. Будучи купцом, он использовал торговые поездки в целях расширения научных сведений. Он был гидроинженером, прославившимся своими работами, разносторонним ученым и мыслителем, изобретателем астрономических приборов. Как ученый он широко прославился в Греции, сделав удачное предсказание солнечного затмения, наблюдавшегося в Греции в 585 г. до н. э. Для этого предсказания Фалес использовал почерпнутые им в Египте или в Финикии астрономические сведения, восходящие к наблюдениям и обобщениям вавилонской науки. Свои географические, астрономические и физические познания Фалес связал в стройное философское представление о мире, материалистическое в основе, несмотря на ясные следы мифологических представлений. Фалес полагал, что существующее возникло из некоего влажного первовещества, или «воды». Все постоянно рождается из этого единого источника. Сама Земля держится на воде и окружена со всех сторон океаном. Она пребывает на воде, как диск или доска, плавающая на поверхности водоема. В то же время вещественное первоначало «воды» и вся происшедшая из него природа не мертвы, не лишены одушевленности. Во вселенной все полно богов, все одушевлено. Пример и доказательство всеобщей одушевленности Фалес видел в свойствах магнита и янтаря; так как магнит и янтарь способны приводить тела в движение, то, следовательно, они имеют душу. Фалесу принадлежит попытка разобраться в строении окружающей Землю вселенной, определить, в каком порядке расположены по отношению к Земле небесные светила: Луна, Солнце, звезды. И в этом вопросе Фалес опирался на результаты вавилонской науки. Но он представлял порядок светил обратным тому, который существует в действительности: он полагал, что ближе всего к Земле находится так называемое небо неподвижных звезд, а дальше всего — Солнце. Эта ошибка была исправлена его продолжателями. Его философское представление о мире полно отзвуков мифологии. АнаксимандрМладший современник Фалеса Анаксимандр признал единым и постоянным источником рождения всех вещей уже не «воду» и вообще не какое-либо отдельное вещество, а первовещество, из которого обособляются противоположности теплого и холодного, дающие начало всем веществам. Это первоначало, отличное от остальных веществ (и в этом смысле неопределенное), не имеет границ и потому есть «беспредельное» (apeiron). По обособлении из него теплого и холодного возникла огненная оболочка, облекшая воздух над землей. Притекающий воздух прорвал огненную оболочку и образовал три кольца, внутри которых оказалось заключенным некоторое количество прорвавшегося наружу огня. Так произошли три круга: круг звезд, Солнца и Луны. Земля, по форме подобная срезу колонны, занимает середину мира и неподвижна; животные и люди образовались из отложений высохшего морского дна и изменили формы при переходе на сушу. Все обособившееся от беспредельного должно за свою «вину» вернуться в него. Поэтому мир не вечен, но по разрушении его из беспредельного выделяется новый мир, и этой смене миров нет конца. Уже в древности возник «Анаксимандров вопрос» о том, понимать ли апейрон как смесь первовеществ, как нечто среднее между ними, как нечто совершенно неопределенное и веществам даже противоположное или как прообраз «материи» Платона [см. 38а, с. 53–54]. Но дошедшие до нас фрагменты не позволяют определенно ответить на этот вопрос. АнаксименПоследний в ряду милетских философов — Анаксимен, достигший зрелости ко времени завоевания Милета персами, — развил новые представления о мире. Приняв в качестве первовещества воздух, он ввел новую и важную идею о процессе разрежения и сгущения, посредством которого из воздуха образуются все вещества: вода, земля, камни и огонь. «Воздух» для него — дыхание, обнимающее весь мир, подобно тому как наша душа, будучи дыханием, держит нас. По природе своей «воздух» — род пара или темного облака и сродни пустоте. Земля — плоский диск, поддерживаемый воздухом, так же как парящие в нем плоские, состоящие из огня, диски светил. Анаксимен исправил учение Анаксимандра о порядке расположения в мировом пространстве Луны, Солнца и звезд. Современники и последующие греческие философы придавали Анаксимену значение большее, чем другим милетским философам. Пифагорейцы усвоили его учение о том, что мир вдыхает в себя воздух (или пустоту), а также кое-что из его учения о небесных светилах. С утратой Милетом (в начале 5 в. до н. э.) политической самостоятельности, отнятой персами, прекращается цветущий период жизни Милета и замирает развитие здесь философии. Однако в других городах Греции учения милетцев не только продолжали оказывать действие, но и нашли продолжателей. Таковы были Гиппон из Самоса, примыкавший к учению Фалеса, а также прославившийся Диоген из Аполлонии (5 в. до н. э.), выводивший вслед за Анаксименом все из воздуха. Диоген развил мысль о множественности самих изменений. 2. Ксенофан В Малой Азии началась странническая жизнь поэта-философа Ксенофана, уроженца малоазиатского города Колофона (6 в. до н. э.). В своих долгих путешествиях по городам Греции Ксенофан побывал и в Южной Италии и на закате дней поселился в Элее, где возникло не без его влияния философское учение так называемых элейцев. Ксенофан — ранний представитель греческого свободомыслия в отношении религии. Наблюдательный, склонный к насмешке, он подверг критике господствующие представления о множестве богов, которыми поэты и народная фантазия населили Олимп. Люди измыслили богов по своему подобию, и каждый народ наделяет богов своими собственными физическими чертами. Если бы быки, лошади и львы могли рисовать, они изображали бы своих богов в виде быков, лошадей и львов. По истине существует только один бог, не сходный с людьми ни по виду, ни по мысли: он весь — зрение, мышление и слух; он всем правит силой ума без усилий и пребывает в неподвижности. Природе Ксенофан приписывает черты, противоречащие мифам поэтов и взглядам религии. Вере в существование внизу земли ада он противопоставляет учение о бездонности земли, вере в божественность светил — учение об их естественной природе: составленное из мелких искорок Солнце движется над плоской Землей по прямой, каждый день навсегда покидая данный горизонт и каждый день исчезая, когда проходит над необитаемыми местами; солнц и лун столько, сколько горизонтов. Возникая из воспламенившихся облаков, звезды потухают днем и, как угли, разгораются ночью. Все, что рождается и растет, есть земля и вода, море — отец облаков, ветров и рек, и люди родились из земли и воды. Ни о природе богов, ни обо всем остальном не может быть истинного знания, а только мнение. Поэтому дурно поступили поэты Гомер и Гесиод, ложно приписавшие богам все человеческие пороки. Подробности учения Ксенофана были неясны уже древним писателям, находившим в нем противоречия. 3. Пифагор и ранние пифагорейцы  Выходцем из греческого Востока был также Пифагор из Самоса, переселившийся при тиране Поликрате (ок. 532 г. до н. э.) в Южную Италию, где он основал в городе Кротоне религиозную общину (союз пифагорейцев). В 6 в. в Греции усиливается религиозное движение, обусловленное ломкой архаических устоев и пробуждением к деятельности более широкого круга свободного населения. Возникают мистические общины, среди которых особое значение приобрели общины орфиков и последователей культа земледельческого бога Вакха, или Диониса. Здесь сложились представления о душе как о добром начале, заключенном в телесную темницу и ищущем освобождения. Достигается оно путем общения с Вакхом или посредством участия в вакхических «оргиях». Возникающие в это время новые формы религиозности ищут верующих и получают распространение скорее в различных слоях угнетенного народа, чем в аристократических кругах, где, напротив, выступают вольнодумцы вроде Ксенофана. На почве религиозного движения возник и союз, основанный Пифагором. Вопреки старому мнению Крите, некритически повторявшемуся многими другими историками, нет твердых доказательств для утверждения, будто основанная Пифагором община была чисто политическим союзом и будто в политической борьбе, поскольку она ими велась, ранние пифагорейцы выступали на стороне аристократии. Когда вождям пифагорейской общины в Кротоне удалось на известное время получить власть, против них выступил не какой-либо вождь демократии, а Килон — знатнейший и богатейший из граждан Кротона. Борьба закончилась (не ранее 450) разгромом кротонской общины пифагорейцев и переселением ее уцелевших руководителей в Тарент, в то время (после 473) уже демократический город, а также в Регину и впоследствии в города Греции. Пифагор еще до всех этих событий переселился в Метапонт, где и умер. Сам Пифагор ничего не писал, а учения, основанные им, претерпели в 5 и 4 вв. значительную эволюцию. Позднее античные писатели перенесли на учение Пифагора черты, развившиеся в древнегреческой философии значительно позже, а также приурочили к Пифагору множество легенд и небылиц, сложившихся о нем в позднейшей мистической литературе. Поэтому выделить первоначальное ядро учения Пифагора очень трудно. По-видимому, учение Пифагора, кроме собственно религиозного содержания и религиозных предписаний, заключало в себе и некоторое философское мировоззрение с невыделившимися из общего его состава научными представлениями. Основными моментами религии Пифагора были: вера в переселение души человека после смерти в тела других существ, ряд предписаний и запретов относительно пищи и поведения и, быть может, учение о трех образах жизни, наивысшим из которых признавалась жизнь не практическая, а созерцательная. На философию Пифагора наложили печать его занятия арифметикой и геометрией. С известной вероятностью можно полагать, что в арифметике Пифагор исследовал суммы рядов чисел, в геометрии — элементарнейшие свойства плоских фигур, но вряд ли ему принадлежат приписанные ему впоследствии открытия «теоремы Пифагора» и несоизмеримости отношения между диагональю и стороной квадрата. Учение Пифагора о мире пронизано мифологическими представлениями. По учению Пифагора, мир — живое и огненное шаровидное тело. Мир вдыхает из окружающего беспредельного пространства пустоту, или, что для Пифагора то же самое, воздух. Проникая извне в тело мира, пустота разделяет и обособляет вещи. В философии ранних пифагорейцев яснее, чем в учении их предшественников — милетцев, — выступают отмеченные Энгельсом характерные для первого периода древнегреческой философии зародыши будущих разногласий. Впоследствии все усиливаясь, эти разногласия приведут к возникновению идеализма и к началу уже не прекращающейся в дальнейшем борьбы между материализмом и идеализмом. II. Философия в эпоху развития рабовладельческой демократии  1. Гераклит Эфесский На занятой ионийскими городами узкой полосе земли на западном побережье Малой Азии, кроме Милета, в котором возник греческий материализм, выделился также город Эфес — родина философа Гераклита. Учение Гераклита — не только один из образцов раннего древнегреческого материализма, но также и замечательный образец ранней древнегреческой диалектики. Гераклит родился приблизительно в середине 40-х годов 6 в. до н. э. (ок. 544 или 540 г.), умер в 480 г. до н. э. Зрелая часть жизни Гераклита относится ко времени, когда на Ближнем Востоке, примыкавшем к Ионийскому греческому побережью, господствовали персы. Мощная в военном отношении Персидская монархия непрерывно стремилась распространить свою экспансию на запад. Гераклит был современником неудавшегося восстания покоренных персами греческих городов против победителей. Гераклит — аристократ по рождению и по своим политическим взглядам. Он враждебно относился к демократической власти, пришедшей в его родной город на смену власти старинной родовой аристократии. Политическое мировоззрение Гераклита отразилось в некоторых отрывках его произведений. В 104-м фрагменте, например, Гераклит говорит о демократических руководителях своего города: «Ибо каков у них ум или рассудок? Они верят народным певцам и учитель их — толпа. Ибо не знают они, что много дурных, мало хороших» [37, т. I, с. 163]. Основное положение политического мировоззрения Гераклита — власть должна была бы принадлежать меньшинству «лучших». Восхваляя этих «лучших», он говорит: «Ибо наилучшие одно предпочитают всему: вечную славу [всему] тленному. Толпа же набивает свое брюхо, подобно скоту» [там же, с. 152]. По-видимому, аристократизм, выраженный в этих высказываниях, не только духовный, но и политический. Это ясно из фрагмента 121-го. Здесь Гераклит желчно говорит о своих земляках: «Эфесяне заслуживают, чтобы у них все взрослые перевешали друг- друга и оставили бы город для несовершеннолетних, — за то, что они изгнали наилучшего своего мужа Гермодора, говоря: «Пусть не будет среди нас никто наилучшим. А раз такой оказался, то пусть он живет в другом месте и с другими» [37, т. I, с. 166]. Во времена Гераклита сочувствие большинства в Эфесе было уже не на стороне аристократии. Возможно, что именно поэтому Гераклит уклонился от общественно-политической деятельности. В уединении он написал свою книгу, называвшуюся «О природе». Имеется сообщение, что она состояла из трех частей: в первой речь шла о самой природе, во второй — о государстве и в третьей — о боге. В специальной литературе по истории науки (Поль Таннери, «Первые шаги древнегреческой науки») было высказано мнение, будто в отличие от милетских ученых-материалистов — Фалеса, Анаксимандра — Гераклит не столько «физик», или «физиолог», как они, сколько «богослов». Впечатление это, быть может, обусловлено тем, что до нас дошло мало отрывков из первой части его сочинения, где речь шла о природе. Впрочем сам. Таннери признает большое сходство взглядов Гераклита на физическую природу светил и на их движения со взглядами древних египтян. Но египетские жрецы, от которых до Гераклита могли дойти эти воззрения, будучи богословами, одновременно были и учеными — астрономами и математиками. Они усвоили результаты вавилонской науки, и сами тщательно вели астрономические наблюдения, поставленные в Египте ввиду необходимости предвычисления разливов Нила на службу по ведению календаря. Чрезвычайно оригинальная по содержанию и образная по языку, сжатая, изложенная, возможно, в афористической форме, во многом трудная для понимания (отсюда прозвище Гераклита — «темный»), книга Гераклита высоко ценилась поздними античными писателями и часто цитировалась ими. Этими качествами сочинения Гераклита объясняется то, что до нас дошло из него около 130 отрывков, правда небольших. В своей сумме они дают возможность охарактеризовать по крайней мере некоторые основные черты мировоззрения этого замечательного мыслителя. Быть может, невозможность оказать ощутимое влияние на ход дел в общественно-политической жизни родного города, где во времена Гераклита торжествовала власть демоса, привела Гераклита к явному пессимизму во взглядах на жизнь. Древние даже прозвали его «плачущим» в противоположность Демокриту — великому материалисту второй половины 5 — начала 4 в. до н. э., который получил прозвище «смеющегося». Пессимизм Гераклита сказался в 20-м фрагменте, где читаем: «По-видимому, Гераклит смотрит на рождение, как на несчастье. Он ведь говорит: «Родившись, они (т. е. люди, — В. Л.) хотят жить и умереть или, скорее, найти покой, и оставляют детей, чтобы и те умерли» [37,т. I.e. 151]. Ни пессимизм, ни аристократизм не ослабили проницательность, с которой Гераклит наблюдал и постигал непрерывную изменчивость в общественной жизни и в природе. Оценка результатов этой изменчивости была у него отрицательной, мрачной, но огромную роль изменчивости и борьбы в человеческой и природной жизни Гераклит понял очень глубоко. Основное положение философии Гераклита передает Платон в своем диалоге «Кратил». Платон сообщает: «Где-то говорит Гераклит, что все движется и ничто не покоится (panta cwrei ouden menei) и, уподобляя сущее течению реки, он говорит, что невозможно дважды войти в ту же самую реку» [Kratylus, 402 А]. (Впоследствии обе эти части отрывка «сплавили» в одну формулу «все течет — panta rei», которой в текстах самого Гераклита нигде нет.) Движение — наиболее общая характеристика процесса мировой жизни, оно распространяется на всю природу, на все ее предметы и явления. Тезис об универсальности движения относится одинаково и к вечным вещам, которые движутся вечным движением, и к вещам возникающим, которые движутся временным движением. Вечное движение есть вместе с тем и вечное изменение. По свидетельству Аристотеля, Гераклит говорил: «Не только ежедневно новое солнце, но солнце постоянно, непрерывно обновляется» [Meteorologica, В, 2.355 а 13; 37, т. I, с. 148]. Мысль о всеобщности движения и изменения тесно связана у Гераклита с диалектическим пониманием самого процесса движения. Именно эта сторона учения Гераклита вызвала впоследствии возражения Аристотеля. Гераклит утверждает, что из факта движения и непрерывной изменчивости всех вещей следует противоречивый характер их существования, так как о каждом движущемся предмете необходимо одновременно утверждать, что, поскольку он движется, он и существует и не существует в одно и то же время. Упоминая об этом учении Гераклита, Аристотель возражает против него. «Невозможно допускать, — пишет Аристотель, — чтобы какая-либо одна и та же вещь существовала и в то же время не существовала, как, по мнению некоторых, говорил Гераклит» [7, 4, 3, 1005 в 23]. Полемизируя с Гераклитом по поводу его характеристики движения как осуществленного противоречия, Аристотель сообщает нам важный текст самого Гераклита. Мы узнаем из этого сообщения, что, по учению Гераклита, «[неразрывные] сочетания образуют целое и нецелое, сходящееся и расходящееся, созвучие и разногласие: из всего одно и из одного все образуется» [De mundo, 5 396 в 7]. Будучи универсальным, т. е. охватывая все явления, движение имеет единую основу. Это единство запечатлено строгой закономерностью; мыслящее исследование обнаруживает в нем господствующую над ним необходимость. Эту мысль Гераклит изложил в нескольких афоризмах, из которых самый важный — 30-й: «Этот мировой порядок, — говорит Гераклит, — тождественный для всех, не создал никто ни из богов, ни из людей, но он всегда был, есть и будет вечно живым огнем, мерами вспыхивающим и мерами угасающим» [37, т. I, с. 152]. В приведенном тексте налицо несколько важных мыслей. В нем Гераклит не просто утверждает, что все возникает из одного и что все возникающее становится одним. Это «одно» (en) «он определяет как единое первовещество «огня». В этом своем утверждении Гераклит по существу материалист. Не удивительно, что Гераклит остановился именно на огне как на первовеществе. Ведь основная характеристика гераклитовского бытия — его подвижность. Но именно огонь — наиболее подвижное, изменчивое из всех наблюдаемых в природе явлений. Вторая важная мысль 30-го фрагмента — отрицание акта сотворения мира богами. Наконец, третья мысль фрагмента — мысль о строгой правильности мирового строя, о строгой ритмичности мирового процесса. Вечно живой огонь мира пламенеет не беспорядочно, а вспыхивает «мерами» и «мерами» же угасает. Понятие Гераклита о закономерности природы ни в коем случае не следует модернизировать, т. е. приписывать Гераклиту такое понятие о закономерности, которое еще не могло возникнуть у греков в конце 15 — начале 5 в. до н. э. «Закономерность» Гераклита — не та закономерность природы, о которой учили великие механики, физики и астрономы XVII в. Возможно, что Гераклит впервые почерпнул понятие о закономерности из наблюдений не столько над физической природой, сколько над политической жизнью общества и уже- оттуда перенес их на физическую природу. Есть основания предполагать, что сохранившиеся фрагменты, в которых у Гераклита речь идет о «законах», принадлежат ко второй части его сочинения, к той, где, по сообщению Диогена, Гераклит говорил о государстве. В этой связи обращает на себя внимание 44-й фрагмент, где говорится, что «за закон народ должен биться, как за [свои] стены» [там же, с. 153]. А в 33-м фрагменте Гераклит прямо определяет закон как «повиновение воле одного» [там же]. Свои понятия о необходимости мирового процесса Гераклит еще связывает с мифологическими представлениями. Так, в 94-м фрагменте мы читаем следующее: «Ибо Солнце не преступит (положенной ему) меры. В противном случае его настигнут Эриннии, блюстительницы правды» [37, т. I, с. 162]. Солнце движется по строго определенному пути. Но это не определение «законов природы». Гераклит — не Кеплер и не Ньютон, выводящий механические законы движения планет из закона всемирного тяготения. Мысль Гераклита полуфилософская, полумифологическая: блюстительницы правды Эриннии настигли бы Солнце и покарали бы его, если бы Солнце вздумало сойти с назначенного ему пути. И точно такой же, полумифологический, оттенок имеет и 11-й фрагмент. В нем подчеркивается мысль, что все живые существа повинуются в своих действиях закону, однако характеризуется этот закон не в понятиях науки о природе, а в полумифологических представлениях, свойственных греческому мышлению того времени. «Животные дикие и ручные, — пишет Аристотель, — обитающие в воздухе, на земле и в воде, рождаются, созревают и погибают, повинуясь божественным законам». А дальше, в подтверждение своей мысли, Аристотель цитирует Гераклита: «Всякое пресмыкающееся бичом [бога] гонится к корму» [De mundo, 5, 396 в 7; 37, т. 1, с. 149]. Таким образом, у Гераклита материализм учения о первовеществе сочетается с наивными остатками мифологических представлений. В сохранившихся фрагментах Гераклита имеется ряд прекрасных по стилю отрывков, в которых Гераклит говорит, что процесс изменения, происходящий в природе, есть борьба противоположностей. Гераклит не просто утверждает, что движение предполагает сосуществование противоположностей. Он выражает свою мысль сильнее. Движением предполагается не только одновременное существование противоположностей, но повсюду происходит их борьба. По этому поводу в своей «Этике» («Этика Никомаха»), во 2-й главе 8-й книги, Аристотель сообщает важный текст Гераклита: «Расходящееся сходится, и из различных (тонов) образуется прекраснейшая гармония, и все возникает через борьбу» [15, VIII, 2, 1155 в 4]. А ранний христианский писатель, богослов и философ Ориген сообщает другой текст Гераклита (фрагмент 80-й), и согласно ему «должно знать, что война всеобща, что правда есть раздор и что все возникает через борьбу и по необходимости» [37, т. I, с. 161]. В полном согласии с этими текстами другой ранний христианский писатель Ипполит, который написал специальный труд — опровержение всех ересей, т. е. «языческих» взглядов древних философов, цитирует из Гераклита: «Война есть отец всего, царь всего, она сделала одних богами, других людьми, одних рабами, других свободными» [37, т. I, с. 157]. Ни Ипполит, ни Ориген, ни Аристотель не объясняют и не могут объяснить, откуда возникла у Гераклита мысль о войне и борьбе как о начале, порождающем все в жизни. Возможно, что и эта мысль Гераклита о войне как о начале, порождающем все существующее, была перенесена Гераклитом на всю природу из наблюдений над фактами общественной жизни современного ему греческого (и не только греческого) общества. Уже было выше отмечено, что зрелый период деятельности Гераклита относится ко времени, когда персидский мир надвигался на Грецию, когда в ионийских городах Малой Азии возникло восстание против персидского завоевания, когда пал в неравной борьбе против персов Милет и другие греческие города и когда все Ионийское побережье подчинилось власти персидского царя Дария. С другой стороны, обострение борьбы классов внутри греческих городов привело к тому, что старая аристократия, в том числе и Гераклит, выражавший ее точку зрения в политических вопросах, были оттеснены с арены политического действия. Наблюдения над этими фактами могли внушить проницательному уму Гераклита мысль о громадном значении, которое для человеческого общества имеет борьба. Отсюда уже естественной представлялась попытка распространить эту мысль на понимание природы в целом, так как человеческая мысль обычно стремится понять неизвестное в терминах того, что уже известно и освоено. Признав в качестве основной характеристики бытия борьбу противоположностей, Гераклит в то же время в ряде афоризмов поясняет, что борющиеся противоположности не просто сосуществуют: они переходят одна в другую и переходят так, что при этом их переходе одной в другую сохраняется общая для обеих тождественная основа. Другими словами, переход противоположностей друг в друга Гераклит представляет вовсе не как такой, при котором возникающая новая противоположность уже не имеет ничего общего с той, из которой она возникла. Он представляет этот переход как такой, при котором всегда имеется в процессе перехода общая тождественная основа для самого перехода. Эта характеристика перехода развивается в ряде важных фрагментов. В 126-м утверждается, что «холодное становится теплым, теплое — холодным, влажное сухим, сухое — влажным» [37, т. I, с. 167]. Во фрагменте 76-м, сообщенном Максимом Тирским, говорится, что «огонь живет смертью земли, воздух живет смертью огня, вода живет смертью воздуха, земля — смертью воды» [37, т, I, с. 160]. В то же время в ряде других фрагментов Гераклит поясняет, что при всех переходах основа изменения или перехода каждого явления (элемента) в свою противоположность остается общей, тождественной. В 67-м фрагменте мы читаем: «Бог есть день и ночь, зима и лето, война и мир, насыщение и голод [все противоположности]» [37, т. I, с. 159]. Как понимать этот отрывок? День переходит в ночь, ночь переходит в день, зима переходит в лето, лето переходит в зиму, война сменяется миром и наоборот, но при этих переходах «бог» есть тождественная основа всех переходов: он есть и день и ночь, и зима и лето, и война и мир, и насыщение, и голод. В 59-м отрывке та же мысль поясняется более частным примером: «Тождествен, — говорит Гераклит, — прямой и кривой путь у валяльного винта» [37, т. I, с. 158]. Прямой и кривой путь — противоположности, но в самой их противоположности существует единая тождественная основа. А в примыкающем к этому 60-м фрагменте утверждается, что «путь вверх и вниз один и тот же» [там же]. И здесь подчеркивается «тождество» противоположностей, постоянно переходящих друг в друга. Более того, Гераклит резко полемизирует с теми, кто не понимает этого тождества противоположностей. В важном 51-м фрагменте он порицает всех тех, которые не признают или не знают единства противоположностей. Здесь мы читаем: «Они не понимают, как расходящееся согласуется с собой (т. е. не понимают, как в противоположностях обнаруживается их единая, тождественная основа. — В. А.) [Оно есть] возвращающаяся [к себе] гармония подобно тому, что [наблюдается] у лука и лиры» [там же, с. 155]. Постоянное движение, изменение, переход каждого явления в противоположное имеют в качестве необходимого следствия относительность всех свойств вещей. Ни одно качество вечно изменяющейся природы не есть свойство безотносительное, абсолютное. Мир един, в мире все связано между собой, всякое явление и свойство переходит в собственную противоположность, и потому всякое качество должно характеризоваться не как изолированное и в своей изолированности абсолютное, а как качество относительное. Мысль эта излагается в ряде фрагментов, интересных и важных для понимания Гераклита. При этом заслуживает внимания то, что примеры, доказывающие относительность свойств, качеств, Гераклит черпает главным образом из наблюдений над жизнью людей и частично животных. Говоря в «Этике», что «иное удовольствие у лошади, иное у собаки и иное у человека», Аристотель ссылается на слова Гераклита: «Ослы солому предпочли бы золоту» [37, т. I, с. 148]. Стало быть, по Гераклиту, нельзя думать, будто золото — безотносительная, абсолютная ценность. Ценность его относительна: в глазах людей оно составляет высочайшую ценность, но для ослов гораздо большую ценность имеет корм. А в 37-м фрагменте читаем: «Если только верить Гераклиту Эфесскому, который утверждает, что свиньи купаются в грязи, птицы в пыли или в тепле» [там же, с. 154]. И здесь подчеркивается относительность представления о чистоте: люди полагают, что они очищаются, когда они выкупаны в воде, свиньи — в грязи, а птицы — в пыли. В 61-м фрагменте морская вода характеризуется одновременно и как «чистейшая» и как «грязнейшая»; «для рыб она питательна и спасительна, — говорит Гераклит, — людям же негодна для питья и пагубна» [там же, с. 158]. Мысль об относительности свойств получает еще более общую формулировку в 62-м фрагменте. «Бессмертные, — утверждает здесь Гераклит, — смертны, смертные — бессмертны: жизнь одних есть смерть других и смерть одних есть жизнь других» [там же]. Относительность свойств распространяется и на оценки эстетические и на оценки, касающиеся человеческой мудрости, и на оценки нравственных качеств: «Муж, — утверждает Гераклит, — считается глупым у божества, подобно тому как ребенок у взрослого» [там же, с. 161]; «…самая прекрасная обезьяна безобразна по сравнению с родом людей» [там же]; «…мудрейший из людей по сравнению с богом кажется обезьяной — и по мудрости, и по красоте, и во всем прочем» [там же]. Гераклит — один из первых античных философов, от которых сохранились тексты, относящиеся к вопросу о познании. Ни у Фалеса, ни у Анаксимандра, ни у Анаксимена мы не находим высказываний, касающихся вопросов о знании. Только говоря о Ксенофане, мы отметили его скептицизм — отрицание способности человека познать истинную природу вещей. Однако у Ксенофана интерес к вопросу о познании выступает в неразвитом виде. Напротив, у Гераклита мы находим уже большой интерес к проблеме познания. Он выразительно оттеняет трудности, стоящие перед человеком на пути к познанию, неисчерпаемость предмета изучения. Таково уже познание психических явлений: «По какой бы дороге ни шел, не найдешь границ души: настолько глубока ее основа» [там же, с. 154]. Джон Барнет (Burnet) в своей работе «Early Greec Philosophy» (London, 1908) вместо «ее основа» переводит «ее мера» (the measure of it, p. 152). В еще более обобщенной форме, касающейся всякого познания природы, эта мысль выражена в 123-м фрагменте, где Гераклит говорит: «Природа… любит скрываться» [37, т. I, с. 167]. Это значит, что познание природы дается человеку нелегко. Ответы на задачи познания не лежат на поверхности вещей. Необходимы большие усилия, чтобы проникнуть в истинную природу вещей. Этот смысл имеет, по-видимому, 56-й фрагмент: «Люди, — говорит здесь Гераклит, — обманываются относительно познания видимых [вещей]; подобно Гомеру, который был мудрее всех эллинов, взятых вместе» [там же, с. 157]. Проблема истинного знания не сводится к вопросу о количестве накопленных знаний. Правда, для философского постижения истинной природы вещей необходимо обладание большими познаниями: «Ибо очень много должны знать мужи философы» [там же, с. 153]. Однако отсюда вовсе не следует, будто задача философского познания истинной природы вещей может быть решена простым приумножением или коллекционированием знаний. Мудрость, как ее понимает Гераклит, не совпадает с многознанием, или эрудицией: «Многознание не научает уму. Ибо, в противном случае, оно научило бы Гесиода и Пифагора, а также Ксенофана и Гекатея» [там же, с. 154]. Особое негодование Гераклита вызывает Гесиод. Это видно из 57-го фрагмента, где Гераклит противопоставляет поверхностному многознанию углубленное понимание таящегося от внешних взоров единства противоположностей: «Учитель же толпы — Гесиод. Они (т. е. «толпа», большинство. — В. А.) убеждены, что он знает больше всех, — он, который не знал, что день и ночь — одно» [там же, с. 155]. Гераклит не только возражает против слепого накопления знаний, не пронизанных светом постигающей философской мысли. Он также возражает против безотчетного следования традиции, против некритического заимствования чужих взглядов. В 74-м фрагменте об этом сказано очень выразительно: «Не должно поступать как дети родителей, то есть выражаясь попросту: так, как мы переняли» [там же, с. 160]. Это и значит: не следует что-либо перенимать некритически, догматически. — В принципе мышление — одно для всех людей. «Мышление, — читаем в 113-м фрагменте, — общее для всех» [там же, с. 165]. Все «желающие говорить разумно должны опираться на это всеобщее, подобно тому, как государство [зиждется] на законе, и даже еще крепче» [37, т. I, с. 165]. Это воззрение — отнюдь не «чисто» гносеологическое или онтологическое. Общий для всех людей закон, о котором здесь идет речь, Гераклит характеризует как «божественный»: «Ибо все человеческие законы питаются единым божественным. Ибо последний господствует насколько ему угодно, довлеет всему и все побеждает» [там же]. Этот правящий миром закон есть, по Гераклиту, «слово», или «логос» (logoV), и люди имеют с ним постоянное общение. Однако, несмотря на это постоянное общение, люди, по убеждению Гераклита, в своем большинстве расходятся с «законом», или «разумом» («логосом»). И Гераклит задается вопросом о том, почему это происходит. Объяснение Гераклита проливает свет на его взгляд относительно чувственного познания. В 107-м фрагменте он говорит: «Плохие свидетели глаза и уши у людей, которые имеют грубые души» [там же, с. 164]. Фрагмент этот толковали в том смысле, будто Гераклит отвергает в нем чувственное познание как несовершенное, будто при помощи зрения и слуха мы не можем получить верного знания о природе. Но мысль Гераклита не такова. Он говорит, что внешние чувства не дают истинного знания только тем людям, у которых грубые души. Стало быть, дело не в самих внешних чувствах, а в том, каковы люди, обладающие этими чувствами. У кого души не грубые, у того и внешние чувства способны давать истинное знание. Но чувства, по Гераклиту, не могут дать полного, окончательного знания о природе вещей. Такое знание дает нам только мышление. Однако мышление Гераклит представлял себе, по всей видимости, как познавательную деятельность, не отдельную от чувств, а завершающую деятельность внешних чувств, способную приводить людей, души которых не грубы, к истинному познанию. Может быть, в этом смысле Гераклит говорит в 112-м фрагменте, что «мышление есть величайшее превосходство, и мудрость состоит в том, чтобы говорить истину и, прислушиваясь к голосу природы, поступать согласно с ней» [там же] Мудрость отвлекается и отвращается от всего, что не есть истина. Таков, надо полагать, смысл 108-го фрагмента, в котором Гераклит заявляет: «Из тех, чьи речи я слышал, ни один не дошел до познания, что мудрость есть от всего отрешенное» [там же]. Но хотя большинству людей недос1упно истинное познание и хотя большинство не знает правящего миром «логоса», Гераклит вовсе не считает такое положение вещей неизбежным. В принципе Гераклит полагает способность к истинному познанию общей для всех людей, а человеческий род — причастным к разуму. Всего выразительнее он высказывает это свое убеждение в 116-м фрагменте, где он прямо утверждает, что «всем людям дано познавать самих себя и быть разумными» [37, т. I, с. 165]. И, кажется, в этом же смысле он говорит в 115-м фрагменте, что «душе присущ логос, сам себя умножающий» [там же]. Как бы ни решал Гераклит вопрос об отношении мышления к чувствам, или ощущениям, бесспорны попытки Гераклита возвести душу в целом к ее материальной основе. Такую основу Гераклит видит в сухом огненном веществе. Физике огня в психологии Гераклита соответствует учение об огненной «психее». В связи с этим Гераклит утверждает, будто мудрейшая и наилучшая та душа, природа которой характеризуется «сухим блеском» [там же]. И наоборот, наихудшая душа у пьяниц: «Пьяный шатается, и его ведет незрелый юноша. Он не замечает, куда идет, так как душа его влажная» [там же]. В истории философии нового времени Гераклит, естественно, привлекал к себе внимание тех философов и историков философии, которые высоко ценили диалектику. Привлек он к себе внимание и Гегеля, который заявлял, что в философии Гераклита нет ни одного положения, которое он, Гегель, не мог бы включить в собственную философию. Но Гегель был неточен, так как Гераклит в основных принципах своей философии — материалист, выводит все из огня, а Гегель — идеалист и выводит все сущее из абсолютной идеи. Но как бы ни было преувеличено утверждение Гегеля, оно говорит о том, что Гегель высоко ценил диалектику Гераклита. В середине XIX в. в Германии известный деятель рабочего движения Фердинанд Лассаль написал большую монографию о Гераклите. Основная тенденция Лассаля в его толковании Гераклита была ошибочна. Она состояла в том, что Лассаль попытался превратить Гераклита в Гегеля древнего мира, подвести положения наивной диалектики и наивного материализма Гераклита под учения идеалистической диалектики Гегеля. Это стремление Лассаля было ошибочным, во-первых, потому, что Лассаль хотел превратить наивного материалиста, каким был Гераклит, в идеалиста; во-вторых, потому, что, сближая диалектику Гераклита с диалектикой Гегеля, Лассаль искал в далеком прошлом такие черты диалектики, которые в этом прошлом еще не могли возникнуть. Книга Лассаля о Гераклите изучалась Марксом, Энгельсом и Лениным. Все они с полным единодушием отметили крупные ее недостатки и ошибочные воззрения. Ленин отметил, что Лассаль приближает Гераклита к Гегелю, «прямо-таки топя Гераклита в Гегеле» [3, т. 29, с. 308], Он находит у Лассаля «рабское повторение Гегеля по поводу Гераклита!» [там же, с. 306]. «Учености» у Лассаля, особенно в исторической части, тьма, «но эта ученость низшего сорта: задали задачу — отыскать гегелевское в Гераклите. Старательный ученик выполняет ее «блестяще», перечитывая у всех древних (и новых) писателей все о Гераклите и все толкуя под Гегеля» [там же]. В результате, как заключает Ленин, впечатление получается такое, что идеалист Лассаль оставил в тени материализм или материалистические тенденции Гераклита, «натягивая» его под Гегеля. И Ленин приходит к выводу, что суровый отзыв Маркса о книге Лассаля был справедлив и что принимать всерьез гегельянизацию Гераклита нельзя. 2. Элейская школа Элейской школой называйся древнегреческая философская школа, учения которой развивались начиная с конца 6 в. вплоть до начала второй половины 5 в. до н. э. тремя крупными философами — Парменидом, Зеноном и Мелиссом Два первых — Парменид и Зенон — жили в небольшом италийском городе Элея, а третий — Мелисс — был уроженец далекого от Элеи Самоса. Но так как основные учения школы были выработаны Парменидом и Зеноном, гражданами из города Элеи, то школа в целом и получила название элейской. ПарменидПервым по времени деятелем и корифеем школы был Парменид (родился около 540 г. до н. э.). Имеются сообщения, будто родоначальником элейской школы был Ксенофан, прибывший на склоне лет в Элею. Во всяком случае в учениях Ксенофана и Парменида есть ряд общих положений: мысль о единстве и о неподвижности истинно сущего бытия. Однако, по-видимому, Парменид в гораздо большей степени, чем с Ксенофаном, был связан с кругом пифагорейцев; в молодости, а может быть, не только в молодости Парменид разделял некоторые воззрения пифагорейцев и орфиков. Достигнув зрелости, Парменид разработал оригинальное философское учение. Некоторые его положения направлены против пифагорейцев, от которых он в это время отдалился. Но еще более резко выступил он против Гераклита и Анаксимена, т. е. против ионийских материалистов. Нелегко ответить на вопрос, кем был сам Парменид: материалистом или идеалистом. Вряд ли можно сомневаться в том, что логика развития элейской школы в целом вела от материализма к идеализму. В частности, ясно выступает в последующей истории греческого идеализма зависимость Платона от Парменида. Третий деятель элейской школы, самосский флотоводец Мелисс, возможно (хотя недостоверно), клонился уже к идеализму. Но уже у Парменида, так же как и у его ученика Зенона, мы найдем в теории познания резкое противопоставление разумного знания знанию чувственному. Противопоставление это, конечно, не есть еще доказательство идеализма, но оно, несомненно, могло содействовать идеалистическому крену в философии элейцев. С утверждением некоторых историков философии, будто Парменид был идеалист, плохо согласуется космология Парменида. Бытие, как оно существует по истине, Парменид представляет в виде огромного сплошного шара, неподвижно покоящегося в центре мира. Вряд ли можно сомневаться в том, что это представление о мире как о бытии вещественном. С другой стороны, одно из основных положений Парменида — утверждение, что мысль и предмет мысли — одно и то же. Ни в коем случае не следует понимать это утверждение в духе поздней идеалистической «философии тождества»: как тезис, будто предмет мысли есть, по своей природе, мысль. Парменид утверждает другое: мысль — это всегда мысль о предмете. Мысль не может быть отделена от своего предмета, от бытия. Мысль — всегда бытие. Даже когда мы пытаемся мыслить небытие, оно все же в каком-то смысле существует. Оно существует, оно имеет бытие, по крайней мере в качестве мысли о небытии. Мысль о небытии во всяком случае существует. Но это значит, другими словами, что никакого небытия, в строгом смысле этого слова, нет. Существует одно только бытие. Тезис Парменида может показаться совершенно отвлеченным, умозрительным. Но это не так. Тезис этот в философии Парменида имел вполне конкретный, а именно физический и космологический смысл. Согласно Пармениду, «небытие» — то же самое, что пустота, пустое пространство. Стало быть, когда Парменид утверждает, что небытия нет, это означает в его устах, что в мире нигде нет пустоты, нет ничем не заполненного пространства, нет пространства, отделенного от вещества. Поэтому, когда Парменид говорит: «Одно и то же есть мысль и то, о чем она мыслит», — то утверждение это необходимо понимать прежде всего в его физическом и космологическом смысле: неверно думать, говорит Парменид, будто в природе может существовать пустота; мир — сплошная масса вещества, или шаровидное тело. Существует только бытие как лишь сплошь заполненное веществом пространство, и это бытие сферично, имеет. форму шара («сфайра» по-гречески — шар). Из невозможности пустоты и из совершенной сплошной заполненности пространства веществом получался вывод: мир един, в нем нет и не может быть никакого множества отдельных вещей. По истине существует только единство, множества нет. В природе нет никаких пустых промежутков между вещами, никаких щелей или пустот, отделяющих вещи одну от другой, а следовательно, никаких отдельных вещей. Учение это было направлено против пифагорейцев. Мы уже показали, что именно Пифагор и его ученики утверждали существование пустоты. Правда, пустота пифагорейцев еще не была абсолютной пустотой атомистов, она скорее походила на воздух. Но все же пифагорейцы утверждали реальное существование этой воздухообразной пустоты, со всех сторон обнимающей мир. По их учению, живое шаровидное тело мира дышит, втягивает в себя пустоту извне. В результате мир разделяется на обособленные вещи, которые и отделяет одну от другой пустота. Именно против этого представления и направлено элейское отрицание пустоты и множества. Из этого отрицания следовал и другой вывод — в отношении познания. Если по истине мир един, если в нем нет никакого множества и никаких отдельных частей, то отсюда вытекало, что множество, как будто удостоверяемое нашими чувствами, есть на самом деле только обман чувств. Картина мира, внушаемая нам чувствами, не истинная, иллюзорная. Гораздо более резко, чем против пифагорейцев, Парменид выступает против учения Гераклита. Гераклит утверждал, что основная характеристика природы — вечный процесс периодически происходящих движений. Больше того, Гераклит утверждал, что это движение есть движение через противоположности. Единый огонь, составляющий естественную основу всех движений в природе, по учению Гераклита, одновременно есть и не есть. Учение это подвергается у Парменида резкой критике. Из положений о единстве мира и о его сплошной вещественности Парменид вывел как необходимое следствие невозможность никакого деления или раздробления мира на множество вещей. И точно так же против Гераклита он утверждает невозможность ни возникновения, ни гибели, выводит неподвижность мира. Учение Парменида было первой философской попыткой сформулировать метафизическое понимание природы. Если Гераклит — великий диалектик в античной философии, то Парменид ее первый метафизик, первый антагонист диалектики. Основной характеристикой бытия он провозглашает его неподвижность, неизменность, отсутствие в нем какого бы то ни было генезиса: рождения и уничтожения. Откуда могла возникнуть эта во всем противоположная Гераклиту и враждебная диалектике мысль? Какова жизненная почва и основа элейской метафизики? Вопрос этот правомерен. Философские учения никогда не возникают только как отвлеченные, чисто теоретические построения. Пусть в конечном счете, но философия всегда порождается жизнью, точнее, общественной жизнью. Однако философия — чрезвычайно сложное явление общественной мысли. Поэтому в сложных учениях философии, как сказал об этом Ленин, нельзя видеть «зеркальное», т. е. прямое, непосредственное отражение жизни, породившей эти учения. Отражение ее всегда более или менее сложно, опосредствованно. Однако в конечном счете всякое философское учение — отражение породившей это учение жизни. Элейская школа возникла и развилась в греческом городе-государстве Южной Италии. Здесь промышленность была развита слабее, чем на востоке Греции, большей была роль земледелия, земледельцев и землевладельцев, в политической жизни значительны были силы общественной реакции. Здесь не было, как в ионийских городах, почвы для быстрого развития знаний о природе, не было и близкой среды древних культурных народов Востока, у которых эти знания издревле уже развивались. Не удивительно поэтому, что Парменид и Зенон могли стать философами, в какой-то мере враждебными философским и научным результатам греческих малоазийских школ материализма и материалистической диалектики. Уже ранний пифагореизм заключал в себе элементы, расходившиеся с воззрениями первой школы древнегреческого материализма. Таковы учение пифагорейцев о переселении душ, наклонность к мистицизму, в частности к мистическому пониманию природы души. Но Парменид и Зенон только отчасти опирались на учения пифагореизма. В своей полемике они использовали также некоторые слабые черты и стороны самого античного материализма. Одну из таких слабых черт составляла созерцательность античного материализма, в частности отсутствие в древнегреческой науке эксперимента, а также незнание критерия практики. По крайней мере отчасти развитая Парменидом метафизическая характеристика бытия основывалась на недоверии к той картине мира, которая доставлялась чувствами, и на убеждении в превосходстве ума над ощущениями. Недоверие это имело известные основания. Наблюдения показывали, что чувства способны порой нас обманывать. Однако еще не существовало экспериментальных средств, при помощи которых можно было бы внести коррективы в эту картину. Оставалось только обратиться к умозрению. Но в области умозрения, не контролируемого экспериментом, возможны были самые различные пути и направления. Парменид и за ним его продолжатели пошли по пути метафизическому. Показания чувств они отвергли как иллюзию, как обман. Они стали утверждать, будто чувства способны породить не достоверные знания, а только недостоверные и колеблющиеся «мнения» (doxai) смертных. Только ум ведет к достоверной и незыблемой истине. И все же даже эти недостоверные, добытые на основе чувств и ощущений «мнения» смертных необходимо знать. Поэтому философская поэма, в которой Парменид изложил свое учение, была разделена им на две части: в первой излагалось достоверное учение истины, во второй — недостоверное учение мнения. В этой второй части, возможно, Парменид излагал не собственное учение о природе физических процессов и явлений, а гипотезы физики пифагорейцев, распространившиеся тогда в греческой части Италии посредством устной традиции. Но изложение их не было простым повторением. В физику пифагорейцев Парменид внес ряд значительных изменений. Из них основное состояло в отрицании реального существования пустоты. Физика ПарменидаСогласно учению второй — гипотетическои и вместе с тем натурфилософской — части, в основе всех явлений лежит противоположность света и тьмы… Это учение несколько сродни учению Анаксимандра. Природа светил, их взаимное размещение в пространстве, их движение объясняются так же, как и у Анаксимена, взгляды которого в это время пользовались большим авторитетом. Анаксимандра также напоминает учение Парменида о существовании небесных колец или венцов, которые концентрически облекают Землю. Из этих колец одно наполнено чистым огнем, без всякой примеси, другое наполнено тьмой. Среднее между ними кольцо содержит огонь лишь в известной доле. Земля, согласно этой физике (которая, впрочем, излагается Парменидом лишь как вероятное допущение, без притязания на достоверность), рассматривается как центральное тело мира. Дальнейшие подробности физики, излагаемой Парменидом, содержат объяснения, также гипотетические, ряда явлений, наблюдаемых на небесном своде, а также объяснение атмосферных процессов, догадки о происхождении и о природе чувственных восприятии и, наконец, догадки о природе мышления. Некоторые из воззрений Парменида получили большое значение в дальнейшем развитии научных представлений. Такова догадка о темной природе Луны, которая лишь отражает свет Солнца и сама не способна к излучению света. Ценной была также догадка о зависимости наших чувств и нашего ума от нашей физической природы и от состояния наших телесных органов. Все эти догадки трудно согласовать с категорическими утверждениями некоторых исследователей, будто Парменид был сплошным реакционером в науке и в философии. Интересен вопрос о том, каким образом Парменид, признавший шаровидность мира, представлял себе то, что находится за пределами мирового шара. Заметил ли Парменид трудность, которая таилась для него в этом вопросе, и если заметил, то как он разрешил ее? В текстах самого Парменида ответа на этот вопрос не находим. Вполне вероятно, что если бы Парменид осознал самый вопрос и предложил бы какое-нибудь решение, то это привлекло бы внимание античных писателей и было бы ими отмечено. Возможно, что Парменид оставил вопрос без разрешения или потому, что не заметил самого вопроса, или потому, что, заметив его, Парменид считал его слишком трудным для решения. В своем учении об истине и во взгляде на познание Парменид пришел к выводам, которые, с точки зрения обычного восприятия наблюдаемых явлений, казались чрезвычайно парадоксальными. Наблюдение, опирающееся на внешние чувства, показывает множественность вещей окружающего нас мира. Напротив, Парменид отрицает мыслимость множественности. Множественность существует только для чувств. Однако чувства не дают нам истинной картины мира. Для мысли, для ума мир представляется как строжайшее единство. Далее. Для чувств все вещи, находящиеся в мире, представляются непрерывно движущимися, изменяющимися: возникающими и погибающими. Но, согласно учению Парменида, и это только иллюзия чувств. Истинная картина мира открывается и удостоверяется только умом. Картина эта состоит в том, что мир тождествен, не знает ни возникновения, ни гибели. Мир вечен, неизменен, неподвижен. Именно этот тезис о неизменности и неподвижности мира сделал Парменида родоначальником античной метафизики и антагонистом диалектики Гераклита. И с точки зрения обычного восприятия, и с точки зрения физики, разработанной пифагорейцами, мир состоит из отдельных вещей, отделенных одна от другой пустыми промежутками. Однако и здесь Парменид утверждает, что это не достоверная картина мира, а иллюзия, порождаемая обманчивыми чувствами. Напротив, воззрение, открывающееся уму, требует признания, что пустота, т. е. пространство, отделенное от тел, от вещества, не существует, невозможно. Пространство неотделимо от вещества. Ко всем этим положениям, крайне парадоксальным с точки зрения обычного чувственного восприятия и наблюдения, Парменид присоединил еще одну мысль, которая его современникам должна была представляться чрезвычайно новой и трудной для усвоения. А именно: Парменид пытается установить строгое различие и даже противоположность между истиной и мнением, между знанием совершенно достоверным и знанием, о котором можно сказать, что оно всего лишь не лишено вероятности, есть лишь правдоподобное предположение. Сама по себе эта мысль была весьма ценна. Может быть, именно в наше время больше, чем в какое-либо другое, мы можем уяснить все значение этой мысли. В XVII в., до появления в математике учения о вероятности, разработанного Паскалем, Гюйгенсом и Бернулли, философы-рационалисты относились еще вполне пренебрежительно к вероятностному знанию. Так поступал, например, Декарт, который принимал всерьез в науке только достоверное знание. С тех пор логика и теория познания давно уже выяснили огромное значение вероятностного знания для практики, для науки и для логического мышления. Ни современная наука, ни современная техника, ни современная логика, обобщающая операции доказательства и умозаключения, применяемые в математике, в технике и в физике, были бы совершенно невозможны без вероятностного знания и без умозаключений и рассуждении, приводящих в результате к такому знанию. Таким образом, сама по себе мысль Парменида, указывающая на различие, существующее между знанием достоверным и знанием всего лишь вероятным, была мыслью ценной. Однако Парменид вводит это положение в контекст метафизики, а не диалектики. Он, безусловно, противопоставляет друг другу эти два вида знания. Он связывает достоверное знание с деятельностью ума, а знание вероятное с чувственным восприятием и утверждает, будто чувственное восприятие не может дать истинного знания. Такое знание дает нам только мысль, усмотрение ума. Современникам Парменида вся эта совокупность его учений и положений должна была казаться противоречащей всем обычным представлениям о природе и знании. Поэтому учение Парменида вызвало многочисленные возражения. Это были возражения со стороны тех, кто, опираясь на доверие к показаниям внешних чувств, хотел защитить против Парменида и реальность множества, и реальность изменения, и реальность движения, и возможность существования пространства вне вещей. По-видимому, возражения были настолько серьезны и энергичны, что для школы Парменида возникла необходимость более строго обосновать свои основные утверждения, защитить их от направленных против них, очевидно, очень сильных и многочисленных возражений. Зенон из Элеи и его апорииЗадачу отстоять воззрения Парменида против выдвинутых возражений взял на себя ученик и друг Парменида Зенон [2]. Он родился в начале 5 в. до н. э. (480) и умер в 430 г. до н. э. От его сочинений дошли только многочисленные и небольшие по объему извлечения, сделанные позднейшими античными писателями. Из них на первое место должны быть поставлены свидетельства Аристотеля в «Физике», а также свидетельства Симплиция, комментатора аристотелевской «Физики». Они дают возможность характеризовать то новое, что внес Зенон в греческую науку сравнительно с Парменидом, при всей наивности его аргументации в деталях. Зенон развил ряд аргументов в защиту учения Парменида. Метод, примененный им в этих аргументах, впоследствии дал основание Аристотелю назвать Зенона родоначальником «диалектики». Под «диалектикой» Аристотель в этом случае понимает искусство выяснения истины путем обнаружения внутренних противоречий, заключающихся в мыслях противника, и путем устранения этих противоречий. Метод Зенона сходен с тем, который называется в математике «доказательством от противного». Зенон принимает — условно — тезисы противников Парменида. Он принимает, (1) что пространство может быть мыслимо как пустота, как отдельное от наполняющего пространство вещества; (2) что мыслимо существование множества вещей; (3) что может быть мыслимо движение. Приняв условно эти три предположения, Зенон доказывает, будто признание их ведет с необходимостью к противоречиям. Тем самым доказывается, что предположения эти ложны. Но если они ложны, то необходимо должны быть истинны противоречащие им утверждения. А это и есть утверждения Парменида. Стало быть, утверждения Парменида истинны: пустота, множество и движение немыслимы. Для понимания смысла аргументации Зенона необходимо учитывать обстоятельство, отмеченное Лениным. В «Философских тетрадях» Ленин разъясняет, что ни Парменид, ни Зенон не отрицают реальности пустоты, множества, движения для наших, чувств. Они отрицают лишь возможность мыслить пустоту, мыслить множество и мыслить движение, не впадая при этом в противоречия. Рассмотрим аргументы Зенона в отдельности по этим трем вопросам. Начнем с вопроса о мыслимости пустоты, т. е. пространства, отделенного от вещества. Если мы допустим существование такого пространства, то вступает в силу следующее рассуждение. Все существующее находится где-нибудь в пространстве. Но чтобы; существовать, пространство тоже должно находиться «где-нибудь», т. е. существовать во втором пространстве. Это второе пространство в свою очередь должно существовать в третьем пространстве, и так до бесконечности. Но это абсурдно. Следовательно, пространство как отдельное от вещества немыслимо. Второй вопрос — о мыслимости множества. Допустим, что множество мыслимо. Тогда возникают вопросы: 1. Каким необходимо мыслить каждый в отдельности элемент этого множества? 2. Каким необходимо мыслить общее количество элементов множества: будет ли их сумма числом конечным или бесконечным? Исследование Зенона показывает, что по обоим этим вопросам получаются npoтиворечивые ответы. По первому вопросу — каким должен мыслиться каждый отдельный элемент множества — оказывается, что о каждом таком элементе необходимо придется отвечать, что он одновременно и не имеет никакой величины и бесконечно велик по величине. По второму вопросу — какой должна мыслиться сумма элементов множества — оказывается, что она необходимо должна мыслиться и как число конечное, и как число бесконечное. Исследование по третьему вопросу — о мыслимости движения — так же необходимо приводит к противоречащим утверждениям. Аргументы Зенона по этому вопросу стали особенно знамениты и приобрели широкую известность. Зенон разработал несколько таких аргументов, из которых до нас дошли четыре: «Дихотомия (деление на два)», «Ахилл», «Летящая стрела» и «Стадий» [их анализ см.: 22а, с. 108–119; ср. 59а]. Общая их схема — то же опровержение «от противного». Допустим, вместе с противниками Парменида, будто движение мыслимо. Тогда о движущемся теле или о движущихся телах необходимо придется высказывать противоречащие друг другу утверждения: 1) что движение возможно и 2) что оно невозможно. При помощи четырех аргументов Зенон доказывает, что движение невозможно. Оно невозможно, во-первых, как движение одного-единственного тела, переходящего по прямой из одной ее точки в другую. Чтобы пройти некоторую дистанцию, отделяющую точку А от точки В, тело должно предварительно пройти половину этой дистанции; чтобы пройти половину, оно должно предварительно пройти половину этой половины, и т. д. до бесконечности. В результате этого тело не только не может пройти из точки А в точку В, но не может даже покинуть точку А, т. е. движение от точки А к точке В не может не только завершиться, однажды начавшись, но даже не может начаться. Таков смысл аргумента «Дихотомия». Немыслимость движения одного, отдельно взятого тела доказывается также посредством аргумента «Летящая стрела». По предположению, стрела летит, т. е. движется в пространстве. Но о ней в то же время необходимо утверждать, что она в каждое мгновение полета занимает пространство, равное собственной длине, т. е. пребывает в пределах этой части пространства, «значит» в нем неподвижна. Выходит, стало быть, что летящая стрела и движется, и не движется. Но движение немыслимо и как движение двух тел друг относительно друга.,0но немыслимо, во-первых, как движение по прямой двух тел, разделенных некоторой дистанцией и одновременно движущихся в одном и том же направлении, причем тело, движущееся позади, движется быстрее того, что движется впереди. Зенон доказывает, что при этих условиях тело, движущееся с большей скоростью, никогда не догонит того, что уходит от него с меньшей скоростью. Ахилл, славившийся быстротой своего бега, никогда не догонит убегающей от него черепахи. Пусть Ахилл бежит быстрее черепахи, но по истечении любого промежутка времени, как бы мал он ни был, черепаха успеет пройти расстояние, которое, как бы незначительно оно ни было, никогда не будет равно нулю. Следовательно, рассуждает Зенон, ни в один момент бега вся дистанция, отделяющая Ахилла от черепахи, не превратится в нуль, и потому Ахилл действительно никогда не догонит черепаху. Тот же результат получается, если применить к случаю Ахилла аргумент «Дихотомия». В начальный момент бега Ахилла отделяет от черепахи расстояние АВ. Ахилл догонит черепаху в тот момент, когда это расстояние, уменьшаясь, обратится в нуль. Но чтобы это произошло, расстояние АВ должно предварительно уменьшиться до половины. В свою очередь, чтобы уменьшиться до половины, оно должно предварительно уменьшиться до половины этой половины, и т. д. до бесконечности. Итог тот же, что и в «Дихотомии»: дистанция АВ никогда не обратится в нуль. Аргумент «Стадий» опровергает мыслимость движения, опровергая одну из принятых во время Зенона предпосылок движения — предположение, будто пространство состоит из неделимых частей (отрезков), а время — также из неделимых частей (моментов). Сделаем это допущение. Допустим также, что с противоположных сторон движутся по параллельным линиям равные по величине тела. Допустим, наконец, что тела эти проходят мимо третьего тела той же величины, но неподвижного (см. рисунок).
Тогда получается, что одна и та же точка, движущаяся с равной скоростью, пройдет одно и то же расстояние не в одно и то же время, но пройдет его в одном случае в половину времени, а в другом — в удвоенное время. В одно и то же время крайние точки каждого из движущихся рядов В4 В3 В2 В1 и С1 С2 С3 С4 пройдут мимо всех остальных точек другого движущегося ряда. Однако в то же самое время они пройдут только мимо половины точек ряда, который остается неподвижным во время их движения. Такой различный результат будет зависеть от того, откуда станем мы рассматривать ее движение. Но в результате мы приходим к противоречию, так как половина оказывается равной целому. Другими словами, в аргументе «Стадий» немыслимость движения доказывается из рассмотрения времени, относительно которого предполагается, что оно, как и пространство, состоит из множества дискретных, но якобы соседствующих элементов. Мы убедились, что во всех рассуждениях Зенона вопрос ставится вовсе не о том, можем ли мы воспринимать движение посредством чувств или не можем. В том, что движение воспринимается чувствами, ни Парменид, ни Зенон, не сомневаются. Вопрос состоит в том, возможно ли мыслить движение, если, мысля движение, мы допускаем при этом, что пространство, в котором движутся тела, состоит из множества отделенных одна от другой частей, и если допускаем, что время, в котором протекают все явления и происходит движение, состоит из множества отделенных друг от друга моментов. Неизбежность противоречий, к которым при этих предпосылках приходит мысль, доказывает, по Зенону, что утверждаемая противниками Парменида мыслимость множества невозможна. Тот же смысл имеет и опровержение мыслимости пустого пространства. Суть аргумента Зенона вовсе не в доказательстве того, будто пространство не существует. Зенон доказывает другое. Он доказывает, что пространство не может мыслиться как пространство пустое, как пространство, существующее в какой бы то ни было своей части отдельно от вещества. Аргументы Зенона сообщили мощный импульс дальнейшему развитию античной математики, античной логики и античной диалектики. Эти аргументы вскрыли противоречия в понятиях современной Пармениду и Зенону науки — в понятиях о пространстве, о едином и многом, о целом и частях, о движении и покое, о непрерывном и прерывном. Апории Зенона побуждали мысль искать разрешения замеченных им трудностей. Нависшая над математическим познанием угроза неразрешимых противоречий была устранена впоследствии атомистическим материализмом Левкиппа и Демокрита. МелиссТретьим деятелем элейской школы был Мелисс. О нем известно, что он был уроженцем Самоса и успешно командовал самосским флотом во время войны Афин и Самоса в 440 г. до н. э. Деятельность его относится к середине 5 в. до н. э. Уроженец греческого Востока, Мелисс, по-видимому, учился у ионийских философов. Диоген сообщает даже, будто он слушал Гераклита. Поэтому нелегко ответить на вопрос, каким образом мог он прийти к элейскому учению, во всем противоположному учению Гераклита. Из дошедших до нас отрывков Мелисса видно, что он повторяет учение Парменида о единстве, о вечности и о неизменности истинного бытия. Однако он вносит в учение Парменида и Зенона важное новшество. Парменид утверждал, что мировой шар имеет конечный радиус. Напротив, Мелисс доказывал, что мир может быть вечным, невозникающим и непогибающим только при условии, если радиус мира не есть величина конечная, иначе — если мир бесконечен. Другое, еще более важное новшество Мелисса достоверно не засвидетельствовано. Это приписываемое ему учение о бестелесности мира. Знаменитый древний комментатор V–VI вв. н. э. Симплиций сообщает текст Мелисса, в котором Мелисс говорит, что если бытие едино, то оно не должно иметь тела: «Если бы у него была толщина, [то] оно имело бы части и уже не было бы единым» [37, т. II, с. 107]. На основании этого текста ряд историков античной философии считают Мелисса чистым идеалистом. Однако сообщенный Симплицием текст допускает два чтения, одно из которых уже не имеет идеалистического смысла. К тому же текст Симплиция в приведенной выше редакции плохо вяжется с остальными положениями Мелисса. Поэтому ряд ученых оспаривают идеалистическое истолкование учения Мелисса. В их числе крупнейший в XIX в. ученый, знаток античной философии Эдуард Целлер. В пятом издании своего пятитомного труда «Философия греков (Philosophie der Griechen)» Целлер подробно рассмотрел вопрос о Мелиссе и пришел к заключению, что вряд ли имеются основания видеть в Мелиссе идеалиста. В целом элейская школа все же вошла в историю античной философии как течение, несомненно являвшееся реакцией против ряда результатов, достигнутых развитием ранней материалистической науки и философии греческого Востока вбив первой половине 5 в. до н. э. Но греческие города Южной Италии оказались в 5 в. до н. э. ареной не только движения, направленного против диалектических воззрений философии ионийцев. Здесь же в это время возникает одно из самых замечательных материалистических учений, отмеченных несомненным влиянием физики огня Гераклита, — учение Эмпедокла. 3. Эмпедокл Жизнь и деятельностьДеятельность Эмпедокла протекала в Акраганте (Агригенте) на берегу Сицилии. Агригент был в 5 в. до н. э. одним из значительных по торговле греческих городов Сицилийского побережья. Точная датировка рождения и смерти Эмпедокла затруднительна. Некоторые античные авторы сообщают, будто он прожил 60 лет, другие — свыше 100 лет. Условную дату «процветания» философа некоторые источники относят к 84-й Олимпиаде (около 444 г. до н. э.). По сообщению Диогена, Эмпедокл был знатного рода; в политической борьбе, кипевшей в его время в Агригенте, он поддерживал сторону демократии, достиг высокого положения в ней и твердой рукой стремился оградить молодой в Агригенте демократический уклад от попыток реставрации аристократической власти. В преданиях о жизни и деятельности Эмпедокла много черт явно фантастических, вымышленных. Отделить в сообщениях античных писателей реальное зерно от позднейших недостоверных сообщений нелегко. В вымыслах о нем Эмпедокл предстает как мудрец, как врач и чудотворец сверхчеловеческой мощи. Его деятельность была так же многогранна, как и деятельность первых милетских философов: Эмпедокл вошел в историю греческой культуры как выдающийся философ, поэт, мастер ораторского искусства, основатель школы красноречия в Сицилии. Аристотель говорит, что Эмпедокл первый изобрел риторику и что он умел искусно выражаться, пользуясь метафорами и другими средствами поэтического языка. Эмпедокл изложил свои философские воззрения не в прозаическом трактате, а в поэме «О природе». Из 2000 стихотворных строк этой поэмы дошло до нас только 340. Еще обширнее были «Очищения» Эмпедокла (3000 стихов), из которых дошло только 100 стихов. Впрочем, поэтические качества поэм Эмпедокла не слишком высоки. Уже Аристотель находил, что у Гомера и Эмпедокла «нет ничего общего, кроме поэтического размера, поэтому первого [Гомера] справедливо называть поэтом, а второго [Эмпедокла] — скорее физиологом, чем поэтом» [Poet., 1447, в, 8]. С другой стороны, вразрез с суровой оценкой Аристотеля, следует признать влияние, которое стихотворное изложение Эмпедокла оказало на поэтический стиль знаменитого римского поэта-философа Лукреция Кара. А римский писатель Лактанций прямо говорит об Эмпедокле: «Не знаешь, куда причислять его, к поэтам или философам, так как он написал сочинение о природе вещей в стихах, подобно тому, как у римлян в стихах Написали свои произведения Лукреций и Варон» [37, т. II, с. 144]. Эмпедокл едва ли не первый, после Пифагора, античный философ, о котором уже в древности возникла большая литература, частью полемическая. Против Эмпедокла писали Зенон Элейский и Мелисс. Монографию об Эмпедокле написал крупнейший из учеников Аристотеля Теофраст. Специальные сочинения посвятили Эмпедоклу эпикуреец Гермах и Плутарх. Многочисленные суждения об Эмпедокле и полемику с ним по различным вопросам мы находим у Аристотеля. Для Эмпедокла, как и для первых милетских философов, характерно сочетание глубины умозрения, широкой и точной наблюдательности с практическими тенденциями — со стремлением заставить знание служить жизни. Философия еще не отделяется у Эмпедокла от науки, а в самой науке теоретическое воззрение не отделяется от постановки различных практических задач. Так, Эмпедокл изучал биологические и физиологические явления, развил ряд относящихся к этим явлениям гипотез. Но вместе с тем он прославился как основатель знаменитой в древности медицинской школы. Сохранился ряд, несомненно, в известной части фантастических сообщений о замечательных подвигах Эмпедокла в деле покорения человеком природы. При всех очевидных преувеличениях, которые в них содержатся, эти сообщения говорят, что Эмпедокл поразил современников размахом и изобретательностью при решении больших практических задач. Сохранился рассказ о том, как Эмпедокл изменил климат Агригента: он будто бы пробил проход в скалах, стеной окружавших город, и тем открыл в него путь через образовавшуюся брешь для благотворных теплых ветров. С точки зрения технических возможностей того времени, сообщение это настолько невероятно, что принимать его всерьез, конечно, не приходится. Однако в этом наивном и фантастическом рассказе отразилась реальная черта деятельности Эмпедокла — стремление связать умозрение, теорию с практической деятельностью. Философские взгляды и идеиФилософскую подготовку Эмпедокл получил в школе элейцев. Он слушал Парменида приблизительно в то время, когда Парменида слушал и Зенон. Но Зенон оказался в своей самостоятельной деятельности последователем и защитником парменидовского «учения истины», а Эмпедокл — продолжателем «учения мнения». Один из результатов элейской философии оказал большое влияние на послеэлейское развитие греческого философского мышления 5 в. до н. э. Этот результат — мысль элеицев, согласно которой истинно сущее бытие не может ни погибать, ни возникать. Мысль эту высказал уже Гераклит в своем знаменитом афоризме о несотворенности и вечности мира. Элейцы развили это положение с большой силой, но связали его со своим убеждением в неизменности истинно сущих элементов бытия. После элеицев мысль эта становится предпосылкой крупнейших материалистических учений 5 и первой половины 4 в. до н. э. Таковы учения Эмпедокла в Сицилии, Анаксагора — в Афинах и Демокрита — в Абдерах. Как бы ни отличались они друг от друга, все они исходят, как из незыблемо установленной предпосылки, из положения, провозглашенного элейцами: истинно сущее бытие не может ни возникать, ни погибать. Если мы даже наблюдаем в мире то, что называется генезисом, рождением, изменением или смертью, уничтожением, гибелью, то это лишь обманчивая видимость. Все эти явления должны быть объяснены так, чтобы при любом объяснении не был поколеблен основной и исходный тезис о вечности и неизменности, о невозникаемости и о негибнущей природе истинно сущего бытия. Предпосылку элеицев принимал и Эмпедокл. Но он разошелся с элейцами по вопросу о числе элементов истинного бытия. У элеицев истинное бытие едино, в нем не может быть не только возникновения, изменения, гибели, но не может быть и никакого множества. Эмпедокл отказывается от строгого монизма элеицев. Он не пытается объяснить все разнообразие форм и явлений из одного-единственного материального начала. Таких начал — основных и несводимых друг на друга материальных элементов — он признает четыре. Это огонь, воздух, вода и земля. Эмпедокл называет эти материальные начала «корнями всех вещей». Однако объяснить видимые явления природы, допустив лишь существование этих четырех «корней», невозможно. Чтобы объяснить то, что людям представляется как возникновение или как генезис всех вещей природного мира, необходимо, согласно Эмпедоклу, кроме существования четырех «корней» (материальных элементов, начал), допустить также существование двух противоположных друг другу движущих сил. Элементы, или «корни», приводятся этими силами в движение: или соединяются, сближаются, сочетаются, или, напротив, разъединяются, удаляются друг от друга, расходятся. Согласно Эмпедоклу, жизнь природы состоит в соединении и разделении, в качественном и количественном смешении и соответственно в качественном и количественном разделении вещественных элементов, которые сами по себе как элементы всегда остаются неизменными. Учение это, материалистическое в основе, нельзя понимать в духе последующего — механического — материализма. Здесь еще очень много от древней мифологии. Вещественные начала, или элементы, характеризуются у Эмпедокла не в качестве косной, неодушевленной и мертвой материи, а как божественные существа — живые и способные ощущать. Материальные элементы не оторваны от движущих сил. Всем элементам присуща движущая сила. От этой движущей силы всех элементов Эмпедокл отличает две специфические движущие силы, о которых сказано выше. Деятельная движущая сила выступает в виде двух противоположных сил. Силу, которая производит соединение, он называет Любовью (или Дружбой, Приязнью, Гармонией, даже Афродитой — по имени богини любви, соединяющей мужчину и женщину, а также Кипридой, Весельем, Милостью). Силу, производящую разделение, он называет Ненавистью, Враждой, Аресом. Воззрение Эмпедокла на движущие силы уходит своими корнями в очень древние представления греков. Любовь в качестве природной, правящей или движущей силы выступает в древнем эпосе — в поэме Гесиода. То же значение она сохраняет в поэме Парменида. И точно так же Раздор, Вражда выступали в качестве природных сил уже у таких философов, как Анаксимандр Милетский и Гераклит. Но и учение о четырех «корнях всех вещей» — о материальных элементах земли, воды, воздуха и огня — восходит к весьма древней традиции в истории античной мысли. Четыре элемента — твердый, жидкий, воздушный и тончайший огненный — были известны уже древнейшим космологам. Уже в 6 в. до н. э. орфики, верования которых стали распространяться в период усиления религиозного движения в греческих городах Южной Италии, знали это учение. Мы находим его у Ферекида в середине 6 в. до н. э., а также у сицилийского поэта Эпихарма. Оригинальность Эмпедокла в отличие от этих его предшественников состояла в том, что, заимствовав свою теорию четырех первоначальных веществ из весьма древней греческой традиции, Эмпедокл связал ее с тем понятием об элементе, которое он нашел во второй части поэмы Парменида, где Парменид излагал свои физические гипотезы и где уже наметилось более четкое физическое понятие об элементе. При этом следует только помнить, что Парменид еще не знал термина «элемент», который впервые ввел затем Платон, а пользовался термином «форма». Отделив таким образом движущую или деятельную причину от материальных элементов природы, Эмпедокл затем в каждую из этих двух основ — и в деятельную движущую причину и в материальные «корни всех вещей» — вводит элемент раздвоения. Материальные элементы он разделяет на два класса. Кроме движущих сил Любви и Вражды, которые, собственно говоря, не являются элементами вещей, движущим началом у Эмпедокла оказывается еще и материальный элемент огня. В этом смысле Эмпедокл противопоставляет огонь и воздух в качестве мужских божеств земле и воде как божествам женским. Иногда он рассматривает все четыре элемента как живые вещества. В этом последнем воззрении возрождается древнее гилозоистическое представление: вся природа понимается как живая, одушевленная и даже божественная. Это взгляд, который мы нашли у зачинателя греческой философии Фалеса Милетского. Аэций излагает суть учения Эмпедокла в следующих словах: «Единое шаровидно, вечно и неподвижно, и (это) единое есть необходимость, материя же последней — четыре элемента, виды же — Вражда и Любовь. Он считает богами и элементы и мир, представляющий собой смесь их, и, сверх того, совершенный Шар, в который все они разрешаются. И души он считает божественными существами» [55, с. 303; 37, т. II, с. 148]. По вопросу об отношении единства ко множеству предшествовавшая Эмпедоклу философия выдвинула глубоко противоположные точки зрения элейцев и Гераклита. Для элейцев мыслимо только единство, множества нет, оно только иллюзия чувств. Для Гераклита единое и многое существуют одновременно: все из одного и из всего одно. У Эмпедокла, как правильно отметил Платон, намечается компромиссная, более «нежная», по выражению Платона, точка зрения. В диалоге «Софист» Платон сопоставляет учение Гераклита и Эмпедокла по этому вопросу: «Ионийские же и некоторые позднейшие сицилийские музы (ионийские музы — это Гераклит, сицилийские — Эмпедокл. — В. Л.) одинаково рассудили, что надежнее [будет]… учить, что сущее и множественно и едино, что оно находится во власти Вражды и Любви» [Soph., 242 D; 37, т. II, с. 147]. Ори этом, однако, Платон отмечает и различие между Эмпедоклом и Гераклитом: «Ведь расходящееся всегда сходится, — цитирует Платон Гераклита и добавляет тут же: — [Так говорят] более напряженные Музы, более же нежные отказались от учения, будто положение вещей всегда таково, утверждают же, что попеременно все бывает то единым, полным любви при содействии Афродиты, то множественным, борющимся с самим собой по вине какой-то Вражды» [37, т. II, с. 147]. Здесь Платон очень четко характеризует действительно важное различие между Эмпедоклом и Гераклитом. Диалектик Гераклит мыслит все существующее как такое, в котором обнаруживается единство противоположностей: одновременно существует множество и единство. Напротив, Эмпедокл развивает более «нежное» учение. Согласно его взгляду, противоположности единства и множества, Любви и Вражды существуют не одновременно, а последовательно. Эмпедокл представляет жизнь природы как циклический или ритмический процесс, в котором попеременно берут верх то Любовь, соединяющая физические элементы, то Вражда, разделяющая эти элементы. Над миром властвуют поочередно Любовь и Вражда. Во время господства Любви все становится единым, природа представляет собой бескачественный «шар», в ней уже не сохраняется своеобразие отдельных материальных элементов. В это время мы не найдем в ней ни своеобразных свойств огня, ни своеобразных свойств какого-либо другого из элементов — каждый теряет здесь свой собственный вид. Напротив, во время господства Вражды все становится многим, выступает своеобразие элементов, они выделяются и обособляются. Между периодом полного господства Любви и такого же полного господства Вражды — переходные периоды. Отойдя на периферию мира во время господства в нем Вражды, утвердившейся в центре мира, Любовь начинает победоносно продвигаться к этому центру и частично властвовать, пока не достигнет полного торжества. В это время Вражда удаляется от центра к периферии. Но как только Любовь достигнет победы, Вражда начинает вновь приближаться к центру, а Любовь — к периферии. Мировой процесс и есть ритмическое повторение и вечный возврат этих фаз. При всех происходящих при этом изменениях сами материальные элементы, как это засвидетельствовал Аристотель, не возникают и не погибают. «Элементы эти, — поясняет Аристотель мысль Эмпедокла, — всегда пребывают, и возникновение для них обозначает только [появление их] в большом и малом числе в то время, когда они собираются [каждый] в одно и рассеиваются из одного» [Met., I, 3, 984а; 7, с. 24]. В дополнение к этому комментатор поздней античности Симплиций в пояснениях к «Физике» Аристотеля сообщает об агригентском философе, что Эмпедокл «принимает четыре телесные стихии: огонь, воду, воздух и землю, которые вечны, изменяются же в больших и малых размерах в зависимости от (образуемого ими взаимного) соединения и разделения» [37, т. II, с. 146]. Симплиций подчеркивает, что началами, приводящими эти элементы в движение, у Эмпедокла провозглашаются Вражда и Любовь, ибо материальные элементы «всегда должны совершать движение попеременно в противоположном направлении, то соединяясь Любовью, то разделяясь Враждой» [там же]. Из четырех физических элементов Эмпедокла особо важную роль в его учении играет огонь. Ипполит прямо сообщает, что Эмпедокл, признав началом всего Вражду и Любовь, сказал, что все возникло из огня и в огонь разрешится [см. там же, с. 148]. Это одно из доказательств сильного влияния, которое на Эмпедокла имело, по-видимому, учение Гераклита. Здесь перед нами традиционное для истории греческой философии учение. Согласно этому учению, жизнь природы состоит в выделении противоположностей из огня и в последующем возвращении всех вещей в огонь. Учение это было развито Гераклитом в его теории мирового года и мирового пожара, этого же учения придерживается и Эмпедокл. Как еще в древности отметил Ипполит, на закате греческой философии это учение возобновляется у стоиков — в их учении об огне и о предстоящем воспламенении мира [см. там же]. Ввиду особого значения, которое в физике Эмпедокла имеет огонь, об Эмпедокле можно сказать, что он, строго говоря, оперирует двумя физическими элементами: огнем, который он рассматривает сам по себе, и противоположными огню элементами, каковы для него земля, воздух и вода. Это значение огня в физике Эмпедокла было подчеркнуто также и Аристотелем в четвертой главе первой книги «Метафизики». Здесь Аристотель разъясняет, что хотя Эмпедокл первый признал четыре стихии, рассматривая их в разряде материи, однако в сущности он пользуется не четырьмя, а только двумя элементами: огнем на одной стороне и остальными тремя как противоположными огню — на другой. Эти противоположные элементы, вместе составляющие как бы одну природу, — «земля», «вода» и «воздух» [Met., I, 4, 985а; 7, с. 26]. Но были ли, согласно Эмпедоклу, четыре «корня всех вещей» вечными элементами природы или он думал, будто они образовались из начал, еще более первичных? По этому вопросу находим важное сообщение у Аэция. Он утверждает, будто, по учению Эмпедокла, еще до образования четырех элементов существовали весьма малые материальные частицы — «равночастные элементы», предшествовавшие «четырем корням». Если сообщение Аэция точно, то это значит, что философии Эмпедокла принадлежит известная роль в подготовке будущей теории атомизма. На основе всех этих понятий и учений Эмпедокл развил свое объяснение «генезиса», т. е. происхождения всех вещей природы. Под генезисом он понимает только соединение или составление вечных, невозникающих материальных элементов. Об этом характере учения Эмпедокла о генезисе ясно говорит в сочинении «О рождении и гибели» (в 7-й главе 2-й книги) Аристотель. «В самом деле, — спрашивает он здесь, — какого рода [соединение] будет у тех, которые учат подобно Эмпедоклу?» [De gen. et corr., В 7, 334а 26; 37, т. II, с. 151]. И Аристотель отвечает: «Соединение [у них] должно быть вроде того, как стена [сложена] из кирпичей и камней. И эта смесь будет [состоять] из не подверженных гибели элементов, небольшими частями лежащих друг возле друга» [там же]. Аристотель далее поясняет, что такого рода соединением является, например, мясо и всякая другая вещь. Другими словами, Эмпедокл распространяет свое понимание генезиса на образование тел не только неорганической, но также и органической природы. Развивая эту мысль, Эмпедокл высказал чрезвычайно важную догадку, важную, — несмотря на наивную форму, в какой она была им высказана. Он говорит, будто тела образуются по характеру четырех элементов 9 разных пропорциях. Например, нервы в телах животных и человека образуются из земли и огня в соединении с двумя частями воды. Ногти животных возникают из нервов, которые охлаждаются на поверхности под действием воздуха, кости — из двух частей воды, двух частей земли и четырех частей огня и т. д. [см. 55, 434; 37, т. II, с. 162]. Здесь важно не конкретное содержание этой гипотезы, способное лишь вызвать улыбку, а догадка о том, что тела возникают из элементов при определенных количественных отношениях. Что именно таков был принцип объяснения у Эмпедокла, видно из свидетельства Аристотеля. В трактате «О частях животных» (в 1-й главе 1-й книги) Аристотель пишет, что, согласно Эмпедоклу, «сущность и природа есть количественное отношение» [De part. an., A 1, 642 а 17; 37, т. II, с. 162]. Эта его мысль раскрывается, по Аристотелю, например, в определении, что такое кость. А именно Эмпедокл говорит, что «кость» не есть ни какой-либо один из элементов, ни два, ни три, но «закон смеси их» [там же]. По-видимому, в своих исследованиях Эмпедокл касался и вопроса о характере процесса, посредством которого происходит образование физических тел: неодушевленных и одушевленных. Позднейшие греческие философы-идеалисты упрекали Эмпедокла за то, что он слишком подчеркивал роль случайности в процессе образования тел и вместе с тем отрицал целесообразность в процессе генезиса вещей. Но даже идеалисты, в том числе Платон, вынуждены признать, что у Эмпедокла наряду с мыслью о случайности происхождения элементов была и мысль о природной необходимости этого процесса. По разъяснению Платона, Эмпедокл и его последователи утверждали, будто «огонь, вода, земля и воздух — все это… существует от природы и случая; искусство здесь ни при чем; в свою очередь и последующие тела — это касается Земли, Солнца, Луны и звезд — произошли через посредство этих первооснов, совершенно неодушевленных. Эти первоосновы носились каждая по присущей ей случайной силе. и там, где они сталкивались, они как-то друг к другу прилаживались: теплое к холодному, сухое к влажному, мягкое к твердому…» [Leg., X, 889 В; 40, т. 14, 2, с. 127]. Продолжая свою характеристику, Платон подчеркивает, что, по Эмпедоклу, причиной возникновения вещей была не разумная и целесообразная воля и творчество богов, а только природная необходимость и случайность: из случайного, но согласного с природной необходимостью смешения противоположных основ произошло, согласно платоновской характеристике Эмпедокла, «все небо и все, что на небе, так же как и все животные и растения; отсюда будто бы произошла и смена времен года, а вовсе не через разум — так учат эти люди — и не через какое-либо божество или искусство, но будто бы, повторяем, происхождение всего этого обусловлено исключительно природой и случаем» [там же]. Подробности представлений Эмпедокла о процессе возникновения всех вещей относятся более к истории науки, чем к истории философии. Однако в силу характерной для той эпохи нераздельности науки с философией некоторые из этих подробностей должны быть здесь отмечены. Из первичного смешения элементов прежде всего выделился воздух, который и распространился вокруг. Затем выделился огонь. Не найдя себе места наверху, так как это пространство было уже занято воздухом, огонь стал растекаться под куполообразным сгущением, которое образовал воздух. Поднимаясь кверху, огонь растекался в разные стороны под этим куполом. КосмологияВокруг Земли, согласно космологии Эмпедокла, существуют два полушария; они движутся круговым движением. Одно из них состоит целиком из огня, другое, смешанное, состоит из воздуха и из примеси небольшого количества огня. Это второе полушарие производит своим вращением явление ночи. Начало движения произошло от нарушения равновесия, вследствие присоединения огня. Согласно астрономической гипотезе Эмпедокла, Солнце по своей природе не огненное. Дневное светило, видимое нами каждый день на небесном своде, есть, по Эмпедоклу, только отражение огня, подобное тем, которые бывают на воде. Луна образовалась из воздуха, увлеченного огнем. Этот воздух сгустился наверху наподобие града. Светит Луна не собственным светом, а исходящим от Солнца. Форма мироздания — не шаровидна в точном смысле. Мир приближается по своей форме к яйцу, лежащему в горизонтальном положении. По сообщению Аэция, как следствие из этой догадки, получилось утверждение Эмпедокла, будто расстояние от Земли до неба меньше протяжения Земли в ширину. Ряд древних доксографов отмечают как новое и, по-видимому, поразившее современников учение Эмпедокла о твердости небесного свода. На Востоке, в вавилонской и еврейской космологии, это представление было известно издревле. По Эмпедоклу, небо кристалловидно и образовалось из льдистой материи. Учение это подготовило мысль к возникновению позднейшей космологии, которая представляла мироздание как состоящее из прозрачных концентрических хрустальных сфер. Своим вращением вокруг Земли эти сферы увлекают все прикрепленные к ним небесные светила. Но у Эмпедокла не было еще такого представления. В его космологии только звезды прикреплены к твердому кристалловидному небесному своду, планеты же движутся свободно. Эмпедокл уже ясно отличал планеты, имеющие видимое движение по отношению к окружающим их звездам, от видимо неподвижных по отношению друг к другу звезд. Взгляд на Луну как на тело, образовавшееся путем сгущения воздуха и, стало быть, не самосветящееся, подсказал Эмпедоклу объяснение солнечных затмений. Причину их Эмпедокл видит в том, что иногда темная Луна заслоняет собой Солнце. ФизикаГениальной для своего времени была догадка Эмпедокла о том, что свету требуется известное время для распространения в пространстве. Догадка эта настолько противоречила всем тогдашним представлениям о природе света, что даже в 4 в. до н. э. Аристотель, величайший ученый этого столетия, отнесся к гипотезе Эмпедокла отрицательно. В сочинении «О душе» (в 7-й главе 2-й книги) Аристотель пишет: «Эмпедокл и всякий другой придерживающийся такого же мнения, неправильно утверждали, будто свет передвигается и распространяется в известный промежуток времени между Землей и небесной твердью, нами же это движение не воспринимается… Ведь на малом расстоянии это движение могло бы еще остаться незамеченным, а это уже слишком большая претензия, чтобы оно оставалось незамеченным на протяжении от востока до запада» [De anima, II, 7, 418 в; 9, с. 56–57]. Из рассуждения Аристотеля видно, насколько в этом вопросе наука 4 в. до н. э. была позади Эмпедокла. Впрочем, только Олаф Рёмер в XVII в. впервые доказал, основываясь на оптических явлениях, наблюдаемых при затмениях спутников Юпитера при наибольшем и наименьшем расстояниях этой планеты от Земли, что свет распространяется в пространстве с огромной скоростью — 300 000 км в секунду. Спор между Аристотелем и Эмпедоклом — прекрасная иллюстрация созерцательного характера древнегреческой науки, ограниченной наблюдением и творчеством гипотез, но не располагавшей средствами их экспериментальной проверки. Только в XVII в. наука могла доказать, что прав был Эмпедокл, а не Аристотель. БиологияЭмпедокл был не только выдающийся астроном, физик, но также выдающийся биолог. Особенно замечательны его наблюдения, мысли и догадки, относящиеся к изменениям органических форм. Что организмы, известные в настоящее время, не всегда населяли Землю, а возникли с изменением существовавших на ней условий, об этом догадывались уже ионийские материалисты. Замечательную гипотезу о естественном возникновении новых форм организмов при переходе со дна моря на сушу развил Анаксимандр. Эмпедокл развивает еще более смелую и широкую, хотя и фантастическую, гипотезу. Он предполагает, что первоначально животные и растения были сочетаниями отдельных, самостоятельно существовавших частей. Это были механические и случайные соединения отдельных органов, свободно носившихся в пространстве. Второе поколение животных похоже на фантастические образы мифов: эти существа состояли из уже сросшихся частей, но были еще лишены цельности; третье поколение составили животные, образовавшие цельные тела из частей, соединившихся в одно целое; наконец, существа четвертого поколения возникли уже не прямо, не непосредственно, например из земли или воды, а путем рождения от родителей того же вида. Виды животных разделились сообразно преобладанию того или другого темперамента: одни по влечению темперамента естественно стремились жить в воде, другие — дышать воздухом, чтобы обладать большим количеством огненного элемента, третьи остались вследствие тяжести на Земле [55, с. 430; 37. т. II, с. 151]. Некоторые историки естествознания вычитывали во фрагментах Эмпедокла, посвященных вопросу об образовании органической жизни, даже предвосхищение дарвиновской теории естественного отбора. Сближение Эмпедокла с Дарвином лишено серьезного основания. Но мы находим у Эмпедокла идею выживания форм, оказавшихся целесообразными. По сообщению Симплиция, Эмпедокл говорил, что в периоды господства Любви возникали (сперва как попало, совершенно случайно) части животных — головы, руки, ноги. Затем они механически соединялись. При этом возникали самые причудливые сочетания, например, полубык-получеловек. Только то, что возникло в результате соединения частей, способных сохраниться, стало животным и выжило. Эту мысль Эмпедокла поясняет Аристотель в 8-й главе 2-й книги «Физики». Он сообщает, что, по Эмпедоклу, «части, где все совпало так, как если бы они образовались ввиду определенной цели, — составившись сами собой, определенным образом, — сохранились; в которых этого не произошло, погибли и погибают, как те «быкорожденные мужеликие», о которых говорит Эмпедокл» [Phys., II, 8, 198 в; 14, с. 36]. Наконец, Эмпедоклу принадлежит ряд замечательных идей и догадок, относящихся к вопросам физиологии, медицины и к выяснению механизма наших внешних чувств. В медицине Эмпедокл — один из родоначальников направления, представители которого полагали, что знать врачебное искусство невозможно тому, кто предварительно не исследовал, что такое человек. Медицина не может быть собранием знахарских рецептов, неизвестно на чем основанных или основанных на слепом предании. В теории чувственного восприятие Эмпедокл выдвинул физиологическую гипотезу, на которой основывается его учение о знании. Согласно этой гипотезе при чувственном восприятии мы постигаем подобное подобным. Ощущения образуются путем приспособления каждого из органов ощущений к ощущаемому. Поэтому органы ощущения не могут замещать друг. друга. Часто случается так, что одни поры шире, другие уже ощущаемого, так что иной раз можно схватить ощущаемое посредством чувственного восприятия, в другой раз оно вовсе не может проникнуть через узенькие поры. Теория эта, грубо механистическая и вместе наивная, заключает в себе, однако, зерно глубокой мысли. Она представляет замечательную для того времени попытку вывести специфические особенности отдельных видов чувственного восприятия из строения телесных органов. Эту гипотезу Эмпедокл применяет, в частности, к объяснению зрительных восприятии. Он полагает, что внутри глаза находится огонь — точка зрения не столь уж удивительная, если учтем, какую роль огонь, в качестве основного вещества, играет в «Физике» Эмпедокла. Вокруг огня, помещающегося в глазе, располагаются, наподобие оболочек, земля и воздух. Учение Эмпедокла об устройстве глаза дошло до нас в передаче Теофраста, крупнейшего ученого школы Аристотеля. Исследуя текст Теофраста, знаток греческой доксографии Герман Дильс пришел к обоснованному выводу, что в тексте этом есть пропуск и что, согласно Эмпедоклу, вокруг огня, занимающего внутренность глаза, располагаются не только земля и воздух, но и вода. В самом деле: в продолжении текста Теофраста мы читаем, что огонь легко может пройти внутри глаза через землю и воздух, подобно свету в фонаре и что поры огня и воды расположены внутри глаза попеременно [см. 55, с. 500]. Из теории зрения Эмпедокла выясняется его взгляд на отношение между субъективным и объективным в ощущении. В зрении Эмпедокл видит результат истечении двоякого рода: одни направляются от видимого предмета к глазу; другие, напротив, от глаза к рассматриваемому предмету. Тексты Эмпедокла по вопросам теории познания немногочисленны, но заслуживают внимания. По-видимому, уже Гераклит ставил вопрос об отношении между ощущением и умом. Эмпедокл также обнаруживает интерес к этому вопросу, а в решении его опирается на свою теорию чувственного восприятия. Как при восприятии мы воспринимаем подобное подобным же, так и вообще знание, по убеждению Эмпедокла, возникает из подобных начал, а незнание — из неподобных. Отсюда Эмпедокл выводит, что мышление — то же, что и ощущение, или, во всяком случае, нечто сходное с ощущением. В одном из стихотворных отрывков Эмпедокла читаем:
Так же как и Гераклит, Эмпедокл хорошо видит трудности, возникающие в проблеме познания. Не все сообщения о мыслях Эмпедокла по этому вопросу согласуются между собой. В процитированном фрагменте ясно выступает наивно-материалистическая тенденция. но в сообщении позднего античного скептика Секста Эмпирика учение Эмпедокла характеризуется иначе: Эмпедокл будто бы видел критерий истины не в ощущениях, а в правильном разуме. В основе же правильного разума лежит отчасти нечто божественное, отчасти же нечто человеческое. Однако, если предположить — что — весьма правдоподобно, — что к «человеческому», которое лежит в основе правильного разума, Эмпедокл относил прежде всего ощущения, то между текстом Эмпедокла и характеристикой Секста Эмпирика не будет противоречия: тогда получается, что хотя разум — высший критерий в познании человека, все же источник разума — в ощущениях, и сам разум лишь отчасти божественного происхождения. Сам Секст сообщает текст, подкрепляющий последнее предположение. Он указывает, что, по Эмпедоклу, в основе истинного познания лежит ощущение; однако всякое наличное ощущение должно быть подвергнуто проверке разумом. По-видимому, именно в этом смысле Эмпедокл считал разум высшим критерием. 4. Анаксагор  Приступая к рассмотрению философской и научной деятельности Анаксагора, мы впервые оказываемся на почве Греции в собственном смысле слова. До сих пор мы последовательно рассматривали философские и научные учения, возникшие либо на крайнем востоке греческого мира, в городах Малоазийского побережья, либо на крайнем западе — в греческих городах Южной Италии (Великой Греции) и острова Сицилия. Анаксагор — первый греческий философ, деятельность которого в зрелые годы протекала в Афинах. Однако и он выходец с Востока, уроженец Клазомен в Малой Азии. Чем было обусловлено возникновение нового очага философии и философского развития в Афинах? Исторические предпосылкиВ начале 5 в. до н. э. Афины из сравнительно отсталого земледельческого государства превращаются в мощную торговую и промышленную державу, подчиняют своему влиянию ряд греческих городов-государств («полисов»). Произошло это после того, как, возглавив борьбу греков против персов, Афины в союзе с другими полисами отразили грозное персидское нашествие. Победа, одержанная греческими городами-государствами под главенством Афин, поставила Афины в чрезвычайно выгодное положение. Афины добились впоследствии перенесения в свой город союзной казны. Огромные средства, отчислявшиеся отдельными греческими государствами на общесоюзные дела, порой использовались правителями Афин не только по назначению, но и для расширения и развития могущества и процветания самих Афин. Развитие рабовладельческой промышленности, развитие морской торговли, экономические связи с городами в бассейне Средиземного моря способствовали быстрому и значительному возвышению Афин. Одновременно с этим в Афинах произошли значительные изменения и в политической жизни. На смену так называемой тирании, которая была промежуточной формой власти — на переходе от господства аристократии к господству демоса, — пришла власть рабовладельческой демократии. Как и во всем античном мире, демократия эта имела узкую социальную базу. Это была демократия только для свободных, т. е. для меньшинства, властвовавшего над большинством. Она не распространялась на рабов, лишенных всех политических и гражданских прав. Быстро возвысившись экономически и политически, Афины одновременно стали и крупным культурным центром. Город обстроился прекрасными храмами, зданиями общественного назначения, такими, например, как театр. В Афинах работают или на время сюда приезжают из других греческих городов выдающиеся дипломаты, деятели культуры и искусства, архитекторы, скульпторы, живописцы. Часть выступающих здесь деятелей — коренные афиняне. Один за другим в Афинах появляются великие трагики 5 в. до н. э. — участник борьбы против персов Эсхил, Софокл, Еврипид, великий комический поэт Аристофан. Среди мастеров искусства выдвинулся Фидий, автор знаменитейших в древности скульптурных изображений. Жизнь и деятельностьАнаксагор действовал в Афинах в эпоху, когда руководителем афинской общественной и культурной жизни стал знаменитый государственный деятель Перикл. Анаксагор был родом из малоазийского города Клазомен. Здесь, в Ионии, на родине древнегреческого материализма, молодой тогда Анаксагор усвоил некоторые философские и научные взгляды Анаксимена Милетского. Впоследствии он переселился из Ионии в Афины. Годы его рождения и смерти определяются довольно надежным образом. Аполлодор, которому мы обязаны некоторыми сведениями по хронологии, касающимися многих деятелей древнегреческой культуры, указывает в своих «Хрониках», что Анаксагор родился в 70-ю Олимпиаду (промежуток времени между 500 и 497 гг. до н. э.), умер он в 428 г. до н. э. Преподаванием философии в Афинах и философскими исследованиями он занимался с 456 г. до н. э. Впрочем, сведения относительно года начала его деятельности в различных источниках не совпадают между собой. В философском учении Анаксагора есть черты, сближающие его с предшествовавшим ему материализмом, и есть черта совершенно новая. Эта черта — утверждение Анаксагора, будто существующий мировой строй образовался и продолжает образовываться деятельностью «ума», который приводит в порядок первоначально беспорядочные, хаотически смешанные материальные частицы. Если бы Анаксагор под своим «умом» понимал бестелесное, чисто духовное начало, то его учение походило бы на возникшее в XVII в. учение Декарта, который предполагал в природе существование двух совершенно различных, не имеющих между собой ничего общего начал, или субстанций — субстанции телесной, протяженной, с одной стороны, и субстанции духовной, мыслящей — с другой. Тогда в Анаксагоре следовало бы видеть одного из родоначальников древнегреческого идеализма. Есть, однако, веские основания полагать, что, вводя «ум» в качестве движущей силы и начала, упорядочивающего первоначальный хаос, Анаксагор понимал под «умом» не столько духовное, мыслящее начало, сколько материальную — механическую — движущую силу. Как все ранние греческие мыслители, Анаксагор был не только философом, но и научным исследователем. Круг научных вопросов, которыми он занимался, был очень широк. Видное место среди них занимали вопросы математики. Об этом свидетельствует крупный математик и философ афинской школы неоплатоников Прокл (V в. н. э.). В комментариях к «Началам Эвклида» он сообщает, что после. Пифагора многими вопросами геометрии занимался Анаксагор Клазоменский [70; 37, т. III, с. 125]. Наряду с математикой внимание Анаксагора привлекали вопросы астрономии и метеорологии. По сообщению Плиния [66а, р. 149 55; 37, т. III, с. 125], Анаксагор прославился среди греков тем, что в 467 г. «предсказал вследствие знания науки о небе» [там же] падение большого камня с неба. Плиний говорит, что явление это действительно произошло и наблюдалось во Фракии недалеко от Эгоспотамоса. Каким образом мог Анаксагор «предсказать» падение большого метеорита? В настоящее время известно, что в некоторые числа некоторых месяцев года наблюдается более обильное, чем в обычное время, возгорание метеоритов, влетающих в верхние слои земной атмосферы (явление «падающих звезд»). Это происходит, когда Земля в своем движении по орбите вокруг Солнца встречается с потоком метеоритов. Таких потоков известно несколько: так называемые персеиды, Леониды, аквариды и т. д. Но если можно предвидеть, что в известное время года будет наблюдаться много «падающих звезд», то каким образом предвидеть, что среди метеоритов, которые влетят в атмосферу, окажется метеорит настолько большой, что он достигнет поверхности Земли, не успев превратиться в газ — в виде большого камня или глыбы? Возможностью такого предвидения не располагает даже современная наука, тем более невозможно оно было для Анаксагора. Рассказ Плиния интересен не своей достоверностью (или, лучше сказать, своей совершенной недостоверностью): он интересен как свидетельство огромного авторитета, которым пользовались астрономические и физические исследования Анаксагора. Исследования эти привели Анаксагора к выводам, вступившим в противоречие с религиозными представлениями о божественной природе небесных светил. Согласно Анаксагору, светила — вовсе не божества, а глыбы или скалы, оторвавшиеся от Земли и раскалившиеся вследствие быстрого движения в воздухе. Осуждение АнаксагораУчение это вызвало против Анаксагора гнев некоторой части деятелей афинской демократии. Анаксагор был обвинен в религиозном нечестии и привлечен к суду. Процесс закончился осуждением и изгнанием философа из Афин. Анаксагор переселился в Лампсак, основал там школу и вскоре умер. Впрочем, не только руководители афинской демократии отрицательно относились к естественнонаучным исследованиям, особенно к тем, которые шли вразрез с религиозными представлениями. Среди самих философов была группа людей, не понимавших всего значения этих учений. Пример тому — оценка астрономического учения Анаксагора у Ксенофонта, знаменитого афинского писателя, ученика философа Сократа, публициста, экономиста, историка. В 7-й главе 4-й книги своих «Воспоминаний о Сократе» Ксенофонт пишет: «Вообще он (Сократ. — В. А.) не советовал заниматься изучением небесных явлений, как бог производит каждое из них: этого, думал он, людям не удастся постигнуть… к тому же рискует сойти с ума тот, кто занят такими изысканиями, точно так же, как сошел с ума Анаксагор, очень гордившийся своим объяснением действий богов. Так, — продолжает Ксенофонт, — Анаксагор говорил, что огонь и солнце — одно и то же, но он упустил из виду, что на огонь люди легко смотрят, а на солнце не могут глядеть; что от солнечного света люди имеют более темный цвет кожи. а от огня нет» [25, с. 175]. Такими жалкими аргументами Ксенофонт пытается опровергнуть гениальную для того времени догадку Анаксагора об огненной природе Солнца и его учение о том, что Солнце — физическое тело, а не божественное существо. В отношении к Анаксагору афинских деятелей нет ничего неожиданного. Хотя в сравнении с предшествующими политическими формами политический строй афинской рабовладельческой демократии был в целом прогрессивным, он все же страдал, с современной точки зрения, огромными недостатками. Рабовладельческая демократия, как мы уже отметили, имела узкую социальную базу. Это была демократия только для рабовладельцев» только для свободных. С другой стороны, в вопросах философии, науки, религии многие деятели афинской демократии были малокультурны и находились во власти религиозных предрассудков. Они в большинстве своем недоброжелательно относились к свободному научному исследованию вопросов астрономии. В их глазах Анаксагор был опасный для религии нечестивец и вольнодумец. Однако главная причина враждебного отношения к Анаксагору была все же не в этом. Процесс против Анаксагора был прежде всего, если можно так выразиться, не отвлеченно идеологический, а политический. Анаксагор был одним из ближайших к Периклу друзей и деятелей его круга. Он оказал влияние на образ мыслей Перикла. В биографии Перикла Плутарх рассказывает даже, что Анаксагор «больше всего сблизился с Периклом, больше всего придал вес его речам и серьезный характер его выступлениям перед народом» [39, с. 81]. В Афинах существовала не только партия друзей Перикла, но и партия его политических врагов. Так как Перикл был чрезвычайно популярен, то его противники не решались прямо направлять свои политические удары против знаменитого вождя афинского демоса. Их тактика состояла в том, чтобы последовательно наносить политические удары людям из ближайшего окружения Перикла; скомпрометировав их, они надеялись набросить тень на Перикла. Одним из первых привлек их внимание Анаксагор, позиции которого казались весьма уязвимыми вследствие распространявшегося им и противоречившего религии учения о физической природе и естестве небесных светил. Ряд античных авторов в полном согласии между собой сообщают, что именно астрономические взгляды Анаксагора оказались поводом для привлечения его к суду. Так, у одного из доксографов читаем: «Между тем как афиняне признавали солнце богом, он [Анаксагор] учил, что оно — огненный жернов. За это они присудили его к смерти» [37, т. III, с. 128]. Сохранились сведения, что сочинения Анаксагора, а которых излагались его воззрения на природу, были запрещены. У Плутарха об этом читаем: «Анаксагор, который первым написал и самое мудрое и самое смелое сочинение о свете и тени луны, не был еще тогда знаменитым мужем древности, а сочинение его не пользовалось популярностью; оно было запрещено и ходило лишь среди немногих, причем принимались меры предосторожности и брались клятвы верности» [39, с. 119]. Из сообщений Диогена видно, что у древних были различные представления и различные сведения о процессе Анаксагора. Согласно рассказу Диогена, один из древних писателей говорил, что Анаксагор был обвинен Клеоном в безбожии за учение, будто Солнце — огненная масса. Но так как в защиту Анаксагора выступил сам Перикл, бывший ученик Анаксагора, то, по этому сообщению, Анаксагор был приговорен только к штрафу и к изгнанию из Афин. И тот же Диоген рассказывает, будто другой автор сообщает, что обвинение против Анаксагора было возбуждено Фукидидом, [3] политическим противником Перикла, и что Фукидид обвинил Анаксагора не только в безбожии, но пытался придать своему обвинению также и политическую окраску, обличая философа в сочувствии персам. (В то время в Греции существовала партия, придерживавшаяся в политических вопросах проперсидской ориентации.) Это было тяжелое политическое обвинение. Тот же писатель даже сообщает, будто Анаксагор был заочно приговорен к смертной казни [53, lib. III, с. III, p. IX]. Уже около начала Пелопоннесской войны между Афинами и Спартой Диопиф внес предложение считать государственными преступниками тех, кто не почитает богов по установленному обычаю или кто научным образом объясняет небесные явления. Плутарх сообщает, что это предложение было направлено против Перикла, так как имело в виду обвинение Анаксагора. Анаксагор — яркий представитель того взгляда на науку и философию, который становится типичным для греческих мыслителей во времена развития зрелой формы рабовладельческого общественно-политического строя. Отделение умственного труда от физического, бывшее результатом рабовладельческого способа производства и рабовладельческих отношений, привело в конечном счете к чисто созерцательному пониманию задач знания и в особенности знания философского. Ряд древних авторов, согласных между собой в информации об Анаксагоре, утверждают, что этот философ целью философской жизни считал теорию, созерцание. «Аиаксагор Клазоменский говорит, что целью познания является теоретическое познание и проистекающая от него свобода» [37, т. III, с. 130]. Еще более выразительно свидетельство Аристотеля: в своей «Этике Никомаха» он рассказывает, что «Анаксагора, Фалеса и им подобных называют мудрецами, а не практиками» [Eth. Nic., VI, 7, 1141 в 3; 47, с. 113]. Несомненно, Аристотель допускает здесь историческую неточность. Современную ему и в особенности свойственную ему самому точку зрения он переносит в далекое прошлое; он распространяет на Фалеса взгляд» который, по-видимому, действительно был характерен для Анаксагора, но который не был еще возможен во времена Фалеса: первые греческие философы, жившие в Милете в эпоху еще не достигших зрелости рабовладельческих отношений и еще не зашедшего далеко отделения труда умственного от физического, не столь резко противопоставляли теорию практике, мышление и созерцание — действию. Фалес, как мы видели, соединял широкий размах и глубину теоретической пытливости с энергичной и многосторонней практической деятельностью — политической, технической, инженерной и т. д. Аристотель не только сообщает, что Анаксагора, Фалеса и подобных им называют мудрецами, а не практиками, но также объясняет, почему их так называют: «Ибо видят, что они не нанимают собственной выгоды; про их знание говорят, что оно «чрезычайно» и «удивительно», «тяжело» и «демонично», но бесполезно, так как они не доискиваются того, что составляет благо людей [Eth. Nic., V, 17, 1141 в 3; 15, с. 113]. А в другом своем этическом трактате — в «Этике Эвдема» — Аристотель сообщает: «Рассказывают, что когда кто-то, находившийся в… тяжелом положении, спросил Анаксагора, ради чего лучше родиться, чем не родиться, последний сказал: «… чтобы созерцать небо и устройство всего космоса» [Eth. Eud., 14, 1215 в 9; 37, т. III, с. 130]. Может быть, отголосок этого взгляда Анаксагора — 910-й фрагмент не дошедшей до нас трагедии афинского поэта Еврипида, бывшего, по некоторым сообщениям, учеником Анаксагора. В нем мы читаем следующее: «Кто, счастливец, изучил историю, не устремляя всего внимания ни на несчастия граждан, ни на несправедливые деяния, но замечал [лишь] неувядающий порядок бессмертной природы» [37, т. III, с. 130]. Учение о гомеомерияхВпрочем, вряд ли созерцательный подход к задачам знания мог достигнуть у Анаксагора полного отделения теории от практики. Возникшая из потребности решения практических задач, греческая наука даже во времена восторжествовавшего созерцательного понимания знания сохраняла еще следы своей первоначальной связи с практикой. У Анаксагора эта связь может быть ясно прослежена на его математических. исследованиях. По всем имеющимся данным, Анаксагор был выдающимся математиком и посвящал этой науке много упорного и увлеченного труда. Даже находясь во время своего процесса в тюрьме, он занимался там проблемой квадратуры круга. Но в то же время теоретические исследования Анаксагора имели в виду и практическое применение добытых в теории результатов. Сохранились сведения о том, что Анаксагор разрабатывал вопросы перспективы в их приложении к технике театральных постановок. В это время в Греции блестящее развитие получает искусство трагедии и комедии. Вводятся на сцене декорации, и в связи с этим возникает вопрос об условиях перспективы, необходимых для достижения оптической иллюзии реальности. Анаксагор трудился над вопросами перспективы именно в этом аспекте. И все же в целом взгляд Анаксагора на задачи знания созерцательный. Предмет его созерцательного постижения — космос, мировой строй, природа, человек как существо природы. Исходное положение его учения то же, что и у Эмпедокла. Анаксагор стоит на почве введенного элейцами положения, согласно которому истинное бытие не может ни возникать, ни погибать. Как Эмпедокл и как элейцы, он критикует все теории генезиса, принимающие реальность, действительность возникновения и гибели. Но, по Анаксагору, возникновение и гибель — только иллюзия. В действительности то, что люди называют возникновением и гибелью, — только соединение и разделение невозникающих и непогибающих частиц вещества. Соответствующий текст Анаксагора цитирует Симплиций: «Анаксагор сказал: [Термины] «возникновение» и «гибель» неправильно употребляют эллины. Ибо [на самом деле] ни одна вещь ни возникает, ни уничтожается, но [каждая] составляется из смешения существующих вещей или выделяется из них. Таким образом правильным было бы говорить, — поясняет Анаксагор, — вместо «возникать» — «смешиваться» и вместо «погибать» — «разделяться» [37, т. Ill, с. 158–159]. Но, как и Эмпедокл, Анаксагор не просто повторяет заимствованный у элейцев тезис о невозможности порождения и уничтожения бытия. Анаксагор, как и Эмпедокл, возражает против элейской метафизики. Он доказывает и реальность множества, и реальность движения. Однако в отличие от Эмпедокла, который допускал существование четырех физических элементов и двух движущих сил, Анаксагор предполагает, что число материальных элементов бесконечно, а движущая сила только одна. Элементы Анаксагора — не четыре стихии, или «корня», Эмпедокла — огонь, воздух, вода, земля. Элементы Анаксагора — бесконечные числом частицы вещества. Сохранился текст самого Анаксагора, в котором эта его мысль выражена сжато, но вполне ясно: «Вместе все вещи были, — говорит Анаксагор, — бесконечные и по множеству и по малости» [4]. О том же говорит в 3-й главе 1-й книги «Метафизики» Аристотель: «Анаксагор из Клазомен… утверждает, что начала не ограничены по числу: по его словам почти все предметы… возникают и уничтожаются именно таким путем — только через соединение и разделение, а иначе не возникают и не уничтожаются, но пребывают вечно» [Met, I, 3, 984а; 7, с. 24]. В другом сочинении («О небе») Аристотель подчеркивает важное различие по вопросу о количестве материальных начал между Анаксагором и Эмпедоклом. «Анаксагор же дает учение об элементах, — пишет Аристотель, — противоположное Эмпедоклу. А именно последний говорит, что огонь и стоящие с ним в одном ряду воздух, вода, земля —…элементы тел и что все состоит из них. Анаксагор же [говорит] противоположное [этому]. А именно элементы — подобочастные». Элементы Анаксагора Аристотель характеризовал прилагательным «подобочастные», т. е. как тела, в которых частицы подобны и другим частицам целого и самому целому. Разъяснение смысла термина дает Аэций: Анаксагору Клазоменскому, пишет Аэций, «казалось в высшей степени непонятным, каким образом что-нибудь может возникнуть из небытия или уничтожиться в небытие. Действительно, мы принимаем пищу простую и однородную — хлеб и воду — и ею питается волос, жила, артерия, мясо, мускулы, кости и остальные части [тела]. Итак, если это происходит [таким образом], то должно согласиться с тем, что в принимаемой [нами] пище находится все существующее и что увеличение всего происходит за счет уже сущего. И в нашей пище находятся частицы — производители крови, мускулов, костей и всего прочего. Эти частицы могут быть в ней усмотрены только разумом. Ведь не следует все возводить к ощущению, которое нам показывает, что хлеб и вода производят все это, но должно знать, что в них находятся разумом созерцаемые частицы. И вот по причине того, что части, заключающиеся в пище, подобны производимым ими вещам, он назвал их гомеомериями (подобочастными) и признал их началами сущего» [55. с. 279; 37, т. Ill, с. 136]. Сходным образом раскрывает смысл термина «подобочастные» и Аристотель. «Привожу для примера, — поясняет он, — мясо, кость и любую из вещей в этом роде; воздух же и огонь… — смеси этих и всех прочих семян» [De caelo, 3, 302а 28]. Сам Анаксагор называл свои частицы не «подобочастными» и не «корнями всех вещей», как Эмпедокл, а «семенами». Эмпедокл, как было показано, развил не только учение о четырех материальных элементах, но также и учение о силах, приводящих элементы в движение. Так же поступает и Анаксагор. Он различает частицы вещества («семена») или «подобочастные», по терминологии Аристотеля, с одной стороны, и движущую силу, производящую их сближение или разделение, — с другой. Движущую силу он называет «умом». В характеристике анаксагоровской теории элементов, опирающейся на недошедшее сочинение Теофраста, Симплиций показывает, каким образом Анаксагор соединил свое учение о материальных элементах (о «семенах») с учением о движущей силе (об «уме»). «Анаксагор Клазоменский, — рассказывает Симплиций, — познакомившийся с философией Анаксимена, первый [коренным образом] изменил мнения о началах, [а именно] он восполнил недостающую причину и телесные [начала] признал бесконечными» [Phys., 27, 2; 55, с. 478; 37. т. III, с. 132]. Учение это оригинально. Все предшественники Анаксагора полагали, что число начал конечно. Первые греческие философы (милетские материалисты) полагали, что существует только одно основное начало, и таким началом считали: Фалес — воду, Гераклит — огонь, Анаксимандр — беспредельное, Анаксимен — воздух, Ксенофан — землю. У Эмпедокла число материальных начал конечно (четыре): огонь, воздух, вода и земля. Анаксагор первый вводит понятие о бесконечном множестве материальных элементарных частиц. По-видимому, понятие «гомеомерий» («семян») представлялось трудным для понимания. Над разъяснением его трудились комментаторы поздней античности. Симплиций разъясняет, что идея «семян» выражается формулой самого Анаксагора: «Все заключается во всем» [Phys., 272; 55, с. 478; 37, т. III, с. 132]. Это значит, что все качества, существующие в самых различных веществах физического мира, имеются и в каждом отдельном кусочке, или элементе, вещества. Но каждая вещь качественно характеризуется для нашего восприятия этой вещи только тем, что в ней преобладает. «Так, — продолжает Симплиций, — золотом, по учению Анаксагора, кажется нам то, в чем много золотого, хотя в нем есть все. По крайней мере, Анаксагор говорит: «Во всем есть часть всего», и «чего [в вещи] больше всего, тем каждая отдельная вещь наиболее кажется и казалась» [там же]. Современников Анаксагора и последующих философов особенно поразил двоякий смысл, в котором он говорит о бесконечности «семян», или материальных частиц. Анаксагор говорит, что не только смесь частиц должна быть бесконечна по числу самих частиц. Кроме того, он говорит, что и каждая отдельная частица («гомеомерия») подобна целому, т. е. заключает в себе все существующее, все его качества и в этом смысле скрываете себе бесконечность. Таким образом, сущее, так характеризует Симплиций учение Анаксагора, — «не просто бесконечно, но бесконечно бесконечно» [37, т. III, с. 135]. «К этой мысли, — так поясняет Симплиций, — Анаксагор пришел, исходя из предположения, что ничто не возникает из небытия и все питается подобным» [там же]. В основе гипотезы Анаксагора, по-видимому, лежали биологические и физиологические наблюдения, которые были распространены Анаксагором на всю природу в целом, в том числе и на природу неорганическую. Уже в приведенных нами выше отрывках Анаксагор отмечал, что организмы, поглощая различные виды пищи, перерабатывают их в себе в совершенно другие вещества. В результате хлеб, молоко, вода, вино, мясо, плоды, поедаемые животными и человеком, превращаются в его теле в мускулы, кости, ногти, волосы и т. д. По догадке Анаксагора, этого не могло бы быть, если бы в каждой частице каждого вида пищи не заключались бы свойства мускулов, костей, ногтей, волос и т. д. Распространив эту — первоначально физиологическую — гипотезу и на всю природу в целом, Анаксагор пришел к своей физической теории бесконечного множества «семян», или «подобочастных» элементов. Новой и значительной мыслью Анаксагора была идея, согласно которой в природе нет ни абсолютного максимума, ни абсолютного минимума. Анаксагор утверждает, с одной стороны, что вселенная продолжает увеличиваться. Движущая сила («ум»), которая первоначально простирала свое действие на очень небольшую область, приводя в порядок внутри этой области хаотическое смешение «семян», продолжает распространять свое действие на все большую и большую часть вселенной. Таким образом, устанавливаемый «умом» порядок, неограниченно распространяясь, приводит к тому, что вселенная беспредельно увеличивается в своих размерах. С другой стороны, каждая отдельная частица («гомеомерия») допускает возможность беспредельного деления. В ней нельзя указать на предел делимости. «Семена» Анаксагора — это неделимые атомы позднейших греческих атомистов — Левкиппа, Демокрита, Эпикура. Не существует никакого предела делимости для каждой «гомеомерии» и не существует никакого предела возрастания для той области вселенной, внутри которой движущая сила («ум») устанавливает порядок в хаосе первоначальных элементарных частиц. Сам Анаксагор говорил: «И в малом ведь нет наименьшего, но везде есть меньшее. Ибо бытие не может разрешиться в небытие. Но и в отношении к большему всегда есть большее. И оно равно малому по количеству. Сама же по себе каждая [вещь] и велика и мала» [Phys., 164, 16; 37, т. III. с. 153]. «Ум» АнаксагораДо сих пор, говоря об анаксагоровском «уме», мы видели, что этот «ум» выступает лишь в качестве движущей силы. Но не есть ли он у Анаксагора и нечто сверх этого? Может быть, «ум» Анаксагора есть не только механическая движущая сила, но вместе с тем и сила духовная? Основанием для ответа на этот вопрос должен быть данный им ответ на другой вопрос: является ли движущая деятельность «ума (nouV)» только причинной или целесообразной? Прежде всего несомненно, что «ум» Анаксагора — движущая сила, участвующая в процессе образования мира. Диоген приводит из Анаксагора место, где говорится: «Все вещи были вместе: затем пришел ум и привел их в порядок» [37, т. III, с. 121]. И далее Диоген, со слов Тимона, передает, что «ум» Анаксагора, «вдруг начав действовать, связал воедино все, находившееся ранее в беспорядке» [там же]. И все же остается вопрос: было ли это участие «ума» в образовании мира действием целенаправленным, сознательным? В характеристиках «ума», которые находим у самого Анаксагора, его мысль колеблется между взглядом на «ум» как на всего лишь механическую причину отделения друг от друга первоначально перемешанных частиц и взглядом на «ум» как на разумную сознающую и даже «знающую» целесообразно действующую силу. Сохранился большой отрывок из сочинения самого Анаксагора, в котором колебание между этими двумя взглядами выражено с полной очевидностью. «Остальные [вещи], — говорит Анаксагор, — имеют в себе часть всего, ум же — бесконечен, самодержавен и не смешан ни с одной вещью, но только он один существует сам по себе. Ибо, если бы он не существовал сам по себе, но был бы смешан с чем-нибудь другим, то он участвовал бы во всех вещах, если бы был смешан [хотя бы] с какой-либо [одной вещью]. Эта примесь мешала бы ему, так что он не мог бы ни одной вещью править столь [хорошо], как [теперь, когда] он существует отдельно сам по себе. И действительно, он — тончайшая и чистейшая из всех вещей; он обладает совершенным знанием обо всем и имеет величайшую силу. И над всем, что только имеет душу, как над большим, так и над меньшим, господствует ум. И над всеобщим вращением господствует ум, от которого это круговое движение и получило начало… И все, что смешивалось, отделялось и разделялось, знал ум. Как должно было быть в будущем, как [раньше] было, [чего ныне уже нет], и как в настоящее время есть, порядок всего этого определил ум. Он [установил] также это круговое движение, которое совершают ныне звезды, Солнце, Луна и отделяющиеся воздух и эфир. Само это вращение производит отделение [их]. Отделяется от редкого плотное, от холодного теплое, от темного светлое и от влажного сухое… Вполне же ничто, кроме ума, ни отделяется, ни выделяется из другого. Ум же всякий — как больший, так и меньший, одинаков» [Phys., 164, 24; 37, т. Ill, с. 156]. Совершенно очевидно, что в этом тексте «ум» одновременно характеризуется и как сознательная, целесообразно действующая духовная сила (он обладает «величайшим знанием», «определил порядок всего») и как чисто механическая сила (отделение воздуха и эфира, отделение редкого от плотного и т. д. производится «самим вращением»). Какое из двух понимании «ума» существенно для Анаксагора? Вопрос неясен, так как информация недостаточна, а тексты противоречат друг другу. Уже Аристотель в сочинении «О душе» говорит, что для него, Аристотеля, учение Анаксагора об отношении ума к душе представляется неясным [De anima, 12, 404а 25; 9, с. 10]. Во многих местах Анаксагор признает «ум» источником красоты и обоснованности. В другом месте он отождествляет ум с душой и утверждает, будто ум присущ всем животным: как малым, так и большим, как благородным, так и низким. Все же Аристотель догадывается, будто Анаксагор считает душу по сути отличной от «ума», «уму» же он, по Аристотелю, «приписывает оба качества: и познание и движение» [De anima, 12, 405а; 9, с. 12]. Характеризуя философию Анаксагора в целом, Аристотель оценивает ее чрезвычайно высоко. Примечательна мотивировка этой оценки. Аристотель ценит Анаксагора за то, что он рассматривает «ум» как причину или основу мирового порядка. В 3-й главе 1-й книги «Метафизики» Аристотель говорит по этому поводу: «…тот, кто сказал, что разум находится, подобно тому как в живых существах, так же и в природе, и что это он — виновник благоустройства мира и всего мирового порядка, этот человек представился словно трезвым по сравнению с пустословием тех, кто выступал раньше. Явным образом, как мы знаем, взялся за такие объяснения Анаксагор» [Met., I, 3, 984 в 15; 7, с. 25]. Предшественником Анаксагора Аристотель называет его соотечественника — малоизвестного Гермотима. Совершенно очевидно, что Аристотель оценивает учение Анаксагора со своей точки зрения. Для него бог — это «мышление о мышлении» или ум, мыслящий собственную деятельность мышления. Поэтому Аристотель стремился вычитать у Анаксагора понятие об уме, близкое к тому, которое было свойственно самому Аристотелю. Но был ли «ум» Анаксагора действительно таковым? Сам Аристотель (в 4-й главе 1-й книги «Метафизики») признает, что, строго говоря, Анаксагор воспользовался своим «умом» при объяснении возникновения мироздания как неким «богом из машины (deus ex machina)». [5] Другими словами, Аристотель хочет сказать, что, в сущности, у Анаксагора «ум» выступает в виде извне привлекаемого объяснения: «Когда у него, Анаксагора, явится затруднение, в силу какой причины то или другое имеет необходимое бытие, тогда он его привлекает, во всех же остальных случаях он все что угодно выставляет причиною происходящих вещей, но только не ум» [Met., I, 4, 985а 18; 7, с. 25–26]. Это место замечательно. Оно верно раскрывает общую тенденцию философии и физики Анаксагора. Эти философия и физика стремились ограничиться только естественными — физическими и механическими — объяснениями явлений природы. Только там, где Анаксагору недоставало данных, для того чтобы развить чисто физическое и чисто механическое объяснение, у него на сцене в качестве замены объяснения является «ум». Мы убедились, что приведенная выше характеристика ума, развитая самим Анаксагором, содержит если не прямое противоречие, то по меньшей мере внутреннюю неясность: Анаксагор склонен одновременно рассматривать свой «ум» и как чисто материальную — движущую механическую — силу и как некую духовную — сознающую свои цели и даже познающую — силу. Каким же образом в учении Анаксагора совмещались оба эти определения «ума»? Яркий свет на этот вопрос проливает рассказ об Анаксагоре, сообщаемый Платоном — крупнейшим греческим идеалистом первой половины 4 в. до н. э. В диалоге «Федон» Платон рассказывает устами выведенного в этом диалоге Сократа о впечатлении, которое вынес Сократ, ознакомившись с сочинениями Анаксагора. В ходе беседы с учениками Сократ рассказывает им следующее: «Однажды я слышал, как некто читал книгу, написанную, по его словам, Анаксагором. Когда он дошел до места, где у Анаксагора говорится, что «ум» устраивает все и есть причина всего сущего, я, — говорит Сократ, — пришел в восторг от этой причины и думал: как превосходно, что ум есть причина всего. Я радовался, думая, что нашел в Анаксагоре наставника, который научит меня причинам всего сущего и тем удовлетворит потребности моего ума. Во-первых, он скажет мне, плоская или круглая Земля и почему она такова, объяснив, что в этом отношении есть наилучшее, и показав, почему для Земли лучше иметь такой-то вид… С великим рвением, — продолжает Сократ, — взялся я за его книги и прочел их с большою поспешностью, чтобы поскорее узнать, что наилучшее и что наихудшее. Но эти надежды, друг мой, рассеялись, когда во время чтения я увидел, что он не прибегает к уму и не пользуется известными причинами для объяснения правильности расположения частностей, но указывает на воздух, эфир, воду и на множество других разного рода нелепостей, как на причину всего сущего. Он мне представляется похожим на того человека, который стал бы утверждать, что все поступки Сократа — продукт его ума, а затем, желая определить причину каждого отдельного поступка, он сказал бы, что я сижу теперь здесь потому, во-первых, что мое тело состоит из костей и нервов, что кости тверды и отделены друг от друга промежутками» [Phaedon, 97B]. Не стану цитировать весь отрывок. Основная идея его совершенно ясна. Сократ надеялся, что в сочинениях Анаксагора он найдет теорию, объясняющую целесообразное устройство мира, т. е. такую теорию, которая не только объясняла бы, почему возникла каждая вещь, но и то, для какой цели она возникла и какую роль в этом ее целесообразном возникновении играл ум. Но вместо этого учения о целесообразном устройстве мира посредством деятельности ума Сократ нашел в книгах Анаксагора только учение о причинном механизме возникновения; «ум» выступает у Анаксагора только как причинная механическая сила, а не как сила разумная, целесообразная, направляющая все вещи в мире к наилучшему совершеннейшему порядку. Таким образом, хотя Анаксагор ввел в качестве движущей силы «ум» и даже отделил этот «ум» от всех материальных элементов как начало простое, обособленное от всего и беспримесное и даже приписал своему «уму» совершенное знание обо всем, тем не менее в итоге Анаксагор понимает свой ум скорее как чисто механическую движущую силу. С другой стороны, даже в этой своей механической функции «ум» оказывается необходимым только там, где Анаксагору не хватает других, чисто физических средств объяснения. Если это так, то мы можем вывести заключение, что считать Анаксагора идеалистом лишь ввиду его учения об «уме» нет достаточных оснований. Во всяком случае преобладающая тенденция учения Анаксагора материалистическая. Но в это материалистическое учение вторгается гипотеза о движущей силе, наделенной некоторыми свойствами духа. КосмологияМы ограничимся лишь сжатой, но содержательной характеристикой учения Анаксагора о мироздании у Ипполита, раннего христианского писателя. В очерке Ипполита, почерпнутом из очень надежного источника — из Теофраста, знатока физических и философских учений ранних греческих философов, мы читаем: «После него [Анаксимена] является Анаксагор Клазоменский. Он высказал [учение], что начало вселенной — ум и материя, ум — [начало] производящее, материя — [начало] страдательное» [55, с. 561; 37, т. III, с. 133]. Теофраст явно понимает учение Анаксагора как дуалистическое: «Дело в том, что когда все было вместе, вмешался [по Анаксагору] ум, который, разделив, привел [все] в порядок. Материальных же начал [по мнению Анаксагора] бесконечное [число], причем те из них, которые более малы, он называет бесконечными. Все [вещи] участвуют в движении, причиной которого является ум; [благодаря этому движению] подобные [вещи] соединились. И небесный порядок установлен круговым движением. Плотное, влажное, темное, холодное и [вообще] все тяжелое собралось в середине; из затвердения их возникла земля. Противоположное же им — теплое, светлое, сухое и легкое — устремилось в верхнюю часть эфира. Земля же имеет плоскую форму и пребывает в воздухе по причине [своей] величины, [во-вторых] вследствие того, что нет вовсе пустоты и [наконец] ибо воздух, обладая весьма большой силой, в состоянии носить держащуюся на нем Землю» [там же]. Мы видим здесь у Анаксагора явное возвращение к гипотезе его учителя Анаксимена. Именно Анаксимен учил о том, что светила, в том числе Земля, плоские и что поддерживаются они воздухом, в котором парят, наподобие того, как осенью иногда парят листья, слетевшие с деревьев. Очевидно, Анаксагор не только формально был учеником Анаксимена, но по крайней мере в своем астрономическом и физическом учении усвоил некоторые его воззрения. «Из находящихся на земле вод море состоит отчасти из осевших испарений, отчасти из [воды], стекшей [в него] из рек. Реки же существуют от дождей и от вод, находящихся в земле. Ибо в земле имеются полые места, в которых заключается вода» [55, с. 561; 37, т. III, с. 133]. Какие точные геофизические наблюдения и догадки! Особенно замечательно предположение Анаксагора по поводу разливов реки Нила: Нил летом делается полноводным, так как в него стекают воды снегов, лежащих в Эфиопии на юге [см. там же]. Еще замечательнее уже отчасти упомянутая в связи с судебным процессом Анаксагора его астрофизическая гипотеза. По Анаксагору, «Солнце, Луна и все звезды —…горячие камни, охваченные круговращением эфира. Ниже звезд находятся некоторые тела, невидимые для нас, которые совершают круговые движения вместе с Солнцем и Луной. Теплота же звезд не воспринимается вследствие дальности расстояния Земли [от них]» [там же, с. 562; с. 133–134]. Здесь гениальна не только мысль о том, что светила — физические тела. Не менее гениальна мысль, что звезды раскалены, излучают свет и тепло, если же мы непосредственно не испытываем от них этой теплоты» то только за дальностью расстояния. Однако истина тут же смешивается и с заблуждением. Анаксагор ошибочно думает, будто вторая причина того, что мы не воспринимаем тепла от звезд, состоит в том, что они находятся в более холодной части мирового пространства. Не менее замечательна догадка Анаксагора об огромной величине Солнца: «…Солнце по величине больше Пелопоннеса». Утверждение, с нашей точки зрения, наивное, но для того времени гениальное. Гораздо труднее впервые высказать догадку о том, что Солнце больше Пелопоннеса, чем исследовать размеры Солнца, после того как уже возникла правильная идея о громадных размерах его. А вот предложенное Анаксагором объяснение солнечных и лунных затмений: «…солнечное затмение бывает, когда во время новолуния Луна загораживает [собой Солнце]»; «Затмение же Луны происходит вследствие того, что [ee] загораживает [от Солнца] Земля, а иногда также [тела], лежащие ниже Луны» [там же]. Могло бы показаться, будто Анаксагор противоречит самому себе, считая Луну одновременно и раскаленным камнем и темным телом, заслоняющим во время затмений свет Солнца. На самом деле, противоречие не столь велико, так как, судя по другим текстам, Анаксагор считал Луну только отчасти огненной. Объяснение совершенно точное. Если Фалес мог предсказать солнечное затмение, опираясь только на эмпирически найденный в Вавилоне цикл «сарос» — в 223 лунных месяца, то Анаксагор уже точно объяснил физическую причину этого явления. Ипполит, черпая из Теофраста, сообщает, что Анаксагор первый выдвинул учение о сходстве Луны с Землей, в частности о том, что на Луне имеются равнины и пропасти. Учение о познанииАнаксагор переносит механическую точку зрения на возникновение ощущений у высших животных и человека. Так подготовляется переход от физики через физиологию к учению о знании. При этом в противоположность Эмпедоклу, который полагал, что мы всегда ощущаем и воспринимаем подобное подобным. Анаксагор, сходный в этом отношении с Гераклитом, утверждает, будто мы воспринимаем противоположное противоположным. «По мнению Анаксагора, — сообщает Теофраст, — ощущения происходят благодаря противоположному, так как подобное не действует на подобное» [37, т. III, с. 147–148]. При этом Теофраст поясняет, что Анаксагор пытался определить каждое ощущение особо, т. е. у него была теория, определявшая специфические условия каждого из видов ощущений. Согласно этой теории, например, мы видим благодаря отражению предметов в зрачке; это отражение, по его мысли, падает не на одноцветное, а на противоположное по цвету, так что всегда мы ощущаем противоположное. Отражение происходит днем, потому что причина отражения есть свет. При этом преобладающий цвет скорее отражается «на противоположном» [там же]. Механистический характер теории ощущений Анаксагора привел его к выводу, что наши ощущения всецело пассивны, страдательны. Всякое ощущение сопровождается страданием. Это утверждение Теофраст считал следствием из основной гипотезы Анаксагора: ибо все неподобное, несходное и противоположное при соприкосновении вызывает страдание, явным же это страдание делается благодаря продолжительности и силе ощущений. В процессе познания, как и следовало ожидать, Анаксагор приписывает большое значение деятельности ума. Так, элементарные материальные частицы мы постигаем не непосредственно нашими чувствами, но догадываемся об их существовании только посредством ума. Мы не видим и не можем видеть «семена» вещей, — эти бесконечно малые частички, из соединения которых, по Анаксагору, слагаются все тела природы, но мы знаем, что эти частицы существуют, так как к выводу об их существовании нас приводит ум. Об огромном успехе материалистической мысли Анаксагора говорит его поразительная догадка о значении, которое для развития человеческого ума имела рука. Относящееся к этому вопросу суждение Анаксагора дошло до нас в совершенно достоверной передаче Аристотеля. В сочинении «О частях животных» Аристотель сообщает, что, по Анаксагору, «человек является самым разумным из животных вследствие того, что он имеет руки» [10, с. 151]. При этом особенно интересно, что Аристотель, приведя это положение Анаксагора, полемизирует с ним со своей, идеалистической точки зрения. «Следовало бы признать, — замечает Аристотель, — что он (т. е. человек, — В. А.) владеет руками вследствие того, что наиболее разумен (из всех животных), ибо руки суть орудие, природа же, подобно рассудительному человеку, распределяет органы, давая каждый из них тому, кто может пользоваться им» [там же]. К сожалению, мы не имеем текстов, опираясь на которые можно было бы сказать, как связывался в учении Анаксагора тезис о роли руки с его представлениями о роли чувств в познании. Во всяком случае несомненно, что умозрительный характер гипотез Эмпедокла и Анаксагора о строении элементарных веществ и частиц природы должен был поставить перед философией вопрос о пределах того, что можно познать посредством ощущений. Гипотеза о возникновении тел в результате соединения мельчайших частиц, очевидно, вела к утверждению, что чувства (зрение, осязание и т. д.) не показывают нам непосредственно всего, что существует в природе. Чувства составляют необходимую основу познания, доставляют ему исходное содержание, но одними чувствами познание ограничиться не может: существование весьма малых частиц не может быть установлено прямо, при помощи только внешних чувств. Не удивительно поэтому, что и Эмпедокл, и Анаксагор в их высказываниях относительно познания не раз отмечают недостаточность чувств и указывают на необходимость дополнить картину явлений природы, которую нам рисуют ощущения, картиной, которая может быть выяснена только при помощи ума. Конечно, ум опирается на показания чувств, но в своих суждениях об истинном бытии он идет дальше, глубже того, что непосредственно показывают нам в вещах чувства. Уже Эмпедокл признавал важность восполняющей деятельности ума. И то же у Анаксагора. И у него мы находим попытку определить границы того, что показывают нам в вещах чувства, выяснить необходимость продолжения исследований природы уже не только с помощью ощущений, но и с помощью опирающегося на ощущения ума. Именно в связи с этой попыткой следует рассматривать взгляд Анаксагора на ощущения как на страдательные состояния. Ощущения — это то, что человек воспринимает в результате воздействия на свои чувства. Воздействие это от самого человека не зависит; по отношению к воздействию воспринимающая деятельность только страдательна. Намек на эту анаксагоровскую теорию восприятия имеется в так называемой «Этике Никомаха» Аристотеля. «Животное всегда страдает, — пишет Аристотель, — свидетельством чему служат физические теории, утверждающие, что зрение и слух сопряжены со страданиями, но что мы к ним, как они говорят, привыкли» [Eth. Nic., VII, 15, 1155 в 7; 47, с. 143–144]. У Анаксагора сравнительно с его предшественниками мысль о страдательной природе ощущений усиливается вследствие особенностей теории познания самого философа. В противоположность Эмпедоклу, который утверждал, будто подобное воспринимается подобным ему, Анаксагор полагает, что мы воспринимаем противоположное при помощи противоположного. Имея в виду это учение Анаксагора о страдательной природе ощущений, поздние античные писатели, особенно из школы скептиков, по-видимому, даже слишком усердно подчеркивали в учении Анаксагора мысль о недостаточности и слабости чувств. Вряд ли сам Анаксагор утверждал это так резко и так решительно, как можно было бы думать на основании сообщений о нем Секста Эмпирика. Этот философ-скептик (около 200 г. н. э.) собрал множество высказываний философов, предшествующих скептикам. Ему казалось, будто эти высказывания подтверждали истинность его собственного, скептического учения. При такой подборке, стремясь собрать как можно больше аргументов в пользу собственного учения, он, естественно, мог преувеличить скептические тенденции предшествующих философов. Как бы там ни было, но у Секста мы читаем: «Наиболее занимавшийся исследованием природы Анаксагор, обвиняя ощущения в слабости, говорит: «Вследствие слабости их (т. е. ощущений. — В. А.) мы не в состоянии судить об истине» — и считает доказательством их неверности незначительное изменение цветов» [74, VII, 90; 37; т. III, с. 160]. Дальше идет любопытный рассказ. «А именно, — сообщает Секст, — если мы возьмем две краски — белую и черную, — затем станем по капле переливать из одной в другую, то зрение не будет в состоянии различать маленькие перемены, хотя в действительности они будут иметься» [там же]. Совершенно ясно, что Секст делает здесь вывод, идущий дальше того, о чем говорит цитируемый им текст Анаксагора. Анаксагор говорит только о недостаточности наших ощущений, для того чтобы воспринять слишком незначительные изменения в ощущаемом объекте, т. е. непосредственно воспринять то, что мы могли бы назвать «дифференциалами ощущения». Секст же делает отсюда вывод, будто Анаксагор обвиняет ощущения в слабости. Но дело не в обвинении ощущений в их принципиальной слабости, а в том, что, по Анаксагору, существуют такие изменения в объектах, которые по причине их крайней незначительности не могут непосредственно улавливаться нашими чувствами. Все же о таких минимальных изменениях способен судить ум. Может быть, именно в этом смысле Анаксагор говорит, что «зрение есть явление невидимого» [74, VII. 90]. В полном соответствии со сказанным стоит принципиально важный гносеологический тезис Анаксагора: частицы, из которых, по Анаксагору, состоят все вещи и движением которых (а также соединением) образуются все тела природы, строго говоря, постигаются не чувствами, а только умом. Анаксагор ссылается при этом на те же наблюдения, которые легли в основу его гипотезы «семян», или «подобочастных элементов», — на явления, происходящие при усвоении организмами пищи и при превращении этой пищи в части и органы тела — в кожу, кости, мускулы и т. п. 5. Софистика В 5 в. до н. э. во многих городах Греции на смену политической власти старинной аристократии и тирании пришла власть рабовладельческой демократии. Развитие созданных ее господством новых выборных учреждений — народного собрания и суда, игравшего большую роль в борьбе классов и партий свободного населения, — породило потребность в подготовке людей, владеющих искусством судебного и политического красноречия, умеющих убеждать силой слова и доказывать, способных свободно ориентироваться в различных вопросах и задачах права, политической жизни и дипломатической практики. Некоторые из наиболее выдвинувшихся в этой области людей — мастера красноречия, юристы, дипломаты — становились учителями политических знаний и риторики. Однако нерасчлененность тогдашнего знания на философскую и специально научные области, а также значение, которое в глазах образованных людей греческого Запада успела в 5 в. до н. э. получить философия с ее вопросами о началах. вещей, о мире и его возникновении, привели к тому, что эти новые преподаватели обычно учили не только технике политической и юридической деятельности, а связывали эту технику с общими вопросами философии и мировоззрения. Так, Гиппий обучал, по свидетельству Ксенофонта и Платона, астрономии, метеорологии, геометрии и музыке; Пол был сведущ в учениях физики; Критий разделял, по свидетельству Аристотеля, психологические взгляды Эмпедокла; Антифонт занимался задачей квадратуры круга и пытался объяснить метеорологические явления — то по Гераклиту, то по Диогену, то по Анаксагору. Новые учителя получили наименование «софистов». Первоначально словом «софист» называли искусных в каком-либо деле людей — поэтов, музыкантов, законодателей, мудрецов. Впоследствии писатели консервативного и реакционного образа мыслей, отрицавшие демократический строй, его учреждения и практику его деятелей, перенесли свою вражду и на новых учителей, подготовлявших молодых людей к политической и судебной карьере. «Софистами» они стали называть тех, кто в речах, обращенных к слушателям, стремились не к выяснению истины, а к тому, чтобы ложь выдавать за правду, мнение — за достоверную истину, верхоглядство — за знание. Практически это наименование было распространено именно на людей новой преподавательской профессии. Такая их характеристика опиралась отчасти на то, что новые учителя философии стали доводить до крайности мысль об относительности всякого знания. Говоря словами Ленина, они субъективно применяли всестороннюю, универсальную «гибкость понятий, гибкость», доходящую «до тождества противоположностей» [3, т. 29, с. 99]. Отчасти неприязненная характеристика софистов опиралась и на то, что, обучая технике ораторского искусства и политической деятельности, новые учителя порой обучали приемам и формам убеждения и доказательства независимо от вопроса об истинности доказываемых положений. Дурное впечатление на противников демократических новшеств производил также обычай новых преподавателей брать со своих учеников плату, часто очень высокую, за обучение. Первые школы красноречия возникли в городах Сицилии, где еще Эмпедокл прославился как образцовый оратор и где Пол был уже настоящим софистом. Из сицилийских Леонтин был родом также софист Горгий. Развитие в 5 в. до н. э. демократии в Афинах и особенно развитие связей с другими городами греческого мира сделало Афины ареной для выступлений и преподавательской деятельности ряда софистов — Протагора из Абдер, Гиппия из Элиды, Продика с Кеоса и Горгия из Леонтин, хотя афинские государственные люди самых различных убеждений относились к софистам в общем неприязненно. Софист Протагор из Абдер был даже осужден на изгнание за высказанное им сомнение в вопросе о существовании богов. Философия софистовКак философское течение софисты не представляют вполне однородного явления. Наиболее характер- ной чертой, общей всей софистике, является утверждение относительности всех человеческих понятий, этических норм и оценок; оно выражено Протагором в его знаменитом положении: «Человек есть мера всех вещей: существующих — в том, что они существуют, — и несуществующих — в том, что они не существуют». Старшая группа софистов. В развитии софистики различаются старшая и младшая группы софистов. К старшей относятся Протагор (481–413), Горгий, Гиппий и Продик. Учение Протагора сложилось на основе переработанных в духе релятивизма учений Демокрита, Гераклита, Парменида и Эмпедокла. Согласно характеристике Секста Эмпирика, Протагор был материалистом и учил о текучести материи и об относительности всех восприятии. Развивая положение атомистов о равной реальности бытия и небытия, Протагор доказывал, будто каждому утверждению может быть с равным основанием противопоставлено противоречащее ему утверждение. Весьма прославилось развитое на почве элейской критики понятий небытия, движения и множества учение Горгия, посетившего в 427 г. Афины в качестве посла и выступавшего в Фессальских городах. Горгий разработал рассуждение, в котором доказывал: 1) ничто не существует; 2) если и есть нечто существующее, то оно не познаваемо; 3) если даже оно и познаваемо, то его познание невыразимо и неизъяснимо. Гиппий привлек к себе внимание не только геометрическими исследованиями кривых, давшими толчок последующим работам Архита, но и размышлениями о природе законодательства. Наконец Продик, учивший с большим успехом в Афинах, развил релятивистское воззрение до взгляда, согласно которому «каковы пользующиеся вещами люди, таковы и самые вещи». Софисты старшей группы были крупными мыслителями в вопросах права и общественно-политических. Протагор написал законы, определявшие демократический образ правления в афинской колонии Фурии в Южной Италии, и обосновал идею равенства свободных людей. Гиппий указал в своем определении закона на насильственное принуждение как на условие возможности законодательства. Те же софисты старшей группы пытались критически исследовать религиозные верования. Сочинение Протагора о богах было публично сожжено и стало поводом к изгнанию философа из Афин, несмотря на крайне осторожную формулировку религиозного скептицизма. Продик, развивая взгляды Анаксагора и Демокрита, стал толковать религиозные мифы как олицетворение сил природы. Софисты младшей группы. В учениях младших софистов (4 в. до н. э.), о которых сохранились крайне скудные данные, особенно выделяются их этические и социальные идеи. Так, Ликофрон и Алкидамант выступили против перегородок между социальными классами: Ликофрон доказывал, что знатность есть вымысел, а Алкидамант — что природа никого не создала рабами и что люди рождаются свободными. Антифонт не только развил материалистическое объяснение первоначал природы и происхождения ее тел и элементов, но пытался также критиковать явления культуры, отстаивая преимущества природы над установлениями культуры и над искусством. Фразимах распространил учение об относительности на социально-этические нормы и свел справедливость к полезному для сильного, утверждая, что каждая власть устанавливает законы, полезные для нее самой: демократия — демократические, а тирания — тиранические и т. д. Хотя некоторые софисты были действительно крупными мыслителями, релятивизм, ими развивавшийся, зачастую вел их к прямому отрицанию познаваемости вещей и к субъективизму. Ленин отмечает, что, например, учение Горгия есть «не только релятивизм», но также и «скептицизм». В этом своем качестве софисты должны быть признаны философами, подготовлявшими не только, как думал Гегель, диалектику, но также беспринципные и порой даже совершенно нигилистические учения, которые теперь называются «софистикой» и которые надо строго отличать от подлинной материалистической диалектики, рассматривающей познание как бесконечное движение и приближение через относительно истинные знания к знанию объективному и абсолютному. III. Возникновение идеализма и атомистического материализма  1. Сократ и сократовские школы Распространение софистических учений в греческих демократиях, в том числе в Афинах, вызвало отпор со стороны не только материалистов, но и со стороны объективных идеалистов. Первым крупным мыслителем, способствовавшим возникновению учений объективного идеализма, был афинянин Сократ (469–399). Скульптор по профессии, Сократ выступил около начала Пелопоннесской войны в Афинах с устным изложением философского учения и вскоре собрал вокруг себя многочисленный круг учеников, большая часть которых (хотя не все) оказались врагами общественно-политического строя афинской рабовладельческой демократии. Это обстоятельство, а также сообщаемые Платоном критические высказывания самого Сократа, направленные против демократического строя, восстановили против Сократа демократических правителей Афин, которые во главе с Анитом привлекли Сократа к суду. Однако, как это было и с Анаксагором, мотивом для обвинения, по существу политического, послужило религиозное вольномыслие Сократа: отрицание им староотеческих богов и почитание нового божества. По приговору суда Сократ в мае 399 г. до н. э. выпил кубок яда. Современник и свидетель успехов софистического движения, Сократ оказался одновременно представителем известных особенностей софистики — таковы публичность преподавания, применение формы спора или беседы для выяснения вопроса, некоторые черты скептицизма и т. д. — и борцом против нее. Слушавший ученика Анаксагора Архелая, хорошо знакомый с учениями о природе своих предшественников и современных софистов, Сократ в зрелый период своей деятельности отвергает вопросы, которыми дотоле занималась философия: о первоначалах, об их числе и природе, о возникновении и строении мироздания и т. д. Противоречия, в которых запутались философы, пытавшиеся ответить на эти и подобные вопросы, доказывают, по Сократу, будто решение их недоступно познанию. Проблема подлинности ученияФилософия, как ее понимает Сократ, — не умозрительное рассмотрение природы, а учение о том, как следует жить. Но так как жизнь — искусство и так как для совершенства в искусстве необходимо знание искусства, то главному практическому вопросу философии должен предшествовать вопрос о сущности знания. Знание Сократ понимает как усмотрение общего- (или единого) для целого ряда вещей (или их признаков). Знание есть, таким образом, понятие о предмете и достигается посредством определения понятия. Для выяснения и определения понятий Сократ пользовался методом, который получил название диалектического метода, или диалектики. Диалектика — великое достижение философии Сократа. Она не только характеризует философию Сократа, но также отличает метод его ученика Платона и платоников. Она возобновляется в III в. н. э. в философии неоплатоника Плотина и развивается в школе неоплатонизма от Плотина до Прокла (III–V вв. н. э.). Философская деятельность Сократа была чрезвычайно интенсивной и влиятельной. Как уже сказано выше, это была деятельность не философского писателя, а учителя философии, излагавшего свои учения только устно, в форме беседы или спора, по особому, характерному для него методу. Именно этот метод имеют прежде всего в виду, когда говорят о диалектике Сократа. Если бы речи и беседы Сократа были записаны, то историко-философская характеристика его диалектики была бы, конечно, выполнима. Но вся беда в том, что имеются и частично дошли до нас лишь литературные попытки воспроизведения этих речей и бесед, принадлежащие писателям — ученикам Сократа — Ксенофонту и Платону. Оба как будто стремятся воспроизвести поучения Сократа так, как они произносились, — в форме) диалога. Это — вопросы, которые Сократ ставил перед своим слушателем или собеседником, ответы собеседника и последующие ответы Сократа, обычно содержащие его возражения и критику предложенного собеседником определения, а также дальнейшее уточнение или детализацию первоначально поставленного вопроса. Однако нельзя считать, будто изображения сократических бесед в сочинениях Ксенофонта и Платона представляют точные образцы диалектики Сократа. Кое в чем они совпадают между собой, но кое в чем расходятся, и порой довольно значительно. Сократ у Ксенофонта — не тот, что Сократ у Платона. Возникает поэтому естественный вопрос: в какой степени изложение и характеристика сократовского метода у обоих этих писателей соответствует исторической действительности; чей Сократ ближе к подлинному — тот, которого вывел Ксенофонт в своих «Воспоминаниях о Сократе» (и в других «сократических» сочинениях), или же тот, которого изобразил Платон в своих диалогах? Что касается Ксенофонта, то тенденциозность и, следовательно, историческая ненадежность, односторонность его изображения очевидны. Свои «Воспоминания о Сократе» он написал не только спустя много лет после разговоров, которые в них изображаются, но и с явной целью — посмертно реабилитировать своего учителя, казненного в 399 г. по приговору Афинского суда, обвинившего Сократа в безбожии и развращении юношества. Задача «сократических» сочинений Ксенофонта — убедить афинян в том, что приговор этот был печальной ошибкой, доказать благочестие Сократа и его полную лояльность по отношению к афинской демократии и ее политическому строю. Ксенофонт старается доказать, вопреки обвинению, благотворность влияния, которое имели наставления Сократа и общение с ним на афинских молодых людей — слушателей и учеников Сократа. Изображенный Ксенофонтом Сократ — законопослушный, благочестивый учитель добродетели и благонравия. Это не софист вроде Протагора и не модный натурфилософ, сочинитель безбожных и фантастических космологии и космогонии вроде изгнанного впоследствии из Афин физика Анаксагора. Устройство мироздания, природы и движение небесных светил он полагал недоступными слабому человеческому уму и считал их доступными только уму божественному. Из бесед Сократа Ксенофонт сохранил и записал только то, что соответствовало такой характеристике прославленного учителя. Изображение Сократа у Ксенофонта не только оставляло в тени многое из того, что Ксенофонт либо не понял сам, либо не хотел извлекать на свет как компрометирующее Сократа, но, кроме того, сгущало краски, распределяло свет и тени в зависимости от апологетической задачи автора. Другого рода трудности ожидают нас при изучении образа Сократа, нарисованного Платоном. Платон не только рисует, иногда с удивительной художественной силой, образ Сократа, он постоянно излагает от имени Сократа свое собственное философское учение. Только в позднем диалоге — в «Законах» — Платон не выводит Сократа в числе собеседников. Во всех остальных Сократ присутствует как одно из действующих лиц. Во многих (хотя и не во всех) диалогах ему даже принадлежит главная роль: Сократ превращается в глашатая мысли самого Платона, становится философской личиной, посредством которой Платон выражает и способ своего исследования, и результаты своего учения. У Платона были основания, чтобы изобразить Сократа именно так. Платон сам был учеником Сократа, и первыми вопросами философских исследований, определений и размышлений были, как и у Сократа, вопросы этики. Естественно поэтому намерение представить дело философии таким образом, будто в нем, Платоне 90 — 60-х годов 4 в., живет, продолжает учить живший и учивший в 5 в. Сократ. Расширилась, изменилась за истекшие полвека тематика, метод исследований Платона, но над всем этим полувеком философского развития Платона витает великая тень афинского мудреца, о котором продолжала ходить устная молва и давно существовала большая полемическая литература. Но было еще одно важное обстоятельство, которое внушало Платону желание сделать именно Сократа подлинным героем своих философских диалогов. Сократ был колоритнейшей личностью. Современников поражало в нем все: его наружность, облик, образ жизни, нравственный характер, парадоксальность мысли и речи, глубина философского анализа. Для великого художника, каким был Платон, избыток характерного и неповторимого в личности Сократа был поистине бесценной находкой. Платон хорошо знал своего учителя. Это знание, основанное на девятилетнем общении (408–399), давало ему возможность, взяв Сократа как образец философского наставника, обогатить колоритнейшими чертами художественную ткань своих диалогов. Так Платон и поступил. Вот почему одним из оснований, в силу которых сочинения Платона принадлежат не только истории древнегреческой философии, но также и истории древнегреческой художественной литературы и даже истории Афин и всего древнегреческого общества, оказался созданный Платоном поистине необыкновенный в своей пластичности и выразительности образ Сократа. Но именно поэтому так велики трудности, встречающие современного историка античной культуры в его попытке использовать яркие сочинения Платона как опору и как материал для суждения о том, чем была философия, и в частности диалектика, Сократа. При чтении работ Ксенофонта этой попытке противоречит селективность и тенденциозность изображения. Напротив, при изучении Платона возникает трудность, кроющаяся в избытке сообщаемых Сократу черт и понятий, а также в экстраполяции на Сократа того, что принадлежало в действительности только Платону. Беседы Сократа, излагаемые Платоном, также не могут быть признаны свободными от искажений и точными образцами сократовской философии и особенно диалектики. Было бы, однако, ошибкой чрезмерного и необоснованного скептицизма, если бы все трудности, стоящие перед исследователем философии Сократа, были наперед признаны окончательно неодолимыми. Философия Сократа — не загадка, к которой нельзя подобрать ключа. В изображениях Ксенофонта и Платона может быть обнаружено нечто согласное, общее обоим, что обрисовывает Сократа как историческую личность, как мыслителями диалектика. Первое, что можно в сообщении Платона считать достоверным, — изображение воздействия, которое диалектическая беседа Сократа оказывала на его слушателей и собеседников. Ярче всего об этом воздействии говорит выведенный Платоном в «Пире» Алкивиад. «Когда я слушаю его (т. е. Сократа. — В. А.) — признается Алкивиад, — сердце у меня бьется гораздо сильнее, чем у беснующихся корибантов, а из глаз моих от его речей льются слезы; то же самое, как я вижу, происходит и со многими другими. Слушая Перикла и других превосходных ораторов, я находил, что они хорошо говорят, но ничего подобного не испытывал, душа у меня не приходила в смятение, негодуя на рабскую мою жизнь. А этот Марсий (т. е. Сократ. — В. Л.) приводил меня часто в такое состояние, что мне казалось — нельзя больше жить так, как я живу» [Symp., 215a — 216а]. Из рассказа Алкивиада видно, что главным предметом речей и бесед Сократа были вопросы этики — вопросы о том, как следует жить, а также, что в рассуждениях по этим вопросам способ доказательства и опровержения Сократа отличался необыкновенной, неотразимой мощью и силой действия. С рассказом Алкивиада хорошо согласуются и все другие свидетельства о Сократе. Исключение составляет один только Аристофан. Но изображение Аристофана ни в коем случае нельзя рассматривать и использовать как свидетельство современника об историческом, реальном Сократе. Аристофан не философ, не историк и не мемуарист. Он сатирический поэт и публицист, к тому же безмерной силы воображения и выдумки. С исторической действительностью он не только не считается, он ее попирает. Выведенный Аристофаном в «Облаках» Сократ — это великолепный комедийный персонаж, порождение сатирического гения Аристофана и его консервативной политической тенденциозности, но образ этот не вправе претендовать на доверие историка, тем более историка философии, исследующего учение Сократа и его диалектику. В «Облаках» Аристофана Сократ лжет, измышляет, как лгут и измышляют софисты, и, как они, болтает и грезит о явлениях природы. Сократ — натурфилософ, Сократ — астролог — озорная выдумка Аристофана, памфлет и безудержная сатира консервативного публициста. Издеваясь над своим Сократом, Аристофан издевается над проникшими в Афины интеллектуальными модами: модой на натурфилософию, вроде насаждавшейся здесь Анаксагором, и модой на софистическое просвещение и образование, введенной приезжими и частично обосновавшимися в Афинах софистами других греческих полисов — Протагором из Абдер. Горгием из Леонтин, Продиком из Кеоса и др. Совершенно иное значение имеют свидетельства о Сократе, оставленные Платоном. Не только действующие лица диалогов Платона рассказывают о Сократе: Сократ сам стоит в центре ряда диалогов, спорит, поучает, опровергает, представляет образцы своей диалектики. Здесь естественно и неизбежно возникает вопрос: что отразилось в этом — платоновском — образе Сократа от Сократа действительного, исторического? В какой мере философия, им возвещаемая, была на деле философией знаменитого афинского учителя? Уже давно было замечено, что в различных диалогах Платона характеристика философии Сократа остается неизменной на протяжении всей литературной работы Платона. Работа эта продолжалась целых полвека. За это долгое время изменился сам Платон, изменился и философский облик Сократа, выступающего в его диалогах, изменилось приписываемое Платоном Сократу понимание философии и ее задач. Цель Сократа по поздним сочинениям Платона — воспитать в своих учениках философов. Но в это время сама философия отождествлялась у Платона с диалектикой. Поэтому задача философского учительства позднего Платона состояла в том, чтобы развить в своих учениках прежде всего владение искусством диалектики, которая одна, согласно убеждению Платона, могла привести их к постижению «идей». Если бы Сократ, которого изображал Платон в диалогах зрелого периода, был историческим Сократом или его двойником, то невозможно было бы понять и объяснить, что нового внес сам Платон в историю греческой и мировой философии. Но к историческому Сократу нас ведут не шедевры зрелого периода Платона, а его ранние диалоги, непосредственно, примыкающие к «Апологии» и «Критону». Таковы, например, «Лахес», «Хармид», «Лизис». Именно по этим сочинениям Платона мы можем, вглядываясь в изображенного в них Сократа, составить некоторое представлений о том, чем была его философия и диалектика. Сократ «Апологии» — что понятно, впрочем, уже из практической цели этого сочинения — предстает пред нами не как мастер и учитель науки и научного мышления. Его «диалектика» — арена, на которой проясняются в ходе наставления этические и только этические представления. Превращение общих определений Сократа в логические и диалектические предпосылки всей науки, всего знания — дело не Сократа, а Платона. Формирование методаИ все же подход к разработке такой общей теории может быть найден в исследовании этических понятий Сократа. Бросается в глаза, — настойчивость, с которой Сократ стремится найти и точно установить определения этических категорий, выяснить их сущность. Диалектическое исследование предмета есть, согласно Сократу, прежде всего определение понятия об этом предмете. Уже в «Лахесе» — диалоге о мужестве, который в случае его подлинности несомненно принадлежит к числу ранних, т. е. «сократических», сочинений Платона, воспроизводящих метод диалектической беседы самого Сократа, — диалектика принимает черты исследования или установления определения понятия, в данном случае понятия мужества. Более того, так как мужество есть частный вид добродетели, то определению мужества должно предшествовать общее определение понятия добродетели. Так не должны ли мы, спрашивает Сократ, выведенный в «Лахесе», по крайней мере знать, что такое добродетель? Потому что, продолжает он, если бы мы совсем не знали того, что такое добродетель, как могли бы советовать кому-нибудь, каким образом всего, лучше приобрести ее? [см: Лахес, 190 В — С]. Если что-либо нам известно, то «уж мы, разумеется, можем и сказать, что это такое» [там же, 19 °C]. Сказанное о добродетели вообще Сократ предлагает применить и к той ее части, которой является мужество. «Вот, Лахес, — говорит он, — мы и попробуем сначала определить, что такое мужество, а уж потом рассмотрим также и то, каким образом юноши могли бы усвоить его себе, насколько возможно усвоить его через упражнение и обучение» [Лахес, 190 Е]. В ответ на поставленный Сократом вопрос Лахес, которому самый вопрос показался нетрудным, не задумываясь предлагает первое пришедшее ему на ум определение: мужествен, поясняет он, «тот, кто, оставаясь в строю на своем месте, старается отражать неприятелей и не бежит» [там же, 190 Е]. Сократ не отрицает, что указанный Лахесом образ действия подходит под понятие мужества. Но Лахес не ответил на вопрос по существу. Сократ не просил его указать какой-либо единичный случай или пример мужественного поступка. Сократ просил его определить то, что обще для всех таких поступков или случаев, иначе говоря, просил его определить существо добродетели мужества. Определение, предложенное Лахесом, ошибочно. Существуют такие поступки, такие способы действия, которые всеми должны быть признаны и признаются мужественными, но которые отличаются от указанных в определении Лахеса. Так, скифы сражаются ничуть не менее мужественно, когда убегают, чем когда преследуют; Гомер называет Энея «Мастером бегства», а Сократ вспоминает, что во время битвы при Платее тяжеловооруженные воины лакедемонян, столкнувшись с персидскими щитоносцами, побежали, но не утратили при этом мужества и, когда ряды персов расстроились, они, обернувшись назад, сражались как конные и таким образом одержали победу [см. Лахес, 191 А — С]. «Ведь я хотел от тебя узнать, — поясняет Сократ, — о мужественных не только в пехоте, но и в коннице и вообще в военном деле, и не только на войне, а также во время опасностей на море, в болезнях, в бедности или в государственных делах, и опять еще не о тех только, что мужественны относительно скорбей и страхов, но и кто силен в борьбе с вожделениями и удовольствиями, на месте ли он остается или обращает тыл; ведь бывают, Лахес, мужественные и в таких вещах» [там же, 191 Д — Е]. В мужестве, поясняет он далее, есть нечто, остающееся тождественным, общим для всех этих случаев, и именно это общее должно быть указано и сформулировано в определении мужества. Уточняя смысл своего вопроса или требования, Сократ предлагает дать определение, которое было бы способно охватить все частные виды мужества, какими бы различными или даже противоположными они ни казались: «Постарайся же и ты, Лахес, сказать… о мужестве, что это за сила, которая, оставаясь одною и тою же при удовольствии и при огорчении, и при всех случаях… равно зовется мужеством?» [там же, 192 В]. Таким образом, философия, как ее понимает Сократ (на уровне «сократических» диалогов Платона), есть исследование сложного явления нравственной жизни, способное привести к определению понятия об этом явлении, точнее говоря, определению его сущности. Сократовская диалектика есть усмотрение общего в различающемся, единого во многом, рода в видах, сущности в ее проявлениях. Усмотрение это, достигаемое беседой, дается собеседникам с трудом. Так, попытка уточнить понятие мужества через понятие упорства ничуть не приводит к уяснению вопроса: получается, что самое дурное, неразумное упорство и есть мужество, иначе говоря, в ход рассуждения прокрадывается противоречие и искомой гармонии в мыслях не получается. «Стало быть, Лахес, — замечает Сократ, — той дорической гармонии, о которой ты говорил, у нас с тобой что-то не выходит, потому что дела наши не согласуются со словами нашими» [ «Лахес», 193 Е]. «Понимать-то я, кажется, понимаю, что такое мужество, а вот только не знаю, как это оно сейчас от нас так ушло, что я не успел схватить его и выразить словом, что оно такое» [там же, 194 В]. На помощь оказавшемуся в тупике Лахесу Сократ приглашает другого участника беседы — полководца Никия. Знаменитый полководец вносит в определение мужества поправку: он разъясняет, что мужество «есть некоторого рода мудрость» [Лахес, 194 D]. Сократ не возражает против этого определения, но немедленно требует объяснения, «что же это за наука или наука о чем» [там же, 194 Е]. И получает ответ: под наукой мужества Никий разумеет «знание опасного и безопасного и на войне, и во всяких других случаях» [там же, 195 А]. Но тут же выясняется, что признак мужества, указанный в определении Никия, имеется и во многих таких случаях знания, которые на основании наличия этого признака никак не могут быть охарактеризованы как случаи мужества. Так, врачи знают, что может быть опасно в болезнях, земледельцы — в земледелии, ремесленники — в своем деле. Все они, каждый в своей сфере, знают, чего следует бояться и чего не следует, но от этого они ничуть не более мужественны [см. там же, 195 С]. То же самое приходится сказать и о гадателе. Но если врач или гадатель не знают, чего следует и чего не следует бояться, то они не могут быть мужественными, не приобретя этого знания. Поэтому тот, кто придерживается определения Никия, или должен отказать в мужестве какому бы то ни было зверю в силу отсутствия у него этого знания, или же должен признать, что какой-нибудь лев, тигр или кабан так мудр, что может знать то, чего не знают многие люди, ибо это знание трудно приобрести им; но, полагая мужество в том, в чем его полагает Никий, «необходимо признать, что относительно этого мужества и лев, и олень, и бык, и обезьяна уродились одинаково» [там же, 196 Е]. В исследовании понятия о предмете, которое должно завершиться его определением, Сократ в качестве необходимого условия рассуждения и мышления выдвигает свободу мышления от противоречия. Закон или, точнее, запрет внутреннего противоречия в рассуждении во времена Сократа не был еще сформулирован теоретически как закон логики. Однако, не формулируя этого закона как закона логической теории (сама логика как специальная наука в то время еще не сложилась и не имела своей литературы), Сократ ранних — «сократических» — диалогов Платона четко применяет уже этот закон в практике своих диалектических рассуждений. В том же «Лахесе» Лахес насмехается над Никием, который, по его суждению, вертится только из стороны в сторону, как человек, который хотел бы скрыть, что он противоречит самому себе [Лахес, 196 В]. Условием свободы диалектического рассуждения от противоречия Сократ считает строго однозначное понимание терминов в рассуждении. В «Лахесе» есть место, точно характеризующее эту мысль. Возвратившись [198 А] к своему тезису, согласно которому мужество — только один из видов добродетели, и напомнив, что другими ее видами будут самообладание, справедливость и прочее в этом роде, Сократ вдруг останавливает свое перечисление. «Теперь стой, — говорит он. — Стало быть, в этом мы с тобою согласны, а вот посмотрим относительно страшного и нестрашного, может быть, ты разумеешь под этим одно, а мы другое» [там же, 198 В]. «Разумеешь ли ты в таком случае те же самые части, что и я?» [там же, 198 В]. Замечание (или вопрос) Сократа важно потому, что по его убеждению неоднозначность терминов лишает рассуждение доказательной силы, разрушает логическую связь между терминами. «Лахес» заканчивается, не приведя ни к какому решению поставленного в нем вопроса. Вопрос формулируется чрезвычайно четко и точно, так же четко и точно проводится необходимое для решения поставленного вопроса деление исследуемого родового понятия на составляющие виды, или видовые понятия, но до решения вопроса по существу исследование не доходит. Сократ, резюмирующий результат беседы в «Лахесе», приходит к заключению, что все участники собеседования не достигли поставленной цели: «Все мы одинаково оказываемся в затруднении: почему бы в таком случае можно было предпочесть того или другого из нас? Право, мне кажется, что никого нельзя предпочесть» [Лахес, 200 Е]. Таким же характером, как в «Лахесе», отличается диалектическая беседа в «Хармиде». И здесь задача диалога — определение понятия. На этот раз это понятие «благоразумия». Так же как в «Лахесе» о мужестве, Сократ спрашивает о «благоразумии»: «Скажи… что есть благоразумие, по твоему мнению?» [Хармид, 159 А]. Как это было и в «Лахесе», услышав предложенное Критием определение, Сократ серией вопросов опровергает его и его дальнейшие поправки и замены. Так же как в «Лахесе» при определении «мужества», в «Хармиде» выясняется, какие видовые понятия заключает в себе родовое общее понятие «благоразумие». Получив ответ, будто «благоразумие» есть способность делать все «ладным образом и тихо» [Хармид, 159 В], Сократ легко опровергает это определение. Еще легче — путем простой ссылки на Гомера и Гесиода — опровергает он определение, сводящее «благоразумие» к «стыдливости»: «Кажется мне, что благоразумие заставляет человека стыдиться и делает его стыдливым, и есть благоразумие как бы стыд» [там же, 160 Е]. Третье определение «благоразумия», рассматриваемое Сократом в «Хармиде», сводится к отождествлению «благоразумия» с «деланием своего» [там же, 161 В]. После того как в качестве неадекватного опровергнуто и это понимание, Критий (собеседник Сократа в диалоге) выдвигает новое определение. «Благоразумие», говорит он, есть знание самого себя, то самое, о котором говорит надпись в дельфийском храме Аполлона. Однако, по мысли Крития, это не знание человека о самом себе как человеке, а знание о самом знании [см. там же, 166 Е]. Сократ доказывает, что такое знание было бы беспредметным. Заключение это неизбежно для Крития при его взгляде на «благоразумие», и Сократ использует такое заключение для опровержения этого взгляда. Продолжением и завершением этого опровержения оказывается понятие Сократа о «благоразумии», излагаемое им в последней части диалога в сущности не как понятие даже, а как рассказ о некоем привидевшемся ему сне [см. там же, 173–176]. Сократу как-то приснилось, что есть нечто единственно необходимое для человека. Это знание о добре и зле, или умение отличить добро от зла. «Благоразумие», составляющее предмет исследования, должно быть знанием не о самом себе, не знанием о знании, а знанием о добре и зле. Никакое знание — каким бы всеохватывающим оно ни было, — не могло бы стать источником подлинного блаженства и не могло бы оказаться полезным, если бы человек был лишен предварительного знания о добре и зле. «Благоразумие» должно совпадать с тем нравственным сознанием и с тем его критерием добра и зла, который делает нас блаженными и хорошими. По мысли Сократа, как она предстает в «Хармиде», все предшествующие и последовательно отвергнутые им — в своей отдельности и отрозненности — определения «благоразумия» теперь, в свете озарившего его во сне нового определения, восстанавливаются в том, что в них есть истинного и ценного. Они, как оказывается, только диалектические ступени, приводящие философа к истинному воззрению. Из всех частных и «видовых» добродетелей добродетель «благоразумия» в ее последнем определении — родовая, наиболее общая, наиболее широкая. Кто усвоит предложенное Сократом определение «благоразумия», тот без труда поймет относительную или предварительную истинность и ценность всех предыдущих, ранее высказанных Хармидом и Критием определений его. Все они — относительно истинные, но недостаточные в своей ограниченности диалектические моменты единого адекватного определения. Диалог «Хармид» хорошо характеризует главную цель диалектических бесед Сократа, как ранних, так и поздних, зрелых. Цель эта — подчинение философского исследования нравственной задаче, нравственной проблеме. Читатель «Лахеса» и «Хармида» участвует вместе с Сократом в исследовании нравственных категорий, Диалектика СократаОднако сама диалектическая аргументация Сократа еще малоискусна, недостаточно выработана. Более высокую ступень развития диалектики представляет аргументация Сократа, как она изложена Платоном в диалоге «Гиппий Больший». Здесь с гораздо большей ответственностью, чем, например, в «Лахесе» при определении мужества, подчеркнуто, что цель диалектического исследования (в «Гиппии») — определение прекрасного как сущности исследуемого, общей для всех его частных случаев, или обнаружений. Смехотворность попытки глупого Гиппия, который на вопрос Сократа о том, что есть прекрасное, отвечает, будто это прекрасная девушка, состоит именно в том, что Гиппий не видит и не понимает смысла самого вопроса, не видит и не понимает различия между общим и его частными обнаружениями, между сущностью и ее явлением, между единым и многими частями этого единого. Когда Сократ спрашивает Гиппия, что такое прекрасное, Гиппию кажется, будто его просят указать какой-нибудь частный вид или особый пример прекрасного. Он не понимает, что вопрос может быть сформулирован о самом существе прекрасного, независимо от всех особых и частных случаев его явления. В диалоге Сократ формулирует свои вопросы, свои возражения и опровержения не от самого себя, а якобы от имени какого-то своего собеседника, с которым будто бы вел недавно беседу о прекрасном и которого он не мог одолеть в споре. Сократ заявляет Гиппию: «…смотри, дорогой мой: он ведь тебя спрашивает не о том, что прекрасно, а о том, что такое прекрасное» [Гиппий Больший, 287 Е]. Отвергнув и даже высмеяв ряд ответов Гиппия, бессмысленность которых вытекает именно из неспособности понять смысл вопроса о прекрасном, т. е. вопроса о том, что такое «прекрасное само по себе, благодаря которому все остальное украшается и представляется прекрасным, — как только эта идея присоединяется к чему-либо, это становится прекрасной девушкой, кобылицей, либо лирой?» [там же, 289 D], Сократ сам повторяет в более точной форме смысл этого вопроса: «Я спрашивал о прекрасном самом по себе, которое все, к чему бы оно ни присоединилось, делает прекрасным, — и камень, и дерево, и человека, и бога, и любое деяние, любое знание. Ведь я тебя спрашиваю, дорогой мой, что такое красота сама по себе, и при этом ничуть не больше могу добиться толку, чем если бы ты был камнем, мельничным жерновом, без ушей и без мозга» [там, же 292 D]. Наибольшее значение диалога «Гиппий Больший» в плане истории философии и истории логики состоит в том, что в нем четко формулируется мысль, согласно которой определение понятия есть определение сущности рассматриваемого предмета, а сама сущность понимается как единство в многообразии его проявлений, как постоянство, как тождество в изменяющемся многообразии. Даже туповатый Гиппий, каким он выведен в этом диалоге, догадывается наконец о том, что Сократ добивается от него именно определения этого единства во множестве, постоянства в изменчивом, тождества в различном. «Мне кажется, ты добиваешься, — соображает в одном месте Гиппий, — чтобы тебе назвали такое прекрасное, которое нигде никогда никому не покажется безобразным» [там же, 291 D]. На этом, впрочем, догадливость Гиппия иссякает. Больше того. Не только глупый и смешной Гиппий. но даже умнейший и проницательнейший Сократ освещает только одну сторону вопроса. Он достаточно подчеркивает мысль о единстве и о родовой общности частных видов «мужества» («Лахес»), «благоразумия» («Хармид»), «прекрасного» («Гиппий Больший»), но не доходит до мысли о том, что задача определения понятия состоит не просто в уяснении родового единства, но вместе с тем и в выяснении единства противоположностей между родовой общностью и видовыми особенностями. Только единство он подчеркивает — особенно в «Гиппий Большем» — со всей отчетливостью и резко. Можно даже сказать, что в этом отношении поиски определения «прекрасного» в «Гиппий Большем» предвосхищают и предваряют характеристику «прекрасного», которую несколькими десятилетиями позже разовьет уже не Сократ, а его ученик Платон. От «Гиппия Большего» прямая нить ведет к «Пиру» — произведению Платоновой зрелости. Конечно, у Сократа нет ни малейшего намека на платоновское учение об обособленном, запредельном, трансцендентном пребывании «идеи» прекрасного вне предметного мира, в котором является прекрасное. Критически разбирая в числе определений «прекрасного» определение, сводящее его к «подходящему», Сократ прямо ставит вопрос так, что и «подходящее» и «прекрасное» есть некоторое бытие. Сократ приближается, повторяем, к мысли, что исследование бытия должно стать определением сущности, но в единстве сущности и ее явлений подчеркивает не столько то, что это единство есть единство различных или даже противоположных определений, сколько то, что все эти различия или противоположности образуют единство. Мысль эта не подвергнется отрицанию в философии Платона, но явится в ней лишь необходимым моментом более широкого диалектического целого. И Платон не перестанет подчеркивать единую, тождественную и неизменную сущность прекрасного, его безотносительность, неподвластность преходящим, изменяющимся условиям и отношениям пространства и времени. Философ, цель которого — высшее благо, стремится не к какому-либо отдельному и частному виду прекрасного, а к единой сущности прекрасного. Это одна из главных мыслей мудрой мантинеянки Диотимы, поучающей Сократа относительно природы прекрасного. Но вместе с тем единство это явится ему как усмотрение единства противоположных определений. Одним из наиболее надежных источников для суждения о том, чем были диалектическая беседа и вопросо-ответный метод Сократа, можно признать первую книгу «Государства» Платона. В настоящее время большинство филологов и историков античной философии полагают, что эта книга была написана, в отличие от последующих книг этого трактата, еще в ранний период литературной деятельности Платона. Это период, когда Платон, следуя своему учителю Сократу, занимался исследованием этических понятий и когда под диалектикой он разумел, как и Сократ, беседу или спор, ведущий к разъяснению и определению этих понятий. Беседа Сократа, изображенная Платоном в первой книге «Государства», посвящена выяснению понятия о «справедливости». Ведет беседу, ставит вопросы и опровергает полученные на них ответы Сократ, возражают ему, предлагают свои определения и отвечают на его возражения сначала Кефал, а затем, после его ухода, сын его Полемарх. На вопрос, что такое «справедливость», Кефал определяет ее следующим образом: говорить правду и отдавать то, что взял [см.: Государство, 331 B]. Но Сократ возражает на это, что подобные поступки иногда бывают справедливы, а иногда нет [см. там же, 331 С]. «Если кто, — рассуждает Сократ, — получит от своего друга оружие, когда тот был еще в здравом уме, а затем, когда тот сойдет с ума и потребует свое оружие обратно, его отдаст, в этом случае всякий сказал бы, что отдавать не следует» [там же]. Получив согласие Кефала на свое возражение, Сократ торжествует. «Стало быть, — говорит он, — не это определяет справедливость: говорить правду и отдавать то, что взял» [там же, 331 D]. Но тут сын Кефала Полемарх, заступивший в беседе место отца, поддерживает, ссылаясь при этом на авторитет Симонида, отвергнутое Сократом определение «справедливости». Повторив свое возражение против определения Симонида, Сократ высказывает догадку, будто Симонид в качестве поэта определил значение «справедливости» иносказательно («гадательно»), т. е. мыслил так, что справедливо было бы «воздавать каждому надлежащее, а это он назвал должным» [там же, 332 С]. Но и эта поправка не решает задачи определения «справедливости». Сам же Сократ, продолжая исследование, предвидит, что Симониду может быть задан следующий вопрос: «Что чему надо уметь назначать — конечно, должное и надлежащее, — чтобы оправдалось имя искусства врачевания?… А что чему надо придать — должное и надлежащее, — чтобы выказать поварское искусство?» [там же, 332 С]. Сообразуясь с ответами на первые два вопроса, Симонид должен был бы сказать, что справедливостью он будет «приносить друзьям пользу, а врагам причинять вред» [там же, 332 D]. Однако Сократ продолжает спрашивать: какой деятельностью и в каком отношении может быть справедливый полезен для друзей и вреден для врагов? На войне, помогая сражаться, отвечает Полемарх [см. там же, 332 Е]. Далее выясняется, что врач не полезен тому, кто не болен, кормчий — тому, кто не плавает. Напрашивается по аналогии ответ, будто справедливый не полезен тому, кто не сражается. Но Полемарх не соглашается с этим. Он полагает, что «справедливость» полезна не только во время войны, но и во время мира, как земледелие — для собирания плодов, сапожническое мастерство — для приготовления обуви. На вопрос Сократа, для какой нужды и для какого приобретения полезна «справедливость» во время мира, Полемарх отвечает, что она нужна в делах, и поясняет, что под делами он понимает совместное участие [см. там же, 333 А]. Из последующих вопросов становится, однако, ясно, что, например, при игре в шашки полезнее сноситься не с человеком справедливым, а с игроком, а при кладке плит и камней — опять-таки не со справедливым, а с зодчим или домостроителем. Возникает вопрос: в каких же сношениях справедливый будет лучше и полезнее, чем кифарист, подобно тому как кифарист лучше и полезнее, чем справедливый, при игре на кифаре? Полемарх находит, что справедливый будет лучше в денежных сношениях. Но Сократ указывает, что справедливый будет лучше не только в этих случаях; а с другой стороны, когда необходимо за деньги сообща купить или продать лошадь, полезнее снестись с конюхом, когда корабль — с кораблестроителем или кормчим. Сократ уточняет свой вопрос: в каком случае для употребления золота или серебра сообща полезнее других именно человек справедливый? Полемарх отвечает, что в случаях, когда необходимо бывает вверить деньги и сберечь их. То есть, уточняет Сократ, когда надобно не употребить, а положить их. Но при этом получается, будто «справедливость» в отношении денег тогда бывает полезна, когда деньги сами бесполезны. Аналогичных случаев можно указать множество: для хранения садового резца «справедливость» полезна, но для употребления его необходимо искусство садовника; чтобы сохранить щит и лиру без употребления, полезна «справедливость», но когда требуется употребить их, необходимы искусства: оружейное и музыкальное. То же у Полемарха получается во всем другом: «справедливость» бесполезна при полезности и полезна при бесполезности. По поводу этих выводов Сократ замечает иронически: «Стало быть, друг мой, справедливость это не слишком важное дело, раз она бывает полезна только при бесполезности» [там же, 333 D — Е]. Но диалектическое исследование понятия «справедливости» продолжается. Из нескольких им самим предложенных примеров Сократ извлекает обобщающий вывод — не менее парадоксальный, чем предложенная Полемархом характеристика отношения «справедливости» к полезному и бесполезному. Собеседники соглашаются в том, что если человек в сражении, в кулачном бою или в каком-нибудь ином подобном случае умеет нанести удар, то он же сумеет и поберечься; что тот защитник и хранитель лагеря хорош, который знает также, как похитить замыслы и действия неприятеля. Формулируется вывод: кто отлично сторожит что-то, тот и отлично может это украсть. Другими словами, резюмирует Сократ, справедливый человек есть, по-видимому, вор, и «справедливость», согласно мнению Гомера, Полемарха и Симонида, есть «нечто воровское, однако направленное на пользу друзьям и во вред врагам» [там же. 334 В]. Однако, когда Сократ прямо «в лоб» спрашивает Полемарха, так ли он говорил, тот, окончательно сбитый с толку, признается, что он и сам не знает, что он говорил, но все же с выводом Сократа не согласен, хотя ему все еще представляется, что справедливость велит «приносить пользу друзьям и вредить врагам» [там же, 334 В]. Характеристика методаДалее беседа переходит в рассмотрение вопроса, кого следует называть друзьями, Я кого — врагами. Но у нас уже имеется достаточно данных, чтобы охарактеризовать — с логической точки зрения — метод Сократа. По ранним диалогам Платона мы можем составить ясное и точное представление о том, чем была «диалектика» Сократа. Сократ несомненно дал толчок к развитию в философии учения об общем понятии. Однако от толчка до выяснения диалектической функции общего понятия дистанция оставалась еще значительной. Сократ не прошел этой дистанции не по недостатку проницательности, а потому, что весь его интерес был сосредоточен не на области общей теории диалектики, а на области этики. Диалектика Сократа есть только пропедевтика его этических исследований. Тем не менее в ранних диалогах Платона сократовская диалектика получила характеристику рельефную и яркую. Более того, с известными предосторожностями мы можем для этой характеристики использовать не только первые по времени диалоги Платона, но даже и диалоги более позднего периода. Условие такого использования — исключение из характеристики сократовской диалектики отнюдь не всего, что об этой диалектике рассказывает нам Платон, а только ее специфически платоновских черт. Это прежде всего теория запредельных миру «идей», а затем трактовка вопроса о знании и его видах. Но многие черты философских воззрений Сократа, как их изображает Платон не только в «Лахесе», «Хармиде», но и в «Федре», «Федоне», «Меноне», а также в первой книге «Государства», принадлежат подлинному Сократу и дышат тем же реализмом, каким дышит изображение Сократа на прогулке с Федром («Федр»), на пиру у Агафона («Пир»), в тюрьме («Федон»). В полном согласии с тем, что нам сообщает Ксенофонт, Сократ, выведенный Платоном в его диалогах, выясняет связь между диалектикой и собственно логическими операциями разделения на роды и виды. Руководимое Сократом философское исследование имеет целью прежде всего установить значение того или иного широкого родового термина (например, «мужества», «справедливости» и т. п.). Вопросы, которые ставит Сократ и с помощью которых он исследует это значение, формулируются так, что они приводят ответы на них, предлагаемые собеседником Сократа, к явному противоречию. Определение термина вступает в противоречие либо с различными единичными предметами, явлениями, свойствами и случаями, которые этот термин не должен охватывать, но которые он охватывает, либо, наоборот, с другими, которые он должен охватывать, но которых он не охватывает. Своими различными ответами собеседник все вновь и вновь ввергается в противоречия. Эти противоречия принуждают его признать или то, что он не достиг точного и ясного понятия о свойстве, общем для различных частных факторов, охватываемых исследуемым общим термином, или то, что такого общего свойства вообще не существует и что полученное обобщение только чисто словесное и ложное. И в том и в другом случае Сократ сообщает мыслям собеседника направление, которое ведет к поправке оказавшегося несостоятельным обобщения, и подводит таким образом собеседника к тому, что Платон называет «видеть единое во многом или многое в едином». Другими словами, Сократ предвосхитил то, что впоследствии Платон и Аристотель описали как двойной путь диалектического процесса — расчленение единого на многое и соединение многого в единое. Первую задачу — самую важную и существенную — Сократ выполнял прямо — аналитической цепью вопросов; вторую он редко брался выполнять прямо, но старался вооружить и возбудить ум слушателя так, чтобы последний мог сделать это сам. Это единое и многое обозначает логическое распределение разнообразной материи по родовым терминам — при ясном понимании атрибутов, подразумеваемых под каждым термином или им сообозначаемых, — так, чтобы различать те частные факты, к которым он реально применяется. Трудность отделения сократовского ядра диалектики от содержания, которое понятие диалектики приобретает у Платона, состоит в том, что учение Сократа об общем как о реальном основании определения было усвоено Платоном в его теории идей. Зачастую грань между обоими учениями становится неуловимой, и значение платоновской идеи неопределенно колеблется между логическим видом и сущностью. Неотделимость диалектики Сократа от его учения об определении понятия надежно засвидетельствована сообщениями Ксенофонта и опирающегося на него Аристотеля. Ксенофонт не только указывает на значение, которое имело определение понятия в диалектике Сократа, но и отмечает, что именно в определении понятия Сократ видел раскрытие сущности вещи. По сообщению Ксенофонта, само слово «диалектика (dialecesqai)» Сократ выводил из того, что люди, совещаясь в собраниях, «разделяют предметы по родам» [Воспоминания, IV, 5, 12]. «Сократ, — поясняет Ксенофонт, — держался такого мнения: если кто знает, что такое данный предмет, то он может объяснить это и другим; а если не знает, то нисколько не удивительно, что он и сам ошибается, и вводит в ошибку других» [Воспоминания, IV, 6,1]. Такое определение понятий — необходимый путь, ведущий к диалектике. Поэтому, поучал Сократ, надо стараться как можно лучше подготовиться к этому и усердно заниматься этим: «Таким путем люди становятся в высшей степени нравственными, способными к власти и искусными в диалектике» [Воспоминания, IV, 5; 12]. Едва ли не сильнее всего мысль Сократа о решающем значении определения понятия для этического поведения человека выражена в диалоге Платона «Протагор». Мысль эту развивает здесь не кто иной, как сам Сократ, выведенный в числе действующих лиц диалога. Сократ в «Протагоре» — несомненно не просто литературная маска. Диалог написан в то время, когда точка зрения Сократа была и точкой зрения Платона. В одном месте диалога рассматривается вопрос, есть ли в знании сила. способная руководить людьми. Вопрос этот Сократ формулирует чрезвычайно четко: «Ну-ка, Протагор, открой мне вот какую свою мысль: как относишься ты к знанию? Думаешь ли ты об этом как большинство людей, или иначе? Большинство считает, что знание не обладает силой и не может руководить и начальствовать… Несмотря на то, что человеку нередко присуще знание, они полагают, что не знание ими управляет, а что-либо другое: иногда страсть, иногда удовольствие, иногда скорбь, иной раз любовь, а чаще — страх… Таково ли, примерно, и твое мнение о знании, или ты полагаешь, что знание прекрасно и способно управлять человеком, так что того, кто познал хорошее и плохое, ничто уже не заставит поступать иначе, чем велит знание, и разум достаточно силен, чтобы помочь человеку?» [Протагор, 352 ВС]. Особенно большой ошибкой Сократ считает ошибку большинства людей, утверждающих, «будто многие, зная, что лучше всего, не хотят так поступать, хотя бы у них была к тому возможность, а поступают иначе» [там же, 352 D]. В ходе развития диалога Сократ вынуждает своих оппонентов, которым он возражает от своего имени и от имени Протагора, признать смехотворным их утверждение, «будто нередко человек, зная, что есть зло, и имея возможность его не совершать, все-таки совершает его» [там же, 355 А]. Сократ полагает, что во всех случаях, когда перед действующим или определенным к действию человеком возникают альтернативы, выбор производится на основе знания. «Тут во всяком случае речь идет о знании» [там же, 357 С]. И наоборот, те, кто ошибается в выборе между благом и злом, «ошибаются по недостатку знания» [там же, 357 D]. А ошибочное действие без знания совершается «по неведению» [там же, 357 Е]. В конце диалога Сократ, начавший с утверждения, будто добродетели нельзя научить, приходит к противоположному утверждению, что «все есть знание: и справедливость, и рассудительность, и мужество» [там же, 361 В]. Вслед за Ксенофонтом и Платоном тесную связь между этическим учением Сократа и его диалектикой — с центральным для нее учением об определении понятия — указал Аристотель. Связь эту Аристотель подчеркнул, желая, по-видимому, выделить исконно принадлежащее Сократу в его нравственном учении, а также попутно выявить сократовские элементы учения Платона. «Так как Сократ, — сообщает Аристотель, — занимался исследованием этических вопросов, а относительно всей природы в целом его совсем не вел, в названной же области [этической], искал всеобщего и первый направил свою мысль на общие определения, то Платон, усвоивши взгляд Сократа… признал, что такие определения имеют своим предметом нечто другое, а не чувственные вещи, ибо нельзя дать общего определения для какой-нибудь из чувственных вещей, поскольку вещи эти постоянно изменяются. Идя указанным путем, он подобные реальности назвал «идеями», а что касается чувственных вещей, то о них [по его словам] речь всегда идет отдельно от «идей» и [в то же время] в соответствии с ними, ибо все множество вещей существует в силу приобщения к одноименным [сущностям]» [Met., 1,6, 987 в 1 — 10; 7, с. 29]. Впоследствии в трактате «О частях животных» Аристотель напомнил, что в эпоху Эмпедокла «о сути бытия» и об определении сущности не имели понятия, и коснулся этого впервые Демокрит «не как необходимого для рассмотрения природы, а просто будучи приведен к этому самим делом» [О частях животных, 642 А, 27–28]. «Во времена Сократа, — продолжает Аристотель, — это направление возросло, а исследование природы остановилось и люди философствующие обратились к полезной для жизни добродетели и политике» [там же, 642 А, 28–31]. Таким образом, Аристотель примыкает к тому взгляду на роль Сократа в разработке диалектики, которого придерживались Ксенофонт, Платон и школа Платона. Сократ для него, как для Ксенофонта и для членов Академии, — основатель философии понятий, первый философ, признавший, будто «сущность» вещи коренится в понятийном всеобщем. Источником платоновской теории «идей» Аристотель считает указанные Сократом приемы установления общих определений. Из «физиков» (натурфилософов) до Сократа «слегка подошел к этому» только Демокрит, давший определение теплого и холодного. Еще раньше это делали для немногих вещей пифагорейцы, поставившие свои понятия в связь с числами. В отличие от всех этих своих предшественников Сократ, согласно Аристотелю, «занимался вопросом о нравственных добродетелях и впервые пытался устанавливать в их области общие определения» [Met., XIII, 4, 1078 в 17–19; 7, с. 223]. Согласно характеристике и оценке Аристотеля, Сократ «правомерно искал сущность [вещи], так как стремился делать умозаключения, а началом для умозаключений является сущность вещи» [Met., XIII, 4, 1078 в 23–25; 7, с. 223]. Поиски общих определений, с помощью которых Сократ стремился отыскать «сущность вещи», Аристотель прямо связывает с возникновением отсутствовавшей до Сократа диалектики. «Ведь тогда еще не было, — поясняет Аристотель, — диалектического искусства, так чтобы можно было, даже не касаясь этой сущности, рассматривать противоположные определения, а также — познает ли такие определения одна и та же наука» [Met., XIII, 4, 1078 в 25–27; 7, с. 223]. В это положение вещей Сократ внес, согласно Аристотелю, изменение. Оно может быть сведено к двум нововведениям. «По справедливости, — говорит Аристотель, — две вещи надо было бы отнести за счет Сократа — индуктивные рассуждения и образование общих определений» [Met., XIII, 4, 1078 в 27–29; 7, с. 223]. И тут же Аристотель разъясняет, что эти нововведения Сократа, относящиеся к началам науки, существенно отличаются от теории «идей», противостоящей учению Гераклита о постоянной текучести чувственных вещей. Нововведения эти отличаются от теории Платона тем, что Сократ не приписывал общему и определениям обособленного от чувственных вещей существования [см. Met., XIII, 4, 1078 в 30–31; 7, с. 223]. Напротив, сторонники «идей» (т. е. Платон и академики) эти стороны «обособили» и подобного рода реальности назвали «идеями» [см. Met., XIII, 4, 1078 в 31–32; 7, с. 223]. Учение об определении, опирающееся на понятие об общем, а также учение о доказательстве составляют в философии Сократа то, что можно было бы назвать ядром положительной диалектики. Но есть в философии Сократа также и ядро диалектики отрицательной. Это представление о роли противоречия в определении и в выяснении сущности предмета. Отрицательная диалектикаУже элеаты, особенно Зенон, заметили, что открытие противоречия в мыслях о предмете может быть средством, ведущим к познанию истины. Зенон развил ряд доказательств, напоминающих по своему логическому построению применяемые в математике так называемые «доказательства» от противного». Так, Зенон принимает — в качестве условного допущения, — что множество вещей мыслимо. Сделав это допущение, он доказывает затем, что из него необходимо вытекают взаимно противоречащие следствия по вопросам о свойствах элементов множества и о числе, или сумме, элементов множества. Возникает ситуация, парадоксальная в логическом отношении. Так как доказательства всех противоречащих друг другу следствий логически безупречны, то необходимо заключить, что в основе их всех лежит общая им всем ложная предпосылка — условно принятое допущение, будто множество вещей мыслимо. Таким образом, эта предпосылка ложна, и множество вещей мыслимо быть не может. Метод аргументации Зенона получил применение в диалектических рассуждениях Сократа. В вопросо-ответной диалектике Сократа часто повторяется и воспроизводится следующее логическое построение. После того как собеседник Сократа дал ответ на поставленный ему вопрос о сущности исследуемого явления, Сократ задает собеседнику следующие — дополнительные — вопросы с таким расчетом, чтобы новые ответы собеседника оказались в логическом противоречии с ответом на первый вопрос. Заметив противоречие, собеседник вносит поправку в свой ответ. Но поправка эта подвергается Сократом новому испытанию, или, как он его называет, «обличению» (elegcein), — возникает противоречие между предыдущим определением и новым ответом. Вновь вносится поправка в искомое определение и т. д. В результате если и не достигается окончательное истинное определение (обычно именно так и бывает), то во всяком случае получается опровержение целого ряда мнений собеседника как мнений ложных. Прием этот проводится Сократом во множестве диалогов: то опровергается эстетическая теория знаменитого приезжего рапсода («Ион»), то теории посещавших Афины софистов («Протагор», «Горгий», «Гиппий»), то учение представителя какой-нибудь философской школы («Кратил») и т. п. Яркими красками — психологическими и художественными — рисует Платон состояние собеседника Сократа — недоумение и смущение, переходящее порой в настоящее интеллектуальное смятение и страх. Но еще важнее, чем этот — психологический — эффект, результат логический и диалектический: чтобы прийти к истине, необходимо, по Сократу, пройти через ворота противоречия. Конечно, не следует преувеличивать значение этого результата. На этой стадии развития диалектики смысл и структура противоречия далеко еще не уточнены и играют в диалектике Сократа всего лишь отрицательную роль: противоречие понимается не как запечатление и не как выражение самой истины, а только как необходимое условие приближения к ней — через устранение заблуждения. Оно указывает путь к истине лишь в той мере, в какой оно — именно как противоречие, как попытка совместить в мысли несовместимое — оказывается несостоятельным и потому устраняется, упраздняется, снимается. Противоречие в диалектике Сократа — не форма выражения истины и не прямое ее отражение. Противоречие в ней — только стимул для дальнейшего исследования, которое необходимо приведет к самой истине, но которое в качестве возвещения истины будет уже свободно от всякого противоречия. Диалектика Сократа — там, где она имеет место, — развивается и осуществляется под знаком преодоления противоречия, отрицания противоречия, изгнания противоречия. Предметом знания может быть, по Сократу, только то, что доступно целесообразной деятельности человека. Но так как, согласно Сократу, наиболее подвластна человеку деятельность его души, то главной задачей познания Сократ провозглашает самопознание, истолковав в этом, идеалистическом, смысле старинную формулу дельфийского оракула: «Познай самого себя». Не только каждое отдельное действие должно, по Сократу, руководиться известной целью, но, кроме того, должна существовать единая общая и высшая цель, которой подчиняются все частные цели и которая есть безусловное высшее благо. Последняя мысль резко отделяет учение Сократа от крайнего релятивизма софистов. Однако в условиях человеческой жизни Сократ признает относительный релятивизм, неизбежный для всякой целесообразной деятельности: благо обусловливается пользой и удовлетворением, так что хорошее есть одновременна и полезное для достижения цели, с точки зрения которой оно определяется как хорошее. Рационалистическая тенденция в этике СократаУчение Сократа о знании как об определении общих понятий и применявшиеся Сократом индуктивные приемы определения этических понятий сыграли роль в развитии логики. Основная черта этики Сократа, тесно связанная с его взглядом на роль понятий, состоит в отождествлении нравственной доблести со знанием. По Сократу, деятельность человека всецело определяется его понятиями о доблести, о благе и вытекающими из этих понятий целями. Поэтому никто не может заблуждаться или дурно поступать по доброй воле: нет человека, который, зная, что он может сделать нечто лучшее сравнительно с тем, что он делает, стал бы, напротив, делать худшее. Таким образом, Сократ сводил всякое дурное действие всецело к простому незнанию или заблуждению, а мудрость — к совершенному знанию. Этот этический рационализм Сократа был предметом удивления уже у древних: Аристотель отмечал, что Сократ превратил добродетели в понятия, в науки или познания особого рода. Учение Сократа о знании как усмотрении общего посредством понятий было развито учеником Сократа Платоном в его теории «видов», или «идей». Сократовские школыВ начале 4 в. до н. э. некоторыми учениками Сократа были основаны новые философские школы, получившие наименование сократовских, или сократических. Таковы школы: 1) мегарская; 2) элидо-эретрийская; 3) киренская; 4) киническая. Первые три получили название по городам, где жили их руководители, последняя — по насмешливому прозвищу «пес», данному ее представителю — Диогену из Синопа (не смешивать с Диогеном из Аполлонии). Каждая из этих школ по-своему решала поставленные Сократом вопросы о высшем благе, о возможности познания, о предмете общих понятий, об их достоверности и о целях практической деятельности, ведущих к благу. 1. Мегарская школа. Основанная уроженцем Могары, учеником и ревностным почитателем Сократа Евклидом (не смешивать с математиком Евклидом), мегагрская школа просуществовала до середины 3 в. до н. э. и имела, кроме Евклида, ряд последователей: Евбулида, Диодора и Стилпона. В основе учения мегарской школы лежала мысль, будто предметом знания могут быть только «бестелесные виды» или общее, постигаемое посредством понятий. Общее совпадает с единым благом и неизменно по природе. Ни чувственный мир, ни удостоверяемые ощущениями возникновение, гибель, движение и изменение невозможны, и всякая попытка мыслить их ведет к противоречиям. Для обоснования этих положений мегарцы изобрели много доводов, в которых метафизически противопоставили общее единичному и в результате пришли (Стилпон) к софистическому отрицанию возможности относить общее понятие к единичным предметам [подробнее см. 22а, гл. II]. 2. Элидо-эретрийская школа. Элидо-эретрийская школа была основана Федоном из Элиды; один из деятелей этой школы Менедем положил впоследствии начало эретрийской школе. Федон и Менедем были искусными спорщиками и учителями красноречия, однако школа их не прибавила оригинальных идей к учению мегарцев, с которыми ее представители разделяли взгляд на единство доблести и блага. 3. Киническая школа. Основателем кинической школы был Антисфен (вторая половина 5 — первая половина 4 в. до н. э.), слушавший софистов, а затем примкнувший к Сократу. Антисфен резко выступал против учения Платона о бестелесных постигаемых умом «видах», или «идеях». Из учеников Антисфена выделился Диоген из Синопа (умер в 323 г. до н. э.), прославившийся невозмутимой последовательностью, с какой он осуществлял развитый им идеал этического поведения. Учением и примером Диогена были захвачены Кратес из Фив и его жена Гиппархия. Идеи кинической этики обнаруживают свою силу еще в 3 в. до н. э., но в дальнейшем киническая школа сливается со стоицизмом, выдвинув, однако, в первых двух веках нашей эры нескольких ярких представителей. Чему учил Антисфен? Основное теоретическое положение Антисфена — отрицание реальности общего. Существуют только единичные вещи. Понятие есть лишь слово, объясняющее то, чем вещь бывает или что она есть. Поэтому применение к отдельным предметам общих понятий невозможно: невозможно ни соединение различных понятий в единстве суждения, ни определение понятий, ни даже противоречие, так как о всякой вещи может быть высказано только суждение тождества, вроде: конь есть конь, стол есть стол. Учение Платона об умопостигаемых «видах» несостоятельно, так как восприятию доступен единичный, чувственно воспринимаемый экземпляр вида, но никак не самый «вид» или «идея». По этике киников мудрость состоит не в недоступном для человека теоретическом знании, но лишь в познании блага. Истинное благо может быть только достоянием каждого отдельного лица, а целью добродетельной жизни может быть не богатство, не здоровье и даже не сама жизнь (все это блага, нам неподвластные), а лишь спокойствие, основанное на отрешении от всего, что делает человека зависимым: от имущества, от наслаждений, от искусственных и условных понятий, принятых среди людей. Отсюда мораль аскетизма, идеал крайней простоты, граничащей с «докультурным» состоянием, презрение к большинству нужд и потребностей, кроме основных, без которых сама жизнь была бы невозможна, насмешка над всеми условностями, над религиозными предрассудками, проповедь безусловной естественности и безусловной личной свободы. 4. Киренская школа. Киренская школа была основана уроженцем африканской Кирены Аристиппом и продолжена Аретой, Антипатром, а затем Феодором, Гегесием и Анникеридом (около 320–280 гг. до н. э.). Вместе с киниками Аристипп исходит из убеждения, что предметом знания может быть только практически достижимое благо. Так как орудием познания могут быть, по Аристиппу, только наши ощущения и так как в ощущениях постигаются будто бы не свойства самих вещей, а лишь наши собственные, совершенно индивидуальные состояния, то критерием блага может считаться только испытываемое нами при ощущении наслаждение или страдание. Наслаждение не может быть состоянием безразличного покоя, а лишь положительным удовольствием, простирающимся не на прошлое и не на будущее, а лишь на настоящее. Только отдельное, заполняющее данный миг удовольствие имеет цену и должно быть предметом стремлений. Так как ни прошлое, ни будущее нам не принадлежит, то ни раскаяние, ни надежда на будущее, ни страх перед будущим не имеют никакого смысла. Цель жизни — в наслаждении настоящим. Из всех возможных наслаждений наиболее желательны чувственные, так как они самые сильные. Однако средством к достижению счастья должна быть свобода, которая дала бы нам силу отказаться от недостижимого удовольствия или от удовольствия, удовлетворение, которого грозит причинить нам страдание. Поэтому философ должен быть одинаково готов как к тому, чтобы воспользоваться ими, если позволят обстоятельства, так и к тому, чтобы с легким и беспечальным сердцем от них отказаться. Из учения Аристиппа Феодор вывел отрицание существования богов и необязательность этических норм для мудреца. В отличие от Аристиппа Феодор целью деятельности считал не наслаждение единичными удовольствиями, а радость, стоящую выше отдельных благ и предполагающую в том, кто к ней стремится, рассудительность. 2. Пифагорейцы второй половины 5–4 вв. до н. э Современниками Сократа и Демокрита, Платона и Аристотеля были философы, называемые пифагорейцами, но представляющие в сравнении с первыми учениками Пифагора новую фазу в развитии пифагорейского учения. Главным их представителем в 5 в. до н. э. считается Филолай, о котором сообщают, что он после разгрома Кротонского союза эмигрировал в греческие Фивы, и которому приписывают дошедшее в отрывках сочинение «О природе». Сопоставленные с Аристотелем, фрагменты Филолая, можно считать, представляют учение поздних пифагорейцев. По сообщению Аристотеля, эти пифагорейцы, предавшись математическим занятиям, стали считать началами всего числа, так как в числах они находили много сходства с тем, что существует и происходит, и так как числа — первичные элементы всех математических начал. Но и числа восходят, по взгляду поздних пифагорейцев, к еще более первичным началам, которыми пифагорейцы считали соединение «предела» и «беспредельного» Единству материального начала милетцев они противопоставляли два начала, из которых «беспредельное» есть неоформленное вещество, а «предел» — начало оформления. Числовыми отношениями не только определяются отношения и порядок вещей, но числа принимаются поздними пифагорейцами за начала и в качестве материи вещей и в качестве выражения их состояний. При этом числа имеют бытие, не отдельное от вещей: сами чувственные сущности рассматриваются как состоящие из чисел. Воззрение это было подготовлено сведением геометрических величин к арифметическим: точка уподоблялась единице, линия — двойке, плоскость — тройке, тело — четверке. Впоследствии крупнейший из поздних пифагорейцев Архит из Тарента (начало 4 в. до н. э.) ввел метод построения геометрических тел из движущихся точек. линий и плоскостей, не считаясь с тем, что при этом чувственно воспринимаемые свойства физических тел оставались необъясненными. Метод этот, дававший результат в области геометрических отвлеченных построений, был распространен на объяснение свойств вещей и явлений любых областей, вырождаясь в фантастическую и произвольную игру аналогиями. Так, по сообщению Аристотеля, пифагорейцы сводили к числам справедливость, душу, разум, благоприятное для действия время и т. д. Критикуя [см: Метафизика, кн. 14, гл. 3] это воззрение пифагорейцев, Аристотель отмечает, что, поскольку пифагорейцы «делают из чисел физические тела, из вещей, не имеющих тяжести и легкости — такие, у которых есть тяжесть и легкость, — получается впечатление, что они говорят о другом небе и о других телах, а не о чувственных» [Met., 1090 а 32–35]. Однако сведением всех вещей к числам «впервые высказывается», как отметил Ф. Энгельс, «мысль о закономерности вселенной» [1, т. 20, с. 503]. Особое значение пифагорейцы приписывали числам в деле познания. По Филолаю, если бы природа не определялась числом, познание было бы невозможно. Число направляет и научает каждого относительно всего сомнительного и неизвестного. Прилаживая все вещи к ощущению в душе, число делает их познаваемыми и соответствующими друг другу, сообщает им телесность и разделяет понятия о вещах беспредельных и ограниченных. Гармония противоположностей и космосОсновная для пифагорейцев противоположность предела и беспредельного дает начало ряду производных противоположностей; нечетного и четного, единого и многого, покоящегося и движущегося и т. д. Одни из этих противоположностей относятся к области арифметики и геометрии, другие — к области физики, третьи — к биологии и явлениям нравственной жизни. Возникновение из противоположностей мирового строя (термин «космос» в смысле миростроя введен пифагорейцами) предполагает гармонию, которая есть соединение смеси разногласного. Согласно пифагорейцам, мир образуется в процессе гармоничного устроения противоположностей и в результате принимает форму шара. В области астрономии пифагорейцы делают огромный шаг вперед в сравнении с предшествующим и современным им материализмом. На место устаревших представлений Анаксимена и атомистов о плоской форме Земли, поддерживаемой снизу воздухом, пифагореец Архит и его ученики выдвигают математически обоснованное учение о шарообразности Земли. Движение Земли, Луны, Солнца и планет равномерно и происходит по геометрически правильным орбитам не в воздухе, облегающем Землю и заполняющем ее пустоты, а в эфире. Перенеся сделанные в акустике наблюдения в теорию движения планет, пифагорейцы принимают, что скорости движения планет обратно пропорциональны длине их путей, или их удалению от центра их обращений. В дальнейшем развитие этой теории пошло еще более быстрым темпом. Ученик Архита математик Эвдокс ввел для объяснения видимых неравенств в движениях планет гипотезу о концентрических сферах, к которым прикреплены светила и которые вращаются с равномерной скоростью вокруг осей, наклоненных друг к другу под некоторым углом. Гипотеза Эвдокса принимала центральное положение Земли в мире, но вскоре и это воззрение было оставлено и заменено первым в истории науки учением, помещающим Землю подобно другим светилам на одной из концентрических сфер, обращающихся вокруг центрального огня, занявшего место Земли. Между центральным огнем (невидимым с Земли) и Землей было предположено существование также невидимой с земного шара «противоземли» — отчасти для объяснения затмений, отчасти для дополнения числа светил и их сфер до десяти, так как десять считалось у пифагорейцев особо важным числом. Жители Земли, обитающие на стороне земного шара, противоположной как «противоземле», так и центральному огню, получают свет не прямо от центрального огня, а в отраженном виде от Солнца и Луны. Движение Земли двойное: вокруг оси и центрального огня. Длительные и углубленные многолетние занятия астрономией связались у пифагорейцев с занятиями музыкальной акустикой, необходимыми ввиду важной роли, которую музыка играла в системе воспитания. В этой области пифагорейцы открыли, что гармонические созвучия октавы, квинты и кварты обусловлены числовыми отношениями и что при одинаковом натяжении струн высота тона обратно пропорциональна длине звучащей струны. На аналогии между этим отношением и отношением скоростей движения планет, к их расстояниям пифагорейцы построили совершенно фантастическое, но тем не менее разделявшееся еще в XVII в. Кеплером учение о музыкальной гармонии движущихся небесных сфер. Таким же фантастическим и произвольным оказалось учение пифагорейцев о периодической повторяемости всех состояний и событий, происходящих в мире. Учение пифагорейцев о душе принадлежит к той части философии, в которой пифагорейцы всего теснее примыкают к древним мистическим религиозным представлениям первых основателей союза. Напротив, в области пифагорейской медицины выделился врач из Кротона Алкмеон (5 в. до н. э.) как один из корифеев античной науки. Алкмеон рассматривал состояние здоровья как гармоничное сочетание качеств влажного и сухого, холодного и теплого, сладкого и горького, а состояние болезни — как возобладание какого-либо одного из них. Поразительны физиологические догадки и открытия Алкмеона: он установил, что орган душевных и мыслительных процессов — не сердце, как полагали до него, а мозг, установил различие между способностью к восприятиям, свойственной и животным, и способностью к мышлению, принадлежащей только человеку, а также показал, что ощущения доводятся до мозга посредством особых путей, соединяющих органы чувств с мозгом. Ему же принадлежат попытки физиологического объяснения чувственных восприятии, например, зрения. В правилах практического поведения, в определении норм этики пифагорейцы руководились главным образом представлениями и предписаниями своего религиозно-мистического мировоззрения. В 4 в. до н. э. деятельность пифагорейцев сходит на нет. Отголоском пифагорейских мистических и религиозных воззрений оказались возникшие в совершенно иной исторической обстановке так называемые неопифагорейские учения 1 в. до н. э. 3. Атомистический материализм Левкиппа и Демокрита  Во второй половине 5 в. до н. э., наряду с уже известными нам крупными очагами развития науки и философии в Греции, на севере страны, во Фракии появился новый центр — город Абдеры. Здесь, по-видимому, протекала деятельность Левкиппа в его зрелую пору, а также деятельность Демокрита. Хронология жизни и деятельности Демокрита устанавливается неточно. По одним сообщениям, он родился около 460 г., по другим — около 470 г. до н. э. Если принять последнюю дату рождения, то получается, что Демокрит был почти ровесником афинского философа Сократа, о котором достоверно известно, что он родился в 469 Г. Из обеих дат надежнее первая (460), сообщаемая хронографом Аполлодором. Вторая дата (470), сообщаемая Фрасиллом, античным издателем работ Демокрита, внушает подозрение в том, что она подогнана к ошибочной точке зрения Аристотеля, рассматривавшего Демокрита как предшественника Сократа. Демокрит был современником также одного из крупнейших софистов старшего поколения — Протагора. Имеются основания предполагать, что одной из главных идейных и теоретических задач, которые ставил перед собой Демокрит, было опровержение скептической теории познания софистов старшего поколения» а также доказательство того, что, вопреки учению софистов, наука возможна как вполне достоверное знание. Закончив цикл длительных научных поездок в страны тогдашнего культурного Востока, Демокрит вернулся в Абдеры, где и протекала его научная деятельность. Здесь кроме Демокрита и, возможно, его учителя Левкиппа жил и творил софист Протагор, а также некоторое время великий греческий натуралист и врач Гиппократ. Эти три имени — Демокрит, Протагор и Гиппократ — доказательство того, что захудалые ранее Абдеры стали со второй половины 5 в. до н. э. видным научным центром. Это может быть объяснено экономическими и политическими связями, возникшими в это время между Фракией, северной окраиной Греции, и Персией. Через Абдеры в это время проходили торговые пути, ведущие на Восток. Персидский царь Ксеркс останавливался в Абдерах, сохранилось предание о том, что отец Демокрита оказал ему гостеприимство. Связи Демокрита с современными ему учеными были разнообразны. Древние сообщают, что Демокрит был учеником своего предшественника и друга Левкиппа. Он общался с Анаксагором, от которого мог почерпнуть идею о возникновении вещей из соединения мельчайших частиц. Он был также учеником персидских ученых, халдеев и магов. Демокрит мог быть и учеником индийцев, так как совершил путешествия и в Вавилон, и в Персию, и в Индию, и в Египет. Дата смерти Демокрита устанавливается со значительными колебаниями. Это или самый конец 5 в., или, что вероятнее, начало 4 в. до н. э. Маркс в своей юношеской, написанной еще под влиянием гегелевского идеализма, диссертации «О различии между натурфилософией Эпикура и Демокрита» отмечает как наиболее резкую и определяющую черту личности и ума Демокрита ненасытную жажду знаний, стремление ко все большему умножению теоретических сведений, которые он заимствовал и от ученых Греции, и из общения с учеными самых различных стран Востока. Сохранилось несколько полулегендарных преданий о жизни Демокрита. Отпрыск знаменитого рода, обладатель громадного доставшегося ему наследства, Демокрит истратил все свое состояние на научные поездки. За это он был якобы привлечен к судебной ответственности, так как в те времена в Абдерах считалось преступлением непроизводительно растрачивать доставшееся от отца богатство. По преданию, Демокрит заменил оправдательную речь перед судьями и избежал кары, прочитав им свое сочинение, разработанное на основе знаний, добытых во время научных путешествий. Сообщение это вряд ли можно считать исторически достоверным, но оно свидетельствует о том, что Демокрит оставил после себя большой след как ученый и мыслитель, основным мотивом деятельности которого была страстная жажда к приобретению знаний и к научному исследованию. В одном тексте (по-видимому, впрочем, подложном), сообщаемом Климентом Александрийским, ранним христианским писателем II в. н. э., Демокрит говорит о себе следующее: «Из всех моих современников я обошел наибольшую часть Земли; я делал исследования более глубокие, чем кто-либо другой; я видел много разнообразных климатов и стран и слышал весьма многих ученых людей, и никто еще меня не превзошел в сложении линий, сопровождаемом логическим доказательством» [54, с. 123; 38, с. 215]. Несмотря на недостоверность, текст хорошо передает увлечение Демокрита теоретическими исследованиями и горделивое сознание достигнутых результатов. Сохранились составленные древними учеными списки сочинений, написанных Демокритом. Ни одно из этих сочинений не дошло до нас полностью, сохранились только отдельные цитаты и отрывки. Списки эти тем не менее заслуживают внимания, так как хорошо отражают полноту и широту научных интересов и всеохватывающий характер исследовательской деятельности Демокрита. По-видимому, важнейшей работой Демокрита можно считать «Великий мирострой», т. е. учение, о строении мира. В сочинениях Демокрита рассматривались различные вопросы этики, логики, теории познания, математики, астрономии, физики, биологии, техники, литературы, поэтики (т. е. теории поэзии), эстетики, языкознания и ряда других областей научного знания. Демокрит — всеохватывающий ум конца 5 — начала 4 в. до н. э. Впоследствии в школе Демокрита работы Демокрита (и, по-видимому, Левкиппа) составили свод его сочинений, так называемый corpus Democriteum. На нем основывается перечень сочинений Демокрита, сообщенный Каллимахом и почерпнутый из Каллимаха Фрасиллом (I в. н. э.). Атомистический материализмНазвание учения показывает, что основное физическое (и философское) воззрение Левкиппа и Демокрита состоит в гипотезе о существовании неделимых частиц вещества. Греческое слово «атомос» означает: «неделимый», «неразрезаемый на части». По сообщению Симплиция, Левкипп и Демокрит говорили, что начала (физические элементы) бесконечны по числу, и их они называли «атомами» и считали их неделимыми и непроницаемыми, вследствие того что они абсолютно плотны и не заключают в себе пустоты. Они говорили, что разделение происходит благодаря пустоте, заключающейся не внутри атомов, а в телах, атомы же отделены друг от друга в бесконечной пустоте и различаются внешними формами, размерами, положением и порядком. Атомы носятся в пустоте; настигая друг друга, они сталкиваются, причем, где случится, одни отскакивают друг от друга, другие сцепляются или сплетаются между собой вследствие соответствия форм, размеров, положений и порядков. Образовавшиеся соединения держатся вместе и таким образом производят возникновение сложных тел [текст Симплиция: 38, с. 204]. Левкипп и Демокрит полагали, что бесконечно не только число атомов во вселенной, но и число возможных для различных атомов форм, т. е. их фигур, очертаний. Существуют атомы самой различной формы: шаровидные, пирамидальные, неправильной формы, крючковатые и т. п. Число этих различных форм бесконечно. Доказательство бесконечного числа форм атомов, конечно, не могло быть эмпирическим, вследствие невидимости и неосязаемости этих форм, а только логическим. Таким логическим доказательством атомисты считали отсутствие достаточного основания для утверждения, будто число атомных форм ограничено: они утверждают, сообщает Симплиций, что число форм у атомов бесконечно разнообразно «по той причине, что оно нисколько не больше такое, чем иное» [цитата из Демокрита у Дильса (54, II, S. 23); 38, с. 226]. Это учение — новый и вполне оригинальный способ решения естественнонаучной и философской проблемы, которая была поставлена перед греческой мыслью элейцами с их учением, согласно которому истинно сущее бытие не может ни возникать, ни погибать. Левкипп и Демокрит (так же, как Эмпедокл и Анаксагор) согласны с этим тезисом, но вместе с тем борются против воззрений элейцев, отрицавших мыслимость множества и мыслимость движения. Необходимо построить — такова идея Левкиппа и Демокрита — учение о природе, которое, принимая основной тезис элейцев о невозможности для истинно сущего бытия ни возникать, ни исчезать, в то же время отбросило бы ложные предпосылки элейского учения и признало бы не только чувственно воспринимаемую реальность движения, но также и его мыслимость, а также реальность и мыслимость множества. Мы видели выше, что Эмпедокл пытался решить эту задачу, разработав гипотезу о четырех «корнях всех вещей» и о двух силах, которыми они приводятся в движение. Анаксагор ту же задачу пытался решить, выдвинув гипотезу о существовании бесчисленного множества весьма малых частиц, а также о существовании отдельного от всего «ума» — механической движущей силы, которая приводит эти частицы в движение. Но ни Эмпедокл, ни Анаксагор не предполагали, что элементарные частицы вещества являются частицами абсолютно неделимыми, принципиально не допускающими возможность дальнейшего разделения или раздробления. Именно эта мысль становится основой материалистической философии и физики Левкиппа и Демокрита. Предпосылки учения атомистов требовали обоснования. Главная задача заключалась в том, чтобы преодолеть ошибочное скептическое и метафизическое положение элейцев, отрицавших возможность мыслить движение в пространстве, не впадая при этом в противоречие. Атомисты не ставят вопрос о причине движения атомов. Они не ставят его не вследствие «беспечности», как думал о них Аристотель [Met., I, 4, 985 в], а потому, что движение атомов представляется им изначальным свойством атомов. Именно как изначальное оно не требует объяснения причины. Но учение о движении атомов не есть и произвольное утверждение философа о том, что происходит в области чувственно невидимого и невоспринимаемого. Теория о невидимых нами движениях весьма малых атомов внушается нашему уму наблюдениями над процессами и явлениями, происходящими в чувственно воспринимаемой природе. Теория атомизма возникла у Левкиппа и Демокрита на основании наблюдений и некоторых аналогий. Предметом этих наблюдений были такие общеизвестные факты, как способность некоторых твердых тел сжиматься. Если тела могут сокращаться в своем объеме, значит, они состоят из частиц, между которыми имеется пустое пространство, иначе как могли бы они уменьшиться в объеме? В соответствии с этим Демокрит (по сообщению Теофраста) пояснял, что большая или меньшая степень твердости и мягкости «соответствуют большей или меньшей степени плотности и разреженности» [55, с. 517; 38, с. 263]. Наряду с этими соображениями в основе атомистической гипотезы, по-видимому, лежали и некоторые аналогии, в особенности при объяснении движения атомов. Согласно одному из дошедших до нас текстов, по учению Левкиппа и Демокрита, атомы носятся или движутся в пустом пространстве во всех направлениях, «трясутся», по несколько странному выражению комментатора. У Лукреция в его философской поэме «О природе вещей» развивается прекрасный образ, восходящий — через Эпикура, последователем которого был Лукреции — к аналогии самого Демокрита. Лукреций сравнивает движение «трясущихся» во всех направлениях атомов с беспорядочными движениями пылинок в воздухе. В самом деле, если сквозь щель. пропустить в комнату солнечный свет, то в снопе лучей этого света можно заметить сверкающие пылинки, которые носятся по всем направлениям вверх и вниз:
Такого рода аналогии наводили Левкиппа и Демокрита на мысль, что подобно тому, как в мире, воспринимаемом нами посредством чувств, существуют такие, казалось бы, совершенно беспорядочные, направленные в различные стороны, движения мелких пылинок, так и в мире, нами не воспринимаемом (по причине чрезвычайной малости этих частиц, или элементов), постигаемом только посредством ума, происходит беспорядочное движение частиц, или «атомов», во все стороны. Все вещи и тела видимого, ощущаемого мира, согласно их учению, возникают в результате временного соединения невидимых и неосязаемых вещественных частиц. Эти частицы уже не обладают, вразрез с Анаксагором, потенциальной делимостью до бесконечности. Это частицы, абсолютно не делимые и потому называемые «атомами (atomoi)». Сложным вопросом характеристики учения Демокрита является вопрос о том, какой представлял себе Демокрит предельную величину атомов. Вообще говоря, атомы, по учению Левкиппа и Демокрита, — это настолько малые частицы вещества, что непосредственно, при помощи чувств, их существование не может быть обнаружено: о нем мы только заключаем на основании доказательств или доводов ума. Однако сохранились свидетельства, из которых видно, будто Демокрит допускал существование не только весьма малых, чувственно не воспринимаемых атомов, но и атомов любой величины, в том числе весьма больших. Тексты, имеющиеся по этому вопросу, неясны, даже противоречивы. В частности, о признании Демокритом существования весьма больших атомов говорит Эпикур (конец 4 — начало 3 в. до н. э.). Однако Аристотель, более близкий по времени к Демокриту, чем Эпикур, ничего не говорит о существовании у Демокрита такого мнения. В своей монографии о Демокрите (из которой цитирует Аристотеля его комментатор Симплиций) Аристотель говорит о Демокрите, будто «Демокрит полагал, что вечные начала (т. е. атомы. — В. А.) по своей природе — маленькие сущности, бесконечно многие по числу» [75, р. 133а; 38, с. 225]. Эти сущности — атомы — «настолько малы, что недоступны восприятию наших органов чувств» [75, р. 133а; 38, с. 225]. Говоря об атомах Демокрита как о «маленьких сущностях», Аристотель тут же разъясняет, что Демокрит допускал и бесконечно большую по величине сущность, а именно — пустое пространство, или пустоту. Где же, как не в этом месте, Аристотелю следовало бы сделать оговорку, что Демокрит допуская и существование очень больших атомов, если бы таков был его взгляд. Однако такой оговорки у Аристотеля нет, и это наводит на мысль, что у Демокрита не было учения о возможности существования атомов огромных размеров и что полемика Эпикура с Демокритом по этому вопросу основывается на каком-то недоразумении или ошибке в понимании Демокрита. Важно подчеркнуть, что Левкипп и Демокрит полагали, что число атомов бесконечно. По разъяснению Симплиция, они постулировали существование бесконечного множества атомов, потому что эта бесконечность необходима для объяснения всех явлений, наблюдаемых в физическом мире: только тем, кто считает атомы бесконечно многими по числу, удается всему дать разумное объяснение. Это обоснование — классический пример возникновения научной гипотезы. Будучи все без изъятия «маленькими сущностями», атомы имеют различные формы. Различиями в форме атомов Демокрит объяснял соединение атомов во временно устойчивые образования, т. е. в миры: будучи весьма разных форм, атомы сцепляются между собой и таким образом производят и мир и все явления в нем, точнее, производят бесчисленные миры. Важность этого свойства — различия их форм — отразилась и в терминологии Демокрита. Свои первоначальные частицы вещества Демокрит называет не только «атомами», но и «неделимыми формами». Но в греческом языке понятие формы иногда выражалось посредством слова, означающего «вид», «очертание». Для слова же «вид», кроме термина «эйдос», существовал также термин «идея». Слово «идея» здесь означало не «понятие» или «мысль» в современном значении, а именно «вид», «очертание», «форму». Этим значением слова «идея» Демокрит воспользовался как термином, означающим «неделимые формы», или «атомы». Не удивительно поэтому, что специальное сочинение философа об атомах (до нас не дошедшее) называлось «Об идеях». По крайней мере, таково сообщение Секста Эмпирика. В учении об «атомах» («идеях») Демокрит — материалист. То, что он называет «идеями», есть телесные формы, или сущности. Это бесконечные по числу; атомы, частицы вещества, движущиеся в бесконечном пустом пространстве. Такую особенность Демокрита в применении термина «идеи» необходимо заметить, так как впоследствии младший современник Демокрита, афинский философ Платон, стал применять тот же термин «идеи», но уже в идеалистическом смысле. И у Платона «идеи» — термин, означающий истинно сущее бытие. И у Платона «идеи» — формы. Но у Платона его «идеи» (или «виды», «формы») — формы бестелесные. Они пребывают в особом, «занебесном», по выражению Платона, месте. Они постигаются не чувствами, а умом, отрешенным от всего чувственного. Одно и то же слово «идея» у Демокрита имеет материалистический смысл, а у Платона — идеалистический. Но если мы принимаем, что атомы — не видимые по своей чрезвычайной малости сущности или формы, то возникает вопрос, какими свойствами или качествами обладают эти формы? Те ли это качества, который наши чувства находят в физических телах окружающего нас мира — цвет, теплота, запах, звучание — или, быть может, качества атомов совсем иные? Из высказываний самого Демокрита видно, что, согласно его учению, чувственно воспринимаемые качества тел не существуют в телах в действительности. Различия между телами по цвету, теплоте, вкусу и т. д. не отвечают природе самих вещей. В атомах действительны не эти качества, а только различия между ними по форме, по величине, по порядку и по положению в пространстве. Эти качества, различимые у различных атомов, и пустота, в которой движутся обладающие этими качествами атомы, — это все то, что по истине существует в действительности. Высказывание самого Демокрита по этому вопросу — ясное, но, к сожалению, слишком краткое — дошло в цитатах поздних античных ученых Секста Эмпирика и Галена. Секст выписал из Демокрита фразу, где Демокрит говорит: «Лишь в общем мнении существует сладкое, в мнении горькое, в мнении теплое, в мнении холодное, в мнении цвет, в действительности же существуют только атомы и пустота» [74, VII, 135; 38, с. 224]. Ту же мысль о свойствах атомов, общую у Левкиппа и Демокрита со всем античным атомистическим материализмом, выразил Эпикур в письме к Геродоту: «…следует думать, что атомы не обладают никаким свойством предметов, доступных чувственному восприятию: кроме формы, веса, величины и всех тех свойств, которые по необходимости соединены с формой. Ибо всякое свойство изменяется, а атомы нисколько не изменяются, потому что при разложениях сложений сложных предметов должно оставаться нечто твердое и неразложимое, что производило бы перемены… посредством перемещений некоторых частиц, и прихода и отхода некоторых» [34, II, 1947]. Учение Левкиппа и Демокрита о качествах тел было совершенно новой точкой зрения, впервые введенной в древнегреческую философию и науку. Оно оставило глубокий след в развитии последующей физики, химии и философского понимания природы. От Демокрита пошло возобновленное в XVII в. (Галилей в Италии, Декарт во Франции, Гоббс и Локк в Англии) различение двух видов качеств: согласно их взгляду, существуют наблюдаемые нами в телах качества, которые объективно принадлежат не только телам, но и составляющим тела атомам. Эти качества — коренные, или основные, физические свойства материальных предметов и материальных элементов всего существующего. И есть качества, которые нам только представляются находящимися в самих телах, но в действительности не принадлежат ни телам, ни атомам. Они воспринимаются нами в зависимости от особого отношения между основными — первичными — свойствами тел и органами нашего чувственного восприятия. Впервые развивая это учение, Левкипп и Демокрит заложили основы будущего, сложившегося лишь в XVIII в. естественнонаучного воззрения, которое, отвлекаясь от качеств, непосредственно воспринимаемых нами в предметах и явлениях мира, провозглашает эти качества производными, вторичными и стремится обнаружить их основные, объективно принадлежащие им, но не улавливаемые нашими чувствами коренные (первичные) свойства материальных элементов природы. В XVIII столетии взгляд этот наука стала противопоставлять как новый «качественной» физике средневековых схоластиков. Однако будучи новым по отношению к понятиям схоластиков, взгляд этот восходил к учению о качествах тел, впервые развитому Левкиппом и Демокритом. Замечательное атомистическое воззрение Демокрита развилось в неразрывной связи с понятием о вечности времени. Аристотель сообщает, что вечность времени была для Демокрита средством доказательства того, что существует невозникшее бытие. За исключением Платона, все философы, как указывал Аристотель, считали время нерожденным. «Поэтому и Демокрит доказывает невозможность того, чтобы возникло все, так как время не является возникшим» [Phys., VIII, 1, 251 в; 14, с. 139]. Необходимость и случайностьИз вечности времени и материальных начал атомисты выводят необходимость всех процессов и явлений природы. По сообщению Аэция, который опирается на текст Левкиппа (а может быть, и Демокрита), Демокрит утверждал, что ни одна вещь «не возникает беспричинно, но все возникает на каком-нибудь основании и в силу необходимости» [38, с. 229]. При этом мысль о необходимости, властвующей над всеми процессами природы, высказывается Демокритом не только как тезис отвлеченной философии, но и как тезис физического объяснения явлений природы. В коротеньком, но важном тексте, сохраненном Аэцием, Демокрит поясняет, что необходимость (anagkh) есть «сопротивление, движение, и удар материи» [55, с. 321]. Другими словами, необходимость получает у Демокрита физический, даже, точнее, механический смысл. И в согласии с этим также и Диоген Лаерций поясняет, что необходимостью Демокрит называл «вихрь», который является причиной возникновения всего. Наряду с этим физическим смыслом, который сводит необходимость к чисто механической причинности, Левкипп и Демокрит развивает также принципиальное философское учение о том, что все существующее в мире подчинено необходимости. При этом Демокрит полагает, что необходимый порядок, действующий во всем мире, действует в нем изначально. Положение вещей не таково, что «необходимость» лишь постепенно овладевает мирозданием, как думал, например, Анаксагор. На всем своем протяжении и во все времена своего существования мир был миром, где всегда господствует вечная необходимость. Из охарактеризованного нами выше взгляда Демокрита на необходимость вытекало отрицание случайности. Если «случайностью» называть отсутствие причины, то в действительности, по Демокриту, нет и не может быть ничего, что соответствовало бы этому смыслу слова «случайность»: в мире нет ничего беспричинно возникающего и, стало быть, нет ничего случайного. Сохранилось одно из суждений самого Демокрита о случайности… «Люди, — говорит он, — измыслили идол случая, чтобы пользоваться им как предлогом, прикрывающим их собственную нерассудительность» [38, с. 230]. Симплиций поясняет, что Демокрит пользовался «случаем» только в своем учении об образовании мира, но при объяснении любого частного факта утверждал, что «случай» нельзя рассматривать как причину чего бы то ни было, «случай» он возводит к другим причинам. Вот примеры Симплиция. Человек копает в саду землю и неожиданно находит клад. Однако находка его не случайна в том смысле, что она небеспричинна. И в этом случае существует какая-то причина находки сокровища: такой причиной было копание земли или посадка оливкового дерева. Другой пример Симплиций заимствует из ходячих анекдотов. Лысый старик шел по полю. Вдруг ему на голову сваливается черепаха и разбивает череп. Происшествие рассматривается в обиходной жизни как пример, доказывающий существование случайности. Но это не так. Случай неожидан только для, человека, которого постигло бедствие, но сам по себе, объективно, случай этот не выпадает из действующей в природе необходимости и причинности: черепаха упала не беспричинно, а потому, что ее нес в когтях орел. У орлов же есть повадка: они поднимают черепаху в воздух и бросают на камень, чтобы панцирь черепахи раскололся и чтобы они могли достать ее мясо. Увидев голый череп лысого человека внизу под собой, орел принял его за камень и бросил черепаху на него. Но если, таким образом, Демокрит отрицает возможность случайности в смысле беспричинности, то, с другой стороны, он признает возможность случайности совершенно в другом значении — не в смысле беспричинности, а в смысле того, что противоположно целесообразности. Учение Демокрита — полная противоположность телеологии, т. е. мировоззрению, согласно которому все возникающее возникает и все существующее существует ради какой-то заранее предназначенной или задуманной цели. С точки зрения Демокрита, о каждом явлении следует ставить вопрос, почему это явление возникло, в чем его причина, но совершенно нелепо ставить вопрос, для чего оно возникло, какова его цель. Другими словами, физическое и философское материалистическое мировоззрение Демокрита — строго причинное, или «каузальное», оно отнюдь не телеологическое, не основывается на идее о целесообразности, о целевых планах природы или божества. Поэтому во взглядах Демокрита на случайность нет по сути противоречия. Демокрит отрицает случайность не в том же самом смысле, в каком он ее признает. Случайность он отрицает только в смысле беспричинности. В то же время Демокрит признает случайность в смысле отрицания какой бы то ни было целесообразности в неорганической природе. Это отрицание не относится к человеку и высшим животным. Человек, конечно, действует по целям, ставит перед собой в своем действии цели и ищет средства, необходимые для достижения этих целей. И точно так же могут ставить перед собой цели животные. Но в неорганической природе все совершается не по целям и в этом смысле случайно. Таким образом, взгляд Демокрита на природу строго причинный, детерминистический. Он исключает всякое беспричинное возникновение чего бы то ни было. В то же время он решительно отрицает целевую направленность процессов неорганической, как мы говорим теперь, природы. В этой природе существует только вечное и необходимое движение атомов. О ней никак нельзя сказать, будто в ней вихри атомов возникают для осуществления какой-то цели. Основы атомистического материализма Левкиппа и Демокрита сложились в борьбе с физикой и с метафизикой элейцев. Элейцы утверждали, будто существует только бытие (сплошной, нераздельный шар вселенной), никакого небытия нет, его даже нельзя мыслить. В физическом смысле это учение означало, что нет пустоты. Напротив, атомисты говорят: существует бытие, но небытие тоже существует. По свидетельству Аристотеля, Левкипп говорил, что пустота — небытие и что небытие существует нисколько не меньше, чем бытие [см. Met, I, 4, 985 в; 7, с. 26]. Небытие атомистов — пустое пространство между физическими телами и элементарными физическими частицами тел, или атомами, движущимися в пространстве. Реальность пространства ничуть не меньше реальности материальных частиц (атомов), которые движутся в этом пространстве. По разъяснению Аристотеля, атомисты полагали, что причина вещей — как атомы, так и пустота или пустые промежутки между атомами. Пустота вместе с атомами и есть материя, или причина вещей [см. там же]. На этих простых и ясных принципах атомисты построили всю свою космологию (учение о мире), всю свою физику, всю свою психологию и математику. Космология и космогонияКосмология атомистов и их космогония в своих различных частях соответствуют разным уровням развития античной науки и потому в отдельных своих учениях далеко не равноценны. В некоторых космологических идеях атомисты надолго опередили свое время, в других остались примерно на том уровне, которого достигла милетская школа в лице своего последнего представителя — Анаксимена. Новыми достижениями атомистов были их учения: 1) о бесконечности вселенной и 2) о бесчисленности миров, одновременно существующих в бесконечном мировом пространстве. Учение Левкиппа и Демокрита о бесконечности вселенной прямо вытекает из их представления о бесконечности пустого пространства и из представления о бесконечном числе атомов, движущихся в пустоте. Оба положения хорошо засвидетельствованы в античной литературе об атомистах. Мы знаем, например, от Ипполита, не только тезис Демокрита, согласно которому миры бесчисленны и различны по величине, но даже такие детали, как учение Демокрита о том, что расстояния между отдельными мирами неравны: между некоторыми — большие, между другими — меньшие. Поразительна по близости к современным научным данным догадка Демокрита, согласно которой различные миры, одновременно существующие во вселенной, находятся в различных стадиях своей «жизни»: одни еще растут, другие находятся уже в расцвете, третьи разрушаются. Воззрения эти резко расходились с господствовавшими в 5 в. до н. э. представлениями. Мысль о бесконечности вселенной и об одновременном существовании в ней бесчисленного множества миров с трудом прокладывала себе пути в сознание. Против атомистов в этом вопросе резко и высокомерно выступил идеалист Платон. Играя греческим словом «апейрос», означающим как «беспредельный», так и «несведущий», Платон утверждал [см. 41, ч. VI, с. 432–433], будто понятие беспредельного числа миров «есть мнение подлинно безграничного невежества». А Цицерон впоследствии отмечал, что теория бесчисленного множества миров принадлежала к тем учениям, которые наиболее осмеивались в платоновской Академии. Понятие Демокрита о вечности вселенной не следует отождествлять или смешивать с понятием о вечности миров. Только вселенная как совокупность всех вечных атомов вечна; напротив, отдельные миры, по Демокриту, не вечны: они рождаются, некоторое время существуют, но затем рассеиваются, разделяются на атомы. Процесс образования бесконечного числа миров в бесконечном пространстве атомисты представляли, судя по сообщению Диогена Лаерция, который прямо ссылается на Левкиппа, следующим образом: «выделяясь из беспредельного», несется множество разнообразных по формам тел «в великую пустоту»; и вот они, собравшись, производят единый вихрь, в котором, наталкиваясь друг на друга и всячески кружась, они разделяются, причем подобные отходят к подобным. Имеющие же одинаковый вес, вследствие большого скопления, уже не в состоянии более кружиться… Таким образом, тонкие тельца отступают в наружные части пустоты, словно как бы отлетая к периферии. Прочие же «остаются вместе» и, сплетаясь между собой, движутся вместе и образуют прежде всего некоторое шарообразное соединение. Это шарообразное соединение отделяет от себя как бы оболочку, объемлющую в себе разнообразные тела. На периферии вихря из постоянно стекавшихся сплошных масс образовалась тонкая оболочка. Причиной ее образования было вращение тел и сопротивление центра. Таким способом возникла Земля: снесенные к центру массы стали держаться вместе. На этом процесс не остановился. Образовавшаяся на периферии оболочка продолжала увеличиваться; увлекаемая вихрем, периферия присоединяла все, чего бы она ни касалась. В результате некоторые конфигурации тел образовали соединения. Когда эти тела, первоначально влажные, высохли, они стали кружиться вместе с мировым вихрем. Впоследствии, воспламенившись, они стали небесными светилами. Ближе всего к Земле — круг Луны, самый удаленный — круг Солнца. Между этими крайними кругами расположились круги всех прочих светил. Космогония эта возбуждает естественный вопрос. Как согласовать учение Левкиппа о бесконечности миров в бесконечном пространстве с его же учением о шаровидности и, стало быть, конечности нашего мира с находящейся в его центре Землей и с находящимся на его периферии Солнцем? Объяснение просто. Когда Левкипп говорит о шаровидности соединения частиц или тел, возникшего в центре, и о выделившейся из этого соединения оболочке, он описывает процесс образования только одного из бесчисленных миров — того, в котором возникла наша Земля, Солнце и движущиеся между Землей и периферией нашего мира светила. Но мир, таким образом возникший; по Левкиппу, еще не исчерпывает собой вселенной. Это только один из бесконечного числа образующихся и погибающих миров. Важным подтверждением сказанного является свидетельство Ипполита. Он сообщает, что, по учению Демокрита, в некоторых мирах нет ни Солнца, ни Луны, в некоторых — Солнце и Луна больше наших по размерам и в некоторых — их больше по числу. Из сказанного видно, что учение атомистов о шаровидности нашего мира и об его конечности не стояло ни в каком противоречии ни с их учением о бесконечности вселенной, ни с их учением о бесконечном множестве миров, населяющих вселенную. Историческое значение космологии атомистов двойственно. С одной стороны, Левкипп и Демокрит гениально положили начало учению о бесконечности миров, не только сменяющих друг друга во времени, но и существующих одновременно. Они продолжали развивать догадку Анаксагора о чисто физическом происхождении и чисто физической, а не божественной природе светил и всех явлений, наблюдаемых на небесном своде. Они примкнули к Анаксагору и в его замечательной догадке о звездной природе Млечного пути. Но в представлениях о порядке расположения светил в пространстве по отношению к Земле, а также о форме светил атомисты вернулись к устаревшим и уже отвергнутым греческой наукой взглядам. Они помещают все светила между Луной и Солнцем, в котором видят крайнее светило нашего мира. Они возвращаются также ко взглядам Анаксимена, учившего о плоской форме светил и Земли. К слабым сторонам во взглядах атомистов на мировой процесс следует причислить также и то, что они в какой-то степени разделяли распространенное в древнейшей греческой философии 6 в, до н. э. (пифагорейцы, Гераклит) представление о вечном периодическом возвращении мира к уже пройденному состоянию или о вечной повторяемости всех ситуаций и событий, происходящих в мире. Не все в этом учении достаточно ясно. Есть свидетельства, в которых говорится только то, что во вселенной существуют миры, абсолютно ничем не отличающиеся друг от друга. Но есть свидетельства, из которых видно, что у Демокрита кроме этого учения о сосуществовании многих совершенно тождественных миров было также и учение о процессе возвращения миров к прежнему их состоянию. Признание вечного возвращения мира к исходному состоянию мы находим уже у Анаксимандра, затем у Гераклита, позже у Эмпедокла. В чрезвычайно выпуклой форме это учение выступило у пифагорейцев. Именно в его пифагорейском истолковании учение это казалось особенно парадоксальным. «Если же поверить пифагорейцам, — писал Эвдем, ученик Аристотеля, — то снова повторится все то же самое нумерически, и я вновь с палочкой в руке буду рассказывать вам, сидящим так передо мной, и все остальное вновь придет в такое же состояние…» [37, т. III, с. 80]. В ошибочной теории вечного возврата было и зерно плодотворной мысли. Здесь нашла одно из первых выражений мысль о закономерности мирового процесса. К этой мысли вели фантазия недисциплинированного ума. Но к ней вели также неверно истолкованные вековые наблюдения над повторяемостью явлений — конфигураций светил, видимых на небесном своде. Уже у Гераклита идея вечного возвращения была связана с его понятием о «мировом годе», которое, по-видимому, уходит в астрономические наблюдения, накопленные в странах Востока. Особенно большое значение для возникновения учения о — вечном возвращении получили систематические наблюдения вавилонских астрономов. Они установили правильно повторяющееся возвращение светил к тем же самым положениям и конфигурациям на небесном своде. Результаты вавилонских наблюдений нашли отражение в индийской и греческой науке. Однако между идеей о закономерной периодичности мировых процессов и идеей абсолютной их повторяемости нет необходимой связи. Поэтому уже в древности теория вечного возвращения подвергалась критике со стороны ученых, которые признавали закономерность и периодичность мирового процесса, но отвергали его абсолютную повторяемость. Как видно из сообщений Цицерона и Симплиция, Левкипп и Демокрит в этом вопросе придерживались крайней точки зрения сторонников учения об абсолютной повторяемости мирового процесса. Атомизм в математикеАтомизм не остался у Демокрита всего лишь физическим воззрением. Он — мыслитель очень последовательный. Став на точку зрения атомизма, он стремится провести ее и в других областях науки. Одной из таких областей была математика. Демокрит — выдающийся математический ум древности, один из предшественников знаменитого свода математических знаний, появившегося около 3 в. до н. э. Свод этот называется по имени его составителя «Началами Евклида». Атомистическая концепция математики, развитая Демокритом, заключается в том, что Демокрит признал математические тела (шар, конус, пирамиду) состоящими из плоскостей, налагающихся друг на друга, но отделенных друг от друга, как и физические атомы, пустым пространством. Так, конус состоит, согласно этому взгляду, из весьма большого числа кружков, расположенных параллельно основанию конуса в порядке убывания их радиусов по направлению к вершине. Тонкость сечений их такова, что они не могут быть восприняты нашими чувствами. И такова же тонкость слоя пространства, отделяющего сечения друг от друга. В свою очередь плоскости, на которые разлагаются тела, составляются из линий, а линии — из неделимых точек. Неделимые точки недоступны никакому дальнейшему делению: ни механическому, ни делению в мысли. Наличие у Демокрита вытекающей из данных образов атомистической теории математики засвидетельствовано рядом античных писателей. [6] Теория эта не только соответствовала в области математики атомистическому пониманию физических тел и элементов природы. Внутри самой математики она должна была устранить трудности и разрешить противоречия, которые обнаружились после исследований элейцев, в особенности Зенона. Из учения элейцев следовал скептический вывод, будто построить математику как науку, свободную от противоречий, невозможно. Наука эта до появления учения атомистов строилась на следующих аксиомах: 1) каждый геометрический объект делим до бесконечности; 2) бесконечно большое число элементов (не равных нулю), даже при условии, что все они чрезвычайно малы, всегда дает бесконечно большую сумму. Вторая из этих аксиом была, как всякому известно в настоящее время, совершенно ошибочна. Однако в 5 в. до н. э. в греческой науке это ошибочное утверждение не только считалось истинным, но принималось как самоочевидное. Опираясь на это общепринятое утверждение и допустив в виде условно принятого [7] тезиса возможность бесконечной делимости целого на части, Зенон и развил аргументы, из которых следовало, что, будучи принятыми, эти положения с необходимостью приводят математику к противоречию. Теория эта одновременно допускала и то, что каждое тело состоит из бесконечно большого числа непротяженных точек, недоступных дальнейшему делению, и то, что каждое тело может быть делимо до бесконечности. Но Зенон показал, что из сформулированных выше двух предположений этой теории с необходимостью следует противоречие: 1) сумма непротяженных точек, из которых состоит тело, непременно будет равна нулю, т. е. тело будет иметь нулевую величину, и 2) при бесконечной делимости любое тело как сумма бесконечно большого числа частей должно оказаться бесконечно большим. А так как противоречие, по Зенону, немыслимо, то Зенон приходит к выводу, будто предпосылка делимости тел ложна. Тела неделимы. Перед математикой возникла, казалось, серьезная трудность. Атомистическая теория математики избавляла математику от противоречия, обнаруженного в ней критикой Зенона. Теория атомистов утверждала, что деление тела не может идти в бесконечность и что для частиц вещества существует абсолютный предел делимости. Атом и есть этот предел. Поэтому тело, разъясняли атомисты, состоит не из бесконечного числа частей, а из весьма большого, но все же конечного числа атомов. Поэтому всякое тело вовсе не должно оказаться во всех случаях бесконечно большим. С другой стороны, тело не должно и обращаться в нулевую величину: хотя атомы, из которых состоит тело, весьма малы (не воспринимаются чувствами), однако величина атомов не нулевая. Атомы — реальные частицы вещества. Поэтому всякое тело, представляющее собой соединение или сцепление атомов, не есть ничто, а имеет реальную величину. Атомистическая теория математики не только избавляла науку от затруднений, вскрытых критикой Зенона. Теория эта была применена Демокритом и его последователями для решения ряда проблем и задач самой математики. Взгляд на конус как на тело, состоящее из весьма большого числа тончайших, чувственно не воспринимаемых плоскостей — из параллельных основанию конуса кружков, был применен Демокритом для обоснования теоремы об объеме конуса. Демокрит выдвинул положение, что объем конуса равен трети объема цилиндра с тем же, что и у конуса, основанием и с равной высотой. Основываясь на том же взгляде, Демокрит высказал положение и об объеме пирамиды: объем этот есть треть объема призмы с тем же, что и у пирамиды, основанием и с той же высотой. В стереометрии основным атомарным телом Демокрит считал пирамиду. Все тела, по Демокриту, могут быть разложены на пирамиды. По разъяснению советского историка античной науки проф. С. Я. Лурье, шар также рассматривался у Демокрита «как сумма чрезвычайно большого числа «иглообразных» пирамид с недоступными чувствам чрезвычайно малыми основаниями, совокупность которых образует поверхность шара, и с вершинами в его центре…» [36, с. 78]. Иными словами, шар получает у Демокрита вид многогранника с недоступно большим для чувств числом граней. Одной из важнейших особенностей атомистической теории математики было отрицание реальности иррациональных отношений. С тех пор как пифагорейцами была открыта несоизмеримость отношения между стороной квадрата и его диагональю, проблема иррациональности не переставала занимать греческую математическую мысль. Пифагорейцев она не только занимала, но, и тревожила в буквальном смысле этого слова. Ведь пифагорейцы утверждали, будто вещи — числа и будто все сущее может быть выражено числом. Поэтому открытие иррациональности означало для них настоящий кризис математики, казалось, подрывающий самые основы их, философского учения. Именно поэтому открытие это на первых порах сохранялось в глубокой тайне от непосвященных. Основываясь на принципах атомизма, Демокрит снимает остроту проблемы. По Демокриту, все математические предметы — тела, поверхности, линии — состоят из атомарных, т. е. неделимых, элементов. Но это значит, что никакие иррациональные отношения невозможны. Любое отношение каких угодно величин есть отношение между целыми числами, выражающими количества неделимых атомарных элементов. Диагональ квадрата, так же как и стороны его, состоит из весьма большого числа неделимых элементов, количество которых конечно и всегда может быть выражено целым числом. Теория эта вступила в противоречие с непререкаемыми результатами геометрии. Для устранения противоречия Демокрит ввел различение видов знания — чувственного и умозрительного. Иррациональное отношение представляется реальным, согласно его объяснению, только для мысли, опирающейся на чувственное восприятие. Такую мысль Демокрит называет «темной». Для нее диагональ и сторона квадрата кажутся сплошными линиями, отношение между ними может быть иррациональным. Но для умозрения, достигающего последних элементов реальности — атомарных элементов, в мире нет ничего иррационального. Как отнеслись к этой — атомистической — теории математики современные Демокриту и последующие ученые? У них эта теория математики встретила сильное сопротивление. И действительно. Основное воззрение этой теории состояло в отрицании бесконечной делимости тел и величин. Атомистическая теория утверждала, будто такое идущее в бесконечность деление невозможно. Оно невозможно не только как реальное физическое раздробление материальной частицы на все более мелкие части. Оно невозможно даже в мысли — как мысленное продолжение деления, после того как достигнута технически осуществимая граница делимости. Теория Демокрита утверждает, будто для любого тела и для любого математического элемента существует предел делимости. Этот предел и есть атом — наименьшая величина в абсолютном, смысле слова. Математика, построенная Демокритом на основе этого воззрения, была свободна от внутренних логических противоречий. Однако положения этой математики явно противоречили чувственной интуиции реальности, на которую опиралась современная Демокриту и последующая античная математика. Но Демокрит апеллирует не к чувственной интуиции, не к непосредственному наглядному созерцанию. Его теория имеет в виду объекты, доступные только миру мысли. Теория Демокрита призывала порвать с обычным представлением, согласно которому начавшемуся делению тела или величины принципиально нельзя положить предела. Склонить к принятию этого взгляда было трудно: доверие к чувственной интуиции было слишком сильно. Поэтому в своем значительном большинстве последующие математики и философы различных школ, в особенности аристотелевской, отвергли теорию Демокрита. Они провозгласили ее разрушающей основы математики. Уже Евклид, вопреки Демокриту, доказывал в первой теореме Х книги своих «Начал», что в процессе последовательных делений любая величина может стать меньше любой заданной величины. Философскую основу для своего утверждения бесконечной делимости любой величины Евклид мог почерпнуть у Аристотеля. Подавленная в последемокритовское время критикой со стороны математиков и Аристотеля, атомистическая теория математики возродилась впоследствии в материалистической школе Эпикура. Учение о познанииВ связи с атомистикой Левкиппа и Демокрита находилось их учение о познании. Атомистическая теория поставила перед учением о познании некоторые новые трудные вопросы и дала ключ к решению этих вопросов. Как мы видели (см. выше гл. II), одним из результатов учения о знании, развитого элейцами, был скептицизм в отношений чувственного знания и резкий разрыв между данными чувственных восприятии и результатами мышления. Поскольку достоверное знание об истинно сущем возможно, знание это, по учению элейцев, может быть только постижением ума. Напротив, чувственные восприятия дают лишь недостоверное, шаткое мнение. В этом элейском принижении роли чувственного источника познания находил впоследствии опору скептицизм, развивавшийся в некоторых школах древнегреческой философии, например в школе софистов. Напротив, атомисты в этом вопросе выступили против элейцев. Не менее четко, чем элейцы, они сохраняют различение знания чувственного и интеллектуального. Так же, как элейцы, атомисты утверждают, что чувствам недоступно непосредственное постижение истинно сущих элементов бытия, т. е. атомов. К убеждению в существовании атомов и к определению присущих им свойств приводит ум. Но при этом элейцы полагали, что познание, достигаемое умом, совершенно противоположно чувственным восприятиям. Напротив, атомисты видят в познании посредством ума не противоположность чувственным восприятиям, а их продолжение и углубление, уточнение. Достоверность интеллектуального познания имеет источник в том же чувственном восприятии. Сохранился отрывок Галена с цитатами из сочинения Демокрита, в котором изображался в форме диалога спор ума с ощущениями. Независимо от диалогической формы из самой последовательности цитат видно, к какому решению спора приходит сам Демокрит. Сначала ум провозглашает чувственно воспринимаемые явления обманчивыми, но затем ощущения указывают, что основа доказательства ума в тех же ощущениях, и, таким образом, торжество ума, кичливо вознесшегося над чувствами, оказывается его поражением. Аристотель и крупнейший ученый его школы Теофраст надежно засвидетельствовали основную тенденцию Демокрита. По их сообщениям, Демокрит не противопоставлял ум ощущениям и источник достоверного знания видел в ощущениях, в отличие от Анаксагора, у которого ум резко отделяется и отличается от чувственно воспринимаемых «семян» вещей. Демокрит, по Аристотелю, «смотрит на ум не как на силу, которою постигается истина, а отождествляет его с душой» [De anima,I,2,404a;12,c.l9 — 20]. Отождествление ума с ощущением, о чем говорит Аристотель, тесно связано у Демокрита с мыслью, что знание, доставляемое ощущениями, — истинное знание. Так, по крайней мере, толкует взгляд Демокрита Аристотель. «…Благодаря тому, — пишет Аристотель, — что за разумное мышление они (Демокрит, Анаксагор и др.) принимают чувственное восприятие… им приходится объявлять истинным все, что представляется отдельному человеку по свидетельству чувственного восприятия» [Met., 111,5, 1009 в; 7, с. 70]. Могло бы показаться, что здесь у Демокрита противоречие. С одной стороны, чувственное явление он признает истинным. С другой стороны, он резко подчеркивает, что не все качества, открываемые посредством ощущения, существуют в самих вещах. Так, ни цвет, ни звук, ни запах, ни тепловые различия и т. п. не существуют в самой действительности. И Аристотель, и ученик Аристотеля Теофраст рассматривали оба эти утверждения Демокрита как явно противоречащие одно другому. Однако часть свидетельства говорит о том, что у Демокрита речь идет не о противоположности или несовместимости чувственного и интеллектуального видов знания, а скорее о различии между ними, точнее, о различной степени глубины проникновения в истинную природу вещей. И чувственное восприятие дает истинное знание. Вещи, о которых чувства, например зрение, говорят, что они движутся, действительно движутся. Но не все в природе вещей непосредственно доступно чувственному восприятию. По-видимому, в этом смысле необходимо понимать тексты Демокрита о двух видах знания. По Демокриту, есть два рода познания: один — истинный, другой — темный. К темному относятся все следующие виды познания; зрение, слух, обоняние, вкус, осязание. Что же касается истинного познания, то оно совершенно отлично от первого [см. 74, VII. 139; 38, с. 242]. Однако отличие это не есть противоположность. Оно сводится, по сути, лишь к более углубленному проникновению с помощью ума в ту самую природу вещей, до которой не достигают полностью чувства: «Когда темный род познания уже более не в состоянии ни видеть слишком малое, ни слышать, ни обонять, ни воспринимать вкусом, ни осязать, но исследование должно проникнуть до более тонкого, недоступного уже чувственному восприятию, тогда на сцену выступает истинный род познания, так как он в мышлении обладает более тонким познавательным органом» [там же]. Не будучи противоположностью, различие обоих видов знания чрезвычайно важно. С помощью этого различия Демокрит разрешает некоторые затруднения, связанные с теорией атомистического строения тел, в том числе тех, с которыми имеет дело геометрия. Вот одно из этих затруднений. Согласно атомистической теории, конус состоит из весьма большого числа отдельных кружков, параллельных его основанию. Если это так, то неизбежно возникает вопрос: равны между собой эти кружки по своему поперечнику и площади или нет и какой вид в том и в другом случае будет иметь образующая конуса? Если кружки равновелики, то образующая будет параллельна оси конуса и, таким образом, перед нами будет не конус, а цилиндр. Если же кружки не равновелики, то образующая должна быть не прямой, соединяющей окружность основания конуса с его вершиной, а ломаной линией, наподобие контура ступенек лестницы. С точки зрения теории познания Демокрита, парадокс легко разрешается. Никакой сплошной образующей конус в действительности не имеет. Элементы конуса состоят из весьма большого, но конечного числа атомов, отделенных друг от друга пустотой. Если бы наш глаз был достаточно проницателен, чтобы воспринять атомарные элементы конуса, то образующая предстала бы перед нами не в виде сплошной прямой, а как бы в виде пунктира, соединяющего одну из атомарных точек, лежащих на окружности основания конуса, с атомарной точкой, составляющей его вершину. Но так как наше чувственное зрение не воспринимает столь малых тел, то нам кажется, будто образующая конуса — сплошная линия. Аналогичным образом должна была решаться Демокритом и проблема касания прямой линии к окружности круга. В области чувственно воспринимаемых вещей для ненаучного сознания прямая кажется касающейся круга не в одной-единственной точке, а в целом ряде точек, сливающихся в отрезок линии. В области постигаемого умом воззрение геометров современной Демокриту школы предполагает, что прямая и круг — сплошные линии и что прямая касается круга только в одной-единственной точке, которая одновременно лежит как на прямой, так и на окружности круга. По воззрению Демокрита» в области постигаемого умом касание в собственном смысле слова невозможно даже в одной-единственной точке. И прямая и окружность, по Демокриту, — не сплошные линии и состоят из точек-атомов, отделенных один от другого как бы атомами пустоты; непосредственное соприкосновение атома с атомом немыслимо, ибо любые атомы отделяются друг от друга пустотой. Тем не менее Демокрит сохраняет самый термин «касание», вкладывая в него собственный смысл, соответствующий атомистическому пониманию. Вопрос об отношении мышления к чувственному восприятию таил в себе большую трудность, непреодолимую не только для Демокрита, но и для всего созерцательного (недиалектического) материализма. И действительно: пока мы не выходим из круга созерцательных и потому пассивных восприятий, мы не имеем возможности решить, какие из чувственно воспринятых нами свойств вещей относятся к их объективной сущности. Не зная критерия материальной практики, атомистический материализм не мог удовлетворительно объяснить, что в показаниях наших чувств не соответствует истинной, «более тонкой» природе вещей, постигаемой деятельностью ума. С одной стороны, и ощущения возвещают истину. С другой стороны, возвещение это неполное и несовершенное. С одной стороны, явления истинны. С другой стороны, истина глубоко запрятана, недоступна непосредственным чувственным восприятиям. В итоге — ряд положений Демокрита (в дошедших до нас фрагментах), которые, на первый взгляд, кажутся признанием ограниченности нашего знания, его неспособности достигнуть истинной природы вещей: «…мы ничего ни о чем не знаем, но для каждого из нас в отдельности его мнение есть результат притекающих к нему образов». [8] И еще выразительнее: «Много раз мною было показано, что мы не воспринимаем, какова в действительности каждая вещь есть и какие свойства в действительности ей не присущи». [9] Взятые изолированно, вне контекста всей теории познания Демокрита в ее целом, подобные высказывания способны внушить впечатление, будто Демокрит в учении о возможностях или пределах познания был скептик, отрицал возможность познания истинной природы вещей. Эти высказывания не раз были использованы античными писателями скептического направления именно в этом смысле — для обоснования их собственного скептицизма. В скептицизме Демокрита упрекали также и его прямые противники. Однако уже Плутарх разъяснял, что Демокрит выступал против скептицизма и релятивизма Протагора — против тезиса, будто мера всех вещей — существующих и несуществующих — человек. И действительно: положения Демокрита, кажущиеся скептическими, выражают лишь неспособность созерцательного, недиалектического материализма объяснить, что в показаниях чувств субъективно, а что есть пусть первое, пусть недостаточное, но все же приближение к постижению более глубокой природы явлений. Разрабатывая в подробностях учение о познании, Демокрит одновременно разрабатывал и учение о критериях логической связи мышления, другими словами, вопросы логики. Логические взгляды Демокрита были изложены им в «Канонах» (название «Каноны» означает «критерии», «правила»). Из скудных выдержек оттуда, сообщаемых последователем Эпикура Филодемом, получается вывод, будто Демокрит не считал возможным рассматривать логические связи рассуждения независимо от содержания каждого рассуждения в целом. В одном из отрывков утверждается, что научная правильность рассуждения проверяется его способностью открывать будущее и направлять в этом будущем наши практические действия. Особо выделяются при этом будущие события общественно-политической жизни: «Видно, что рассуждение правильно, из того, что оно всегда открывает нам и оказывает содействие относительно будущего… наиболее способными в делах из стоящих во главе демократии ли, или монархии, или любой другой формы правления всегда оказываются те, которые пользуются таким способом рассуждения» [54, II, с. 158; 38, с. 383]. Левкипп и Демокрит не ограничились тем, что последовательно применяли причинную (каузальную) точку зрения во всевозможных областях научного мышления и исследования. Принцип причинной связи атомисты осознали и сформулировали также и в логической теории. Из сочинения Левкиппа «Об уме» сохранился в передаче Аэция текст, в котором Левкипп утверждает: «Ни одна вещь не возникает беспричинно, но все возникает на каком-нибудь основании и в силу необходимости» [54, II, с. 10; 38, с. 208]. В исследовании и открывании причинных связей атомисты видели научную задачу величайшей важности. Из названий ряда сочинений Демокрита видно, что сочинения эти были посвящены рассмотрению причинных отношений («Причины небесных явлений», «Причины, касающиеся законов» и т. д.). В трех книгах «Канонов» последовательно излагалось учение о трех критериях познания. Из них первый касался чувственного познания явлений, второй — мышления, посредством которого ведется научное исследование, третий — желательного и нежелательного, которым определяется наше стремление приблизиться к предмету или отдалиться от него. Таким образом, в «Канонах» было изложено учение Демокрита о видах знания. Вопросы логики не отделялись здесь от вопросов теории познания. Подробностями логических теорий Демокрита мы не располагаем. ПсихологияВ своей теории знания Демокрит, не противопоставляя ум ощущению, точно различил их. Но в своей психологии он подчеркнул их общность, их единую основу. Это не противоречие во взглядах Демокрита и не две различные стадии в развитии его взглядов, а различение двух вопросов: вопроса о разграничении функций ощущения и ума в познании и вопроса об их источнике. Однако из того, что Левкипп и Демокрит единой основой знания считали чувственные восприятия, еще невозможно определить, какова их философская позиция в теории познания. Из гениальной работы Ленина «Материализм и эмпириокритицизм» мы хорошо знаем, что одно лишь утверждение о возникновении всех наших знаний из единого источника — из чувственных восприятий, само по себе взятое, еще не предопределяет, будет ли философия, выступающая с таким утверждением, материалистической или идеалистической. Поэтому в отношении Левкиппа и Демокрита мы должны идти дальше и поставить вопрос о том, как они понимали само чувственное восприятие: идеалистически или материалистически. Рассмотрение этого нового вопроса показывает, что в своем объяснении явлений чувственного восприятия атомисты несомненно стояли на материалистической точке зрения. Они не только видели в чувствах первую ступень в добывании объективного знания реальности, но пытались развить материалистическую теорию самого чувственного восприятия. Об этом мы имеем авторитетное свидетельство Теофраста. Больше того. Характеризуя учение Демокрита о телесной основе чувственных восприятий, Теофраст обращает внимание на глубокое различие и даже на противоположность между материалистической теорией Демокрита и теорией восприятия идеалиста Платона. Демокрит объясняет восприятие и другие деятельности души на основе материалистического атомизма. Он стремится определить материальный базис чувственного восприятия. Объяснения Демокрита наивны, иногда грубы, но имеют большое принципиальное значение как попытка провести также и в психологии материалистическую точку зрения. По Демокриту, душа — собрание, временное соединение атомов. Но так как душа приводит тело в движение и так как самая подвижная из всех форм — шарообразная, то душа состоит из шарообразных атомов. Это атомы огня, подвижнейшего из всех элементов. Согласно свидетельству Аристотеля, Демокрит наиболее отчетливо развил взгляд тех греческих ученых, которые полагали, что душа — огонь. Демокрит первый пытался раскрыть механизм каждого отдельного вида ощущений. Особенно интересна предложенная им теория зрительных ощущений. Оригинальность ее отмечает Теофраст. Видение, по мнению Демокрита, возникает из отражения, однако это отражение не зеркальное. Оно не прямо возникает в зрачке, а воздух, находящийся между глазом и рассматриваемым предметом, «получает отпечаток, сдавливаясь видимым и видящим» [78, с. 50; 55, с. 513; 38, с. 282]. Затем воздух, став плотным и приняв другой цвет, отражается во влажной части глаз. Материалистическим у Демокрита было не только понимание ощущений, но также и мышления. По сообщению того же Теофраста, Демокрит ставил мышление в зависимость от смеси, образующей тело. И это, по Теофрасту, вполне последовательно: так как Демокрит превращает душу в тело, то ему приходится именно таким образом объяснять мышление — как процесс, соответствующий гармоничному смешению веществ, из которых состоит душа. Чрезвычайно оригинально учение Демокрита о роли души и дыхания в механическом равновесии, на котором, по Демокриту, основывается жизнь, а также сопротивление, которое жизнь оказывает смерти. А именно: среда, окружающая тела, давит и вытесняет атомы, находящиеся внутри их и дающие животным движение. Но наперекор этому давлению атомы, находящиеся вне тела и входящие в тело через дыхание, не позволяют им выйти из тела, препятствуют сгущению и охлаждению под влиянием внешнего давления. Животные живут до тех пор, пока могут совершать это действие. При этом Аристотель подчеркнул, что психологическая теория Демокрита имеет исключительно причинный характер. Хотя душа и дыхание необходимы для поддержания жизни, Демокрит вовсе не рассматривает их с точки зрения целевого назначения. Его интересует только причинный механизм их возникновения и действия. Взгляд на душу как на соединение шаровидных огненных атомов привел Демокрита к выводу о смертности души и к замечательной для того времени материалистической трактовке умирания. Так как выход из тела атомов, образующих душу, происходит не мгновенно, а в известный период времени, то смерть, по Демокриту, не мгновенное событие, а процесс, длящийся во времени. А так как душа — начало движений, происходящих в теле, то известные движения и изменения происходят в организме и после того, как признаки дыхания и одушевления кажутся покинувшими тело. При этом Демокрит ссылался на данные наблюдения — на рост ногтей и волос у умерших. Материализм Демокрита тесно связан с традицией древнегреческого материализма ионийских физиков. Подобно Гераклиту, Демокрит сводит душу к огненному началу. Подобно милетским материалистам, он утверждает всеобщее оживление всей природы. Жизнь отличается от нежизни только количеством круглых огненных атомов, находящихся в теле. Но атомы эти находятся не только в телах животных и человека. Они находятся всюду: в камнях, в растениях, в трупах животных. Провести этот взгляд Демокрит мог только потому, что душа, как он ее понимал, не связана необходимо с одним-единственным органом и центром локализации. Только разумная часть души строго локализована и помещается в груди, но часть неразумная рассеяна по всему телу [55, с. 390; 38, с. 276]. Вопрос о богахВ учении Демокрита о богах сочетаются критика традиционной религии, рационализм с пережитками религиозных и магических представлений. С одной стороны, Демокрит отвергает представления о богах, созданные мифологической традицией. Даже верховный бог греческого Олимпа, Зевс, для Демокрита только воздух — вместилище всех огненных атомов. Демокрит полагает, что представления о богах в народной религии порождены страхом перед непонятными явлениями природы, не подвластными человеку и, наоборот, господствующими над ним. Не удивительно поэтому, что уже античные идеалисты бранили учение Демокрита о богах как безбожное. Особенно несовместимым с религией казалось отрицание вечности богов. Однако Демокрит не отказался целиком от представления религии о богах. Он не отвергает религиозное мировоззрение, но перерабатывает его в соответствии с атомистической теорией и с сохранившимися у него пережитками магических представлений. Вопрос о существовании богов ставился у Демокрита в связь с его учением об огненных атомах. Особенно много круглых огненных атомов носится в воздухе. Воздух — не только вещественная среда, посредством которой происходит необходимое для жизни вдыхание и выдыхание. Воздух, кроме того, наполнен атомами души. Но он наполнен не только отдельными атомами души. Воздух полон образами, возникающими из вихря круглых огненных атомов. Образы эти — боги. Образованные соединением атомов, они с трудом поддаются разрушению, т. е. разложению. Существование их длительно, но все же не вечно. Боги Демокрита — образы, подобные человеку. Приближаясь к людям, одни из этих образов действуют благотворно, другие зловредны. Они предвещают людям будущее своим видом и звуками, которые они издают. Воззрение это магическое. По Демокриту, воздушное пространство наполнено множеством демонических «образов», способных воздействовать на человека и в свою очередь доступных воздействию на них человека. Это воздействие возможно благодаря истечениям, которые исходят от предметов, существ природного мира, в том числе от человека, а также от демонических божественных образов. Взгляд этот сделал для Демокрита возможным и веру в предзнаменования, в вещие сны, и веру в дурной глаз, и веру в действие молитвы. Однако магическое воззрение Демокрита основывается не на идеалистической мистике, не на вере в сверхъестественные силы, а на естественнонаучных предположениях. В основе магических представлений Демокрита лежит не божественная воля, а атомарное строение тел природы и вихри атомов, из которых возникают и небесные светила, и воздух, и носящиеся в воздухе божественные образы. Этот натуралистический и даже материалистический характер учения Демокрита о магическом действии истечений засвидетельствован у Плутарха. Учение о человеке и культуреУчение Демокрита о душе вводит нас в его учение о культуре. Демокрит, во-первых, привнес в понятие о культуре идею ее развития. До Демокрита мысль эта высказывалась его предшественниками как мысль об изменении природы. Начиная с Анаксимандра была выдвинута идея о постепенном развитии органической жизни, о происхождении животных, ныне населяющих сушу, из морских животных и о появлении человека из рыбоподобных существ. Ксенофан и другие обогатили мысль об изменениях в природе своими наблюдениями над останками ископаемых, находимыми и в настоящее время вдалеке от моря и на большой высоте. Анаксагор высказал гениальную мысль о том значении, какое в умственном развитии человека имела рука, о применении руки в качестве орудия технического действия. Однако ни у кого из этих предшественников Демокрита мы не находим еще ясного понятия о развитии человеческой культуры — материальной и умственной. Во-вторых, новое в учении Демокрита о культуре, кроме учения о развитии, — мысль о том, что движущей силой этого развития были нужда и польза, т. е. пригодность для удовлетворения нужды. По Демокриту, первая и самая великая из всех нужд есть добывание пищи, для того чтобы существовать и жить. Второе место занимает потребность в жилище, третье — в одежде. Материальная нужда толкуется у Демокрита как постоянно действующая коренная причина изменений, происходящих в развитии общества. Однако непосредственным поводом к возникновению, этих изменений Демокрит считает осознание людьми пользы для их жизни от нововведений. В учении Демокрита мысль о материальной причине изменений, приводящих к развитию общества, сочетается с мыслью о роли сознания — осознания пользы — в жизни общества. Материализм — только последний фон объяснения. На первый план выдвинута роль сознания. Никакого понятия о способе материального производства, о зависимости сознания людей от этого способа производства и от происходящих в нем изменений Демокрит, конечно, еще не имеет. Такое же сочетание мысли о природной — материальной — нужде и о человеческом установлении, обусловленном сознанием пользы, мы находим в учении Демокрита о языке и об его возникновении. К исходу 5 в. до н. э. перед греческой наукой возник важный вопрос: в каком отношении слова языка стоят к предметам, обозначаемым этими словами? Иначе говоря, на чем основана связь между словом и предметом: на сходстве слова с природой обозначаемого им — предмета или на простом соглашении, т. е. условии, принятом между людьми и гласящем, что такой-то предмет будет впредь обозначаться таким-то словом — без отношения слова к природе самого предмета? Согласно первой из этих точек зрения, связь слова с предметом существует по природе, согласно второй — не по природе, а по установлению. Демокрит сочетает в своем учении о языке обе эти точки зрения, но таким образом, что верх у него явно берет вторая из них. С одной стороны, возникновение языка он выводит из той же материальной нужды, которая, согласно его учению, составляет основу всех изменений в жизни общества. Развивая эту мысль, Демокрит, по-видимому, полагал, будто слово есть изображение самого предмета. В этом же смысле он говорил, например, что «имена богов — звучащие изображения их» [54, II, fr. 148, S. 87]. Однако, с другой стороны, вникая глубже в вопрос об отношении слова — имени — к предмету, Демокрит приходил к выводу, что само отношение слова к предмету обусловлено уже не природой самого предметна только согласием, принятым между членами данного общества, говорящего на данном языке. О таком решении вопроса Демокритом ясно свидетельствует в комментарии к «Кратилу» Платона поздний неоплатоник Прокл. Таким образом, язык, по Демокриту, — не просто «природное» явление, а своеобразное его продолжение. Характерный для всех атомистов взгляд на культуру как на своеобразное продолжение природы рельефно выступает также в суждениях Демокрита об искусстве. От Демокрита ведет начало теория, согласно которой искусство — «подражание» природе. При этом у Демокрита еще не отделяется «искусство» в смысле деятельности, порождающей художественные произведения, от «искусства» в гораздо более широком смысле — в смысле техники, ремесла, приемов ухода за растениями в сельском хозяйстве и т. д. Во всех этих «искусствах» источником их Демокрит считает подражание тому, что человек наблюдает в деятельности животных. Об этом источнике человеческого искусства прямо говорит текст Демокрита, сообщаемый Плутархом: «От животных мы путем подражания научились важнейшим делам: а именно: мы — ученики паука в ткацком и портняжном ремеслах, ученики ласточки в построении жилищ и ученики певчих птиц, лебедя и соловья в пении» [68, 20, 974а; 54, II, fr. 154, S. 90; 38, с. 306]. Учению Демокрита, согласно которому природа — источник искусства и первая наставница человека в деле искусства, никак не противоречит предложенное Демокритом объяснение вдохновения. А именно, по Демокриту, художественное вдохновение есть будто бы род божественного наития и даже род некоторого безумия. Так характеризуют взгляд Демокрита на вдохновение римские писатели Цицерон и Гораций. Как согласуется этот взгляд Демокрита с его учением об искусстве как о «подражании» природе? В основе мысль Демокрита ясна. Вдохновение требуется для искусства — художества (для поэзии, музыки). Напротив, оно не необходимо для искусства — технического умения, которое (как, например, ткацкое искусство) возникло из подражания действиям животных, наблюдаемым в природе. Только для «поэтических» (творческих) искусств источником является «вдохновение», «безумие». Однако и в них «вдохновение», «безумие» не заключает в себе ничего мистического. Его источник — та же «натуральная магия», к которой сводится понятие Демокрита о богах, о демонах — об образах, носящихся в воздушной среде и производящих своими истечениями различные действия на человека. Внедряющиеся в поэта «извне» силы вдохновения производят в нем нечто, выводящее поэта за обычные грани ума. Но в этих силах нет ничего сверхъестественного, мистического. Источник их — все те же «образы», порожденные соединением атомов. Этика и политикаВидное место в составе учения Демокрита занимает этика. Демокриту удалось в блестящей литературной форме выразить свои этические взгляды, общие со взглядами передовой части греческой рабовладельческой демократии конца 5 в. до н. э. Этическое учение Демокрита определяется основными чертами его политического учения. Аксиома и основа этики Демокрита — мысль, что свободный грек — не изолированная от общества единица, а гражданин города-государства (полиса). Хорошо управляемое государство есть величайший оплот: в нем все заключается и, когда оно сохраняется, все цело, а погибает оно — с ним вместе и все гибнет. Поэтому интересы государства должно ставить выше всего остального; должно заботиться, чтобы оно хорошо управлялось. Положение это верно для всякого государства, и врага государства следует убивать во всяком государственном строе. Наряду с указанным, необходимым для всякого государства условием его существования Демокрит формулирует и такие нормы политического поведения, которые необходимы для граждан уже не любого государства, а наилучшего. Таким наилучшим государством Демокрит считал демократию. По Демокриту, преимущества демократического строя настолько велики, что в демократическом полисе даже бедность лучше, чем богатство в монархии. Однако неоспоримые преимущества демократии не дают — Демокрит ясно видит это — абсолютной гарантии того, что избранными всегда и во всех случаях окажутся только лучшие из граждан. Демокрит видел, что в современных ему полисах при частой смене выборных лиц бывшие правители, ушедшие с занимаемой ими должности, нередко терпели преследования со стороны лиц, которые во время их правления были привлечены к ответственности за совершенные ими преступления. Демокрит хотел создать в демократическом государстве условия, которые обеспечили бы твердость и безопасность демократических правителей в соблюдении и в защите демократической законности. Поэтому наряду с требованием гарантий безопасности для выборных правителей, честных в исправлении государственных обязанностей, Демокрит подчеркивает, что выборные лица, хорошо выполнявшие свои функции, не должны ожидать за это похвал — так же, как странно было бы хвалить тех, кто возвращает вверенные им на хранение деньги: ведь начальствующее лицо избирается не для того, чтобы дурно вести дело, а для того, чтобы хорошо вести [см 54, II, fr. 265, S 114; 38, с. 319]. Демокрит не делает умственное превосходство и подготовку к управлению государством привилегией высшей касты или класса. Он полагает, что качества, необходимые для гражданина, создаются воспитанием, обучением. «Ни искусство, ни мудрость не могут быть достигнуты, если им не учиться» [54, II, fr. 59, S. 75; 38, с. 322]. Но Демокрит не ограничивает круг воспитываемых исключительным классом, поставленным над обществом. Во-первых, указывает он, задатки разумности свойственны и тем, кто не получил обучения. Во-вторых, все хорошее, на что способен человек в годы зрелости, зависит не от его «природы», не от происхождения, а от воспитания: «Больше людей становится хорошими от упражнения, чем от природы» [54, II, fr. 242, S. 109]. Демокрит хорошо понимал, что общественно-политическая жизнь не есть уже «природа» в непосредственном смысле. Политическая деятельность — то, что человек добавляет к «природе». Но Демокрит не в силах правильно разграничить в человеке черты, данные ему природой, и вторичные черты — результат выработки и воспитания в обществе. У Климента приводится цитата из Демокрита, где Демокрит говорит: «Учение перестраивает человека, природа же, перестраивая, делает человека, и нет никакой разницы, быть ли таковым, вылепленным от природы, или от времени и от учения быть преобразованным в такой вид» [51, IV, 151, 38, с. 321]. По-видимому, Демокрит, как догадывается Дильс, полагал, что учение перестраивает человека и, преобразуя его, создает ему новую природу. При разработке вопросов этики Демокрит исходит из общих основ своего мировоззрения. Как мы видели, в учении о знании началом познания он признал ощущения и чувственные восприятия. Соответственно и в этике движущей силой поведения Демокрит признал стремление к тому, что порождает чувство удовольствия, и отстранение от всего, что может породить чувство неудовольствия. Целью жизни Демокрит считал «хорошее расположение духа (euqumia)» [текст Епифания у Дильса: 54. II. S. 53–54; 38, с. 307]. Эта цель — одна и та же для старых и молодых. Она отнюдь не всецело субъективна, как субъективно простое ощущение приятного. Понятие о благе и зле объективно и едино для всех людей: «Приятно… одному одно, другому другое», но «для всех людей одно и то же благо и одна и та же истина» [54, II, fr, 69, S. 77; 38. с, 308]. Отношение между субъективным удовольствием и неудовольствием соответствует более широкому и более объективному отношению между пользой и вредом. Удовольствие — признак полезности того, что доставляет это удовольствие, неудовольствие — такой же признак вредности. Однако быть мерилом полезности (и соответственно вредности) чувство удовольствия может только при условии, если оно подчинено мере. «Прекрасна надлежащая мера во всем» [54, II, fr. 102, S. 81; 38, с. 312]. В общеэллинское понятие «меры» Демокрит вводит новый смысл. Не только в субъективной области чувствований, но и в области общественного поведения человека он призывает руководиться мерой. Под мерой он понимает здесь соответствие поведения силам и способностям, которые отпущены человеку самой его природой. Просветленное мерой удовольствие, составляющее цель действий, не есть уже непосредственное чувственное наслаждение. По разъяснению Диогена Лаерция, «эвтюмия», или «хорошее расположение духа», не тождественно удовольствию, как некоторые истолковали мысль Демокрита, а есть такое состояние, при котором душа живет безмятежно и спокойно, не возмущаясь никаким страхом, ни боязнью демонов. «Эвтюмия» может быть достигнута только при условии, если человек делает свои удовольствия независящими от вещей преходящих. В этике Демокрита силы, движущие нравственным поведением человека, сближаются с силами ума, интеллектуализируются. Именно в действиях ума Демокрит видит причину как правильных поступков, ведущих человека к счастью, так и ошибочных, влекущих за собой несчастье. Все дурное, ошибочное в действиях человека Демокрит склонен объяснять недостатком знания: «Причина ошибки, — говорит он, — незнание лучшего» [54, II, fr. 83. S. 78; 38, с. 309]. Мудрость Демокрит называл Афиной Тритогенеей, понимая под этим, что мудрость приносит три плода: не только дар хорошо мыслить и дар хорошо говорить, но вместе с тем и дар хорошо поступать. Этика Демокрита просветлена разумом и оптимистична. Если источник ошибочного действия в отсутствии или недостатке знания, то это значит, что в жизни людей нет никаких недостатков и зол, которые не могли бы быть устранены и побеждены. Все дело в приобретении необходимых знаний. Человеку принадлежит — в возможности — весь мир, и нет никаких границ для его совершенствования. Мудрый человек, даже когда видит существующее зло, не признает его безусловным и непобедимым: из самого зла мудрый умеет извлекать добро, если владеет необходимым для этого знанием. И наоборот, человек, лишенный мудрости и несведущий, способен само добро обратить во зло. У людей зло вырастает из добра, когда не умеют управлять и надлежащим образом пользоваться добром. Глубокая вода, например, полезна во многих отношениях, но с другой стороны, она вредна, так как есть опасность утонуть в ней. Вместе с тем существует средство избежать этой опасности — обучение плаванию [см. 54, II. fr. 173, S. 95; 38. с. 309]. Интеллектуалистическая этика Демокрита созерцательна, клонится к идеалу созерцательного блаженства и самоудовлетворения. По Демокриту, наибольшего уважения заслуживает невозмутимая мудрость. Невозмутимость для Демокрита — синоним «эвтюмии», «хорошего расположения духа», в котором он видел цель жизни. Согласно свидетельству Стобея [см. 54, II, fr. 173, S. 54; 38, с. 310], Демокрит называл счастье «хорошим расположением духа, благосостоянием, гармонией, симметрией и невозмутимостью». Идеал созерцательного познания достигается философом, который понимает недостатки современной ему демократии, видит дистанцию, отделяющую ее от возможного совершенства, предлагает свои поправки к ней, но при этом твердо стоит на ее почве, признает в ней лучшую форму политического строя. Он не отбрасывает с порога современное ему искусство управления государством, а рекомендует изучать это искусство «как наивысшее из всех искусств» [67, 32, р. 1126а; 38, с. 318], особенно в его наилучших образцах, представленных Мелиссом и Парменидом. Однако, хотя для Демокрита знание — средство устранения того, что препятствует достижению «хорошего расположения духа» («эвтюмии»), оно еще не есть рычаг преобразования мира. Материализм Демокрита остается материализмом созерцательным. Ненасытная жажда знания, отмеченная у Демокрита ранним Марксом, не переходит в стремление изменить мир с помощью знания [см. 2, с. 32–35]. IV. Платон  1. Жизнь и сочинения Платона Развитие древнегреческой философии до Сократа было в целом историей возникновения и развития материализма — от Фалеса до Демокрита. В учении Демокрита (конец 5 — начало 4 в… до н. э.) древнегреческий материализм достиг своей высшей формы, стал атомистическим материализмом в философии и одновременно в науке. Но эпоха наивысшего развития материализма в Древней Греции не была изолированным явлением истории духовной жизни. Она совпадает во времени с расцветом греческого рабовладельческого полиса и является чрезвычайно сложным, многообразно опосредствованным отображением этого расцвета в области мысли. Развитие древнегреческой полисной системы и ее классовой основы — рабовладения — было противоречивым. В то самое время, когда демократический (в античном смысле) полис достигает своего наивысшего развития, начинается и процесс его деградации. Пелопоннесская война оказалась одним из наиболее значительных проявлений и обнаружений начинающегося кризиса рабовладельческой системы. Демократические Афины утрачивают свое главенствующее положение в возглавленном ими союзе греческих государств. За короткий промежуток времени между диктатурой Перикла, искусно использовавшего бытовавшие нормы демократической государственности, и «тиранией тридцати» деградация полисной системы достигла значительной степени, ее возможности исчерпались. Параллельно и на основе этого процесса произошли глубокие изменения в умственной жизни греческого общества. Греческая демократия никогда не благоволила свободному развитию исследований природы. Она ревниво выступала на страже староотеческой религии. Свою ненависть к вольнодумству физиков она отлила в формы обвинения в религиозном нечестии. Так она расправилась с Анаксагором. Но и в борьбе со своими политическими противниками она прибегала к этому же средству. Сократа, который отговаривал молодых философов от изучения физического мира, она осудила, так же как Анаксагора, по поводу нарушения староотеческой веры. Не задумываясь, она готова была поверить выдумке Аристофана, который изобразил Сократа в виде шарлатана-натурфилософа. В этой обстановке материализм развивался и прокладывал себе путь не под покровительством руководителей демократии, а скорее вопреки их враждебному отношению. Тем не менее до Сократа господствующий класс греческих рабовладельцев не выработал философского обоснования своего мировоззрения. От науки, наступавшей на религию и мистику, он защищался, взывая к традициям религии. Материализму Эмпедокла, Анаксагора, Демокрита он еще не мог противопоставить в качестве его антагониста разработанные учения идеалистической философии. Больше того. Он казнил противника старинного демократического уклада и народной религии Сократа — именно того философа, в учении которого уже обнаружился сильный крен в сторону идеализма. Положение дел меняется с началом 4 в. до н. э. Платон с редким в истории мысли талантом создает учение объективного идеализма, которое не только направляется против достижений материалистических мыслителей и ученых, но также и даже прежде всего используется для обоснования реакционной социальной и политической системы взглядов. Отныне в греческой философии «линии Демокрита» резко и непримиримо противостоит «линия Платона». Борьба материализма против идеализма из безотчетной становится осознанной. Это осознание делает борьбу идей более ясной, но не менее сложной. И учение Платона, и учение Аристотеля, создавшего вторую после Платона систему воззрений объективного идеализма, полны противоречий. Учения эти — не только два фазиса в истории борьбы идеализма с материализмом, но и два фазиса в развитии древнегреческой науки. В школе Платона ведутся важные математические исследования. Аристотель создает грандиозную энциклопедию всей современной ему науки. Но и в области философии Платон и Аристотель — не только творцы реакционных доктрин идеализма. Платон разрабатывает вопросы диалектики, теории познания, эстетики, педагогики. Аристотель создает основы логики, разрабатывает проблемы теории искусства, этики, политической экономии, психологии. Огромная одаренность, всесторонний охват изучаемых предметов, глубина разработки делают учения Платона и Аристотеля источником влияния, далеко выходящего за рамки общества, в котором оба они жили и действовали. Этим объясняется значительное внимание, которое уделено обоим в настоящей книге. Жизнь ПлатонаПлатон родился в 427 г. до н. э. в знатной семье на острове Эгина, неподалеку от Афин. Со стороны отца, Аристона, род Платона восходит к последнему царю Аттики — Кодру; со стороны матери, Периктионы, — к семье родственников знаменитого законодателя Солона. Дом этот был воспет Анакреоном и другими греческими поэтами. Родственником матери был также известный афинский политический деятель, впоследствии «тиран» Критий. По-видимому, именно Критий ввел Платона в круг учеников Сократа. Литературная философская деятельность Платона началась не очень рано. Есть предание, будто ей предшествовали опыты Платона в области художественной литературы, музыки и живописи. Впоследствии Платон, как заметил Теодор Гомперц, не то, чтобы отрекся от них, но скорее поставил свои художественные наклонности на службу философии [см. 58. 2 AuiL, S. 205]. Еще до вступления в круг учеников Сократа Платон учился философии у Кратила. Это был последователь Гераклита, не остановившийся перед самыми крайними и парадоксальными выводами из его учения о вечном движении и вечной изменчивости всего существующего. У Кратила тезис Гераклита абсолютизируется; не только нельзя дважды войти в реку, но даже и один раз. Уже в тот момент, когда мы входим в нее, она не та же самая. Нельзя назвать никакую вещь по имени: имя — одно и то же, но вещь непрерывно изменяется, так что имя к ней неприложимо ни в какой момент ее существования. Выход один — не называть вещи, а только указывать на них пальцем. Впоследствии Платон выскажется в ироническом смысле об этом учении. С годом, смерти Сократа (399) заканчивается первое пребывание философа в Афинах. Платон покидает родину на целых двенадцать лет. За это время странствий Платон посетил Египет, Южную Италию и Сицилию. Пребыванию в этих странах предшествовала задержка в близкой к Афинам Мегаре, где главой центра молодых ученых и философов был Евклид. [10] Впечатления, вынесенные из пребывания в Египте, оказались важным этапом в формировании научных, политических и политико-экономических воззрений Платона. Хотя Египет испытал в 525 г. до н. э. нашествие персов, социальный и политический строй не был поколеблен в своем существе. Особо сильным было впечатление от кастового устройства египетского общества, от бытовавших в Египте фиксированных форм разделения труда, от практиковавшихся там форм обучения арифметике. Особенно длительным было пребывание Платона в Гелиополе — центре египетской религии и жреческой организации. В том же Гелиополе немного времени спустя производил в течение года и четырех месяцев астрономические исследования греческий математик и астроном Евдокс. Из Египта, отплывши от нильской дельты, Платон прибыл на побережье близкой к Египту Кирены. Здесь он встречался с видным греческим астрономом и сведущим в музыке математиком Федром, которого Платон впоследствии вывел как действующее лицо в трех своих диалогах. За пребыванием в Кирене последовал переезд в Южную Италию. Одной из задач путешествия было ознакомление с учением пифагорейцев и в особенности с результатами их математических исследований. Здесь центром деятельности пифагорейцев был Тарент, в котором в это время социально-политический строй после недавнего обострения классовой борьбы относительно стабилизировался в форме умеренной демократии. Крупнейшей умственной силой Тарента был в то время пифагореец Архит, видный государственный деятель, стратег и ученый — математик, физик, механик. Он первый стал разрабатывать механику как отрасль математической физики и был изобретателем первых автоматов. Как геометра его высоко почитал, наряду с Леодамом из Фасоса и Теэтетом из Афин, знаменитый математик Евдем. Особенно много трудился Архит над учением о пропорциях и над задачей удвоения куба. На Платона личность Архита произвела глубокое впечатление. Ему импонировало в Архите сочетание политической и научной деятельности в одном лице не меньше, чем содержание его научных результатов. За периодом пребывания в Южной Италии последовал переезд Платона в Сицилию. В начале 4 в. до н. э. в греческих городах Сицилийского побережья боролись между собой политические силы так называемой «тирании», которая была переходной формой от старой аристократии к господству рабовладельческого демоса, и силы демократии, которая, как мы знаем, уже в 5 в. до н. э. восторжествовала в Агригенте — при Эмпедокле. Крупнейшим в то время городом не только в греческой Италии, но и во всем греческом мире были Сиракузы. В этом блестящем культурном центре власть в то время принадлежала энергичному и властолюбивому «тирану» Дионисию. Он не был ни выдающимся полководцем, ни властителем, напоминающим восточных деспотов. Благодаря энергии и целеустремленности он в течение 38 лет удерживал в своих руках город-государство, в котором не утихало пламя классовой борьбы и борьбы партий. При дворе Дионисия развилось искусство «мимов», у которых Платон, быть может, учился мастерству индивидуальной характеристики персонажей своих диалогов. Здесь же он наблюдал искусство, с каким мимический поэт Софрон вводил в некоторые свои мимы персонажи древних мифов, а также знакомился со сценами сатирического поэта Эпихарма, осмеивавшего парадоксы гераклитовского учения о непрерывном потоке становления. Во время пребывания в Сиракузах Платон сблизился с родственником тирана Дионом, в котором Дионисий надеялся найти достойного преемника. С неудовольствием и опаской наблюдал Дионисий за усиливающимся влиянием Платона на Диона. Платон вынужден был покинуть Сиракузы, но на пути в Афины был высажен в Эгине, которая тогда находилась в острой вражде с Афинами. Платону грозило обращение в рабство, но к счастью для него в это время в Эгину прибыл из Кирены Анникерид, с которым Платон познакомился во время своего пребывания в его стране. Анникерид помог через друзей Платона в Афинах организовать выкуп философа и добился его освобождения. В 387 г, до н. э., в сорокалетнем возрасте, Платон вернулся в Афины. По прибытии он основал в роще героя Академа свою школу, получившую впоследствии название Академии. Вскоре вокруг Платона собрались многочисленные юные ученики. Часть из них пришла в Академию для изучения наук, другая, большая часть — для получения общего образования, прежде всего для подготовки к политической деятельности. В своем подавляющем большинстве это были молодые люди состоятельных фамилий. Впоследствии школа Платона стала крупным очагом развития греческой математики, в которой сам основатель школы видел необходимое введение в изучение наук и философии. В годы старости Платона, когда произошло его сближение с пифагорейцами и с развивавшимся ими математическим естествознанием, взгляд Платона на математику еще более укрепился. Платон не остался навсегда в Афинах. Он совершил еще две поездки в Сицилию при преемнике Дионисия I — Дионисии II, получившем власть в 367 г. до н. э. Инициатором приглашения был советник и родственник Дионисия Дион — тот самый, с которым Платон подружился за двадцать лет до того, во время своего первого пребывания в Сицилии. Платон воспользовался приглашением с целью осуществить с помощью Дионисия свой проект идеального государственного строя. Он потребовал, чтобы его царственный воспитанник прошел запланированный курс обучения, начинавшийся с изучения математики. Враждебные Платону придворные Дионисия внушили ему мысль, будто целью Платона было отдаление Дионисия от государственных дел и способствование возвышению Диона. Поводом для обвинения Диона оказались перехваченные его письма к карфагенским полководцам, в которых Дион склонял карфагенян к заключению мира. Отправленный в ссылку Дион, впрочем хотел, примирения с тираном. При содействии правившего в Таренте Архита он склонил Платона подготовить в Сиракузах почву к возвращению Диона. Но план этот не имел успеха, и Платон решил вернуться в Афины. При отъезде он был задержан и подвергся, впрочем, почетному пленению. Только в результате настойчивых представлений Архита ему удалось покинуть Сиракузы и уехать в Спарту, где он встретился (360) с Дионом. Разрыв Диона с Дионисием закончился тем, что Дион поднял восстание против Дионисия. В 357 г. до н. э. он отплыл от берегов Занта и направился в Сицилию. Среди его сторонников и соучастников были некоторые участники Академии Платона: Евдем, Тимонид, Каллип. В начавшейся борьбе Дион одержал победу, но в 354 г. до н. э. был убит бывшим платоновцем Каллипом, который на короткое время захватил власть в Сиракузах. Едва ли можно сомневаться в том, что в политических планах Диона в какой-то мере отразились взгляды Платона на государство. Дион стремился установить власть, которая была бы способна стать выше противоположности, существовавшей между жесткими формами тирании Дионисия Старшего и притязаниями демократии на власть. Устройство государства, о котором помышлял Дион, было какой-то смесью из элементов монархического, аристократического и демократического строя. Остаток жизни Платон провел в Афинах. Попытка вмешаться в ход политических событий принесла ему горькое разочарование. В Последнем крупном произведении Платона — «Законах» — Платон отказывается от ряда ритористических черт своей прежней системы воспитания и политической системы. Умер он в 347 г. Сочинения ПлатонаЛитературная деятельность Платона продолжалась в течение полувека. Платон — первый крупнейший философ, от которого до нашего времени дошли все (или почти все) его сочинения. Учение, излагаемое в них, несвободно от противоречий. В некоторых из них излагается идеалистическое учение о бытии, получившее название теории «идей». Но есть среди сочинений, дошедших под именем Платона, и такие, в которых теория эта совершенно отсутствует. Есть, наконец, и такие сочинения, в которых сам Платон подвергает собственную теорию «идей» острой критике (например, «Парменид»). Существует, кроме указанного, и ряд других противоречий в произведениях, сохранившихся под именем Платона. Не удивительно поэтому, что уже более полутораста лет в истории древнегреческой философии и литературы обсуждается «платоновский вопрос». Так называют филологические и философские исследования, посвященные вопросам подлинности дошедших под именем Платона сочинений, их хронологии, или исторической последовательности, их написания и опубликования. «Платоновский вопрос» породил необозримую в буквальном смысле слова специальную литературу. Из тридцати шести сочинений Платона, написанных в форме диалога, т. е. философской беседы, многие были заподозрены, по крайней мере отдельными исследователями, в том, что они в действительности не принадлежат Платону и только приписываются ему. Доводом, решающим вопрос о подлинности, считается наличие указание Аристотеля, который был учеником Платона, на принадлежность того или иного диалога именно Платону. Там, где такие указания отсутствуют, открывается поле для скептической критики. Не менее шатки данные для установления хронологической последовательности диалогов Платона. В редких из них упоминаются события, даты которых известны из истории и определяющие время, раньше или позже которого данный диалог не мог быть написан. В остальных случаях датировка затруднена и основанием для нее могут быть лишь не прямые данные или соображения. В течение XIX столетия историко-филологический скептицизм бушевал со все возрастающей силой и довел «платоновский вопрос» до плачевного состояния. Филологи буквально изощрялись в изобретении все новых и новых скептических доводов. Отрезвление и вместе с тем обретение более прочных и объективных методов для решения проблемы хронологии написания диалогов Платона началось с применением так называемого «стилометрического критерия», т. е. со статистического изучения некоторых повторяющихся стилистических особенностей платоновских диалогов. Задаче этой были посвящены работы ряда видных ученых: Л. Кемпбэлла, В. Диттенбергера, Д. Пейперса, К. Риттера, Г. Зибека, Г. Арнима. Уже в конце XIX в. В. Лютославский обобщил некоторые результаты предыдущих исследований — в работе «О новом методе определения хронологии диалогов Платона» (1896), а также в работе «Происхождение и развитие логики Платона» (The Origin and Growth of Plato's Logic. London, 1905). Опорным диалогом и эталоном для сравнения при этих подсчетах и обобщениях служили «Законы» — диалог, о котором достоверно известно, что это позднейшее сочинение Платона. Применяя этот метод, удалось выделить четыре группы диалогов, начиная от ранних, так называемых «сократических», исследующих понятия этики, и кончая наиболее поздними, ряд которых замыкают «Законы». К первой — «сократической» — группе были отнесены «Апология Сократа», «Евтифрон», «Критон», «Хармид», «Лахес», «Протагор», «Менон», «Евтидем», «Горгий». Во вторую — более позднюю — вошли «Кратил», «Пир», «Федон» и первая книга «Государства». Третью — еще более позднюю — составили остальные книги «Государства», «Федр», «Теэтет» и «Парменид». Наконец, в четвертую — последнюю по времени — вошли «Софист», «Политик», «Филеб», «Тимей», «Критий» и «Законы». В подлинности всех этих сочинений, т. е. в их действительной принадлежности Платону, вряд ли приходится сомневаться. Но подлинность остается вероятной и в отношении таких неясных в своей хронологии диалогов, как «Ион», сильно заподозренный критикой, и как «Гиппий Больший», несомненно возвещающий начало будущей теории «идей». По форме и достоинствам изложения диалоги Платона неоднородны. Часть из них написана в драматической форме. Это блестящие сцены из умственной жизни Афин, изображение сталкивающихся и борющихся философских воззрений. Действующие герои этих диалогов — ярко очерченные характеры и лица — философы, в центре которых стоит личность Сократа, софисты, поэты, рапсоды, политические деятели. Таковы, например, диалоги «Протагор», «Федон», «Пир». Диалоги эти принадлежат истории древнегреческой литературы не в меньшей степени, чем истории древнегреческой философии. Другую часть философских сочинений Платона составляют диалоги, в которых диалогическая форма — лишь видимость, слабо обрамляющая основное содержание. Это диалоги-трактаты. В них исследуются труднейшие и отвлеченнейшие проблемы диалектики. Значение их не в художественном воплощении философских воззрений, а в их диалектическом развитии и обосновании. Образцы таких диалогов — «Софист», «Филеб», «Парменид». Наконец, есть и такие диалоги, в которых перемежаются образ, миф и отвлеченный анализ философских проблем. Возможно, что некоторые диалоги, как полагает Кьяппелли, в первоначальной редакции были написаны в повествовательной форме и лишь впоследствии были изложены в форме драматической [см. 52, с. 320 — ЗЗЗ]. Обилие всех этих нерешенных вопросов, может быть частично даже неразрешимых за отсутствием необходимых данных, делает исследование философии Платона и ее адекватную интерпретацию и в настоящее время сложной и трудной задачей истории философии. 2. Учение Платона об «идеях» («видах») От философов-элеатов Парменида и Зенона Платон усвоил установленное этими философами различие между тем, что существует по истине, и тем, что не имеет истинного бытия. «Прежде всего, — утверждает Платон в «Тимее», — по моему мнению, надо различать: что всегда существует и никогда не становится и что всегда становится, но никогда не существует» [Тимей, 27 D]. Это различие между быванием (становлением) и бытием, между явлением и сущностью Платон распространяет на все предметы исследования. Среди них большое внимание он уделяет исследованию прекрасного. Во всех диалогах, посвященных проблеме прекрасного или хотя бы частично касающихся этой проблемы, Платон разъясняет, что предметом исследования является не то, что лишь кажется прекрасным, и не то, что лишь бывает прекрасным, а-то, что по истине есть прекрасное, т. е. прекрасное само по себе, сущность прекрасного, не зависящая от случайных, временных, изменчивых и относительных его проявлений. Постановка вопроса, пожалуй, всего лучше раскрывается в диалоге «Гиппий Больший». В нем изображается спор о прекрасном между Сократом, представляющим здесь точку зрения самого Платона, и софистом Гиппием. Софист изображен как простоватый, даже глуповатый человек, не понимающий самой сути платоновской постановки вопроса. На вопрос: «Что такое прекрасное?» — Гиппий отвечает наивным указанием на первый пришедший ему в голову частный случай, или пример, прекрасного. «Прекрасное — это красивая девица», — отвечает Гиппий. Сократ без труда заставляет Гиппия согласиться, что с не меньшим основанием должны быть признаны прекрасными и прекрасный конь, и прекрасная лира и даже прекрасный горшок. В диалоге выясняется, что предметы чувственного мира называются прекрасными всегда лишь в относительном, не безусловном смысле. Так, и горшок может быть назван прекрасным, но лишь в той мере, в какой он удовлетворяет своему утилитарному назначению, — в кухонном обиходе. В этой связи Платон принимает утверждение Гераклита, подметившего относительность прекрасного. Кто, как Гиппий, на вопрос о том, что такое прекрасное, отвечает простым указанием на тот или другой частный предмет чувственного мира, тот должен признать, что предмет этот окажется уже не безусловно прекрасным или даже вовсе не прекрасным в сравнении с каким-либо другим предметом, превосходящим его в том отношении, в каком первый был признан прекрасным. После дальнейших препирательств выясняется, что вопрос поставлен не о вещах прекрасных в относительном смысле, а о том безусловно прекрасном, которое одно только и сообщает отдельным вещам качество или свойство красоты. «Я спрашиваю тебя, — поясняет Сократ Гиппию, — о самом прекрасном, которое делает прекрасным все, к чему только прикоснется: и камень, и дерево, и человека, и божество, и всякое дело, и всякое знание» [Гиппий Больший, 291 D]. Речь идет о таком прекрасном, которое «никогда, нигде и никому не могло бы показаться безобразным» [там же], о том, «что бывает прекрасно для всех и всегда» [там же, 291 Е]. Прекрасное, выясняется из дальнейшего развития диалога, не может быть ни полезным, ни подходящим. Полезным оно не может быть, так как полезное всегда полезно лишь в каком-либо отношении, не может быть безотносительным. Но прекрасное не может быть и подходящим. Подходящее есть, по Платону, то, что заставляет вещь лишь казаться прекрасной. Но прекрасное, которого ищет Платон, не есть всего лишь кажущееся: Платон ищет того, что на самом деле есть прекрасное. Если подходящее заставляет что-либо казаться прекраснее, чем это есть на самом деле, то оно будет по отношению к прекрасному каким-то обманом. «Мы же ищем, — поясняет Платон, — того, чем все прекрасные вещи в самом деле прекрасны, как, например, то, чем все великое бывает велико» [Гиппий Больший, 294 В]. Понятое в этом смысле прекрасное есть «вид» («эйдос»), или «идея». И то же относится к другим классам предметов и их свойств. По Платону, каждому классу одноименных вещей чувственного мира соответствует в мире вещей, постигаемых умом, некая вечная, не возникающая и не погибающая, безотносительная причина того, что делает вещь именно вещью этого и никакого другого класса. Но Платон не только ставит задачу определения прекрасного как того, что заставляет вещи быть безотносительно прекрасными, безотносительно великими, безотносительно добрыми и т. д. Он утверждает, что эта задача хотя и трудна, но все же разрешима. Она разрешима прежде всего потому, что предмет исследования — «идея», «вид» — существует объективно, в самой реальности. «Я начинаю с положения, — заявляет Платон в диалоге «Федон», — что есть нечто само в себе прекрасное, доброе, великое и иное прочее» [Федон, 100 В]. Наиболее полная характеристика «вида», или «идеи», была развита Платоном при исследовании все той же сущности прекрасного в «Федоне», «Пире», «Филебе». «Идеи»По Платону, кто последовательно поднимается по ступеням созерцания прекрасного, тот «увидит нечто прекрасное, удивительное по своей природе» [Пир, 210 Е]. «Он увидит, прежде всего, что прекрасное существует вечно, что оно ни возникает, ни — уничтожается, ни увеличивается, ни убывает; далее, оно не так, что прекрасно здесь, безобразно там; ни что оно то прекрасно, то не прекрасно; ни что оно прекрасно в одном отношении, безобразно в другом; ни что в одном месте оно прекрасно, в другом безобразно; ни что для одних оно прекрасно, для других безобразно» [там же, 211 А]. Прекрасное не предстанет «перед созерцающим его «идею» в виде какого-либо облика, либо рук, либо какой иной части тела, ни в виде какой-либо речи или какой-либо науки, ни в виде существующего в чем-либо другом, например, в каком-либо живом существе, или на земле, или на небе, или каком-либо ином предмете» [там же, 211 А — В]. Уже этой характеристики достаточно, чтобы установить ряд важных признаков платоновского определения прекрасного и вместе с тем признаков каждого «вида (eidoV)», каждой «идеи». Эти признаки — объективность, безотносительность, независимость от всех чувственных определений, от всех условий и ограничений пространства, времени и т. д. Платоновское прекрасное есть «вид» («эйдос»), или «идея», в специфически платоновском смысле этого понятия, т. е. истинно-сущее, сверхчувственное бытие, постигаемое одним только разумом; иными словами, прекрасное — сверхчувственная причина и образец всех вещей, называемых прекрасными в чувственном мире, безусловный источник их реальности в той мере, в какой она для них возможна. В этом значении «идея» резко противопоставляется у Платона всем ее чувственным подобиям и отображениям в мире воспринимаемых нами вещей. Чувственные вещи необходимо изменчивы и преходящи, в них нет ничего прочного, устойчивого, тождественного. Эта непрерывная текучесть, изменчивость чувственных вещей подчеркнута Платоном в «Федоне». «Что скажешь, — спрашивает здесь Сократ Кебеса, — (что скажешь) о многих прекрасных предметах — о людях, о лошадях, платьях и других тому подобных или равных, похвальных и всегда одноименных им? Одинаково ли они существуют или… несогласны (т. е. нетождественны. — В. Л.) ни с самими собой, ни между собой, и никогда и ни под каким видом, можно сказать, не остаются теми же?» — «Никогда не остаются теми же», — отвечает Кебес [Федон, 78 Е]. Напротив, «вид», или «идея», прекрасного, т. е. прекрасное само по себе, истинно-сущее прекрасное не подлежит никакому изменению или превращению, совершенно тождественно и есть вечная сущность, всегда равная самой себе. «Прекрасное само по себе, — спрашивает Сократ, — сущее само по себе, поскольку Оно есть, подлежит ли хоть какому-либо изменению? Или каждая из вещей сущих, сама по себе однородная, продолжает быть той же и таким же образом, не подлежа никогда, никак и никакой перемене?» — «Необходимо той же и таким же образом…», — отвечает Кебес [там же, 78 D]. Как «идея» прекрасное есть сущность, чувственно не воспринимаемая и даже безобразная, бесформенная. Такими чертами характеризуется истинно-сущее в «Федре». По разъяснению, развитому Платоном в этом диалоге, местопребывание «идей» — «наднебесные места». Эти места «занимает бесцветная, бесформенная и неосязаемая сущность, в сущности своей существующая, зримая только для одного кормчего души — разума» [Федр, 247 D]. Только несовершенство нашего способа мышления внушает нам, по Платону, ошибочное представление, будто «идеи», в том числе и «идея» прекрасного, находятся в каком-то пространстве, подобно чувственным вещам, которые представляются нам как обособленные друг от друга и как пребывающие в пространстве. Согласно разъяснению Платона, источник этой иллюзии — материя; под «материей» он понимает едва вероятный, по его собственным словам, постигаемый каким-то незаконным рассуждением род пространства, причину обособления и отделения единичных вещей чувственного мира. Взирая на этот род пространства, «мы точно грезим и полагаем, будто все существующее должно неизбежно находиться в каком-то месте и занимать какое-нибудь пространство, а то, что не находится ни на земле, ни на небе, то и не существует» [Тимей, 52 В]. Но взгляд этот, по Платону, ошибочен. Вследствие этого взгляда, говорит Платон, даже и после пробуждения «мы не можем определенно выражать правду, отличая все эти и сродные им представления от негрезящей, действительно существующей природы» [там же, 52 С]. Таким образом, только в несобственном и притом чрезвычайно неточном смысле к «идеям» Платона могут быть прилагаемы определения пространства, времени и числа. В строгом смысле слова, «идеи», как их понимает Платон, совершенно запредельны, невыразимы ни в каких образах чувственного опыта, ни в каких понятиях и категориях числа, пространства и времени. Учение это — идеализм, так как реально существует, согласно Платону, не чувственный предмет, а лишь его умопостигаемая, бестелесная, не воспринимаемая чувствами сущность. В то же время это учение — объективный идеализм, так как, по Платону, «идея» существует сама по себе, независимо от обнимаемых ею многочисленных одноименных чувственных предметов, существует как общее для всех этих предметов. Объективная и вместе нечувственная природа «идеи» характеризуется Платоном в позднем диалоге «Филеб». «Под красотой форм, — разъясняет в этом диалоге Сократ, — я пытаюсь понимать не то, что хочет понимать под ней большинство, то есть красоту живых существ, или картин; нет, я имею в виду прямое и круглое, в том числе, значит, поверхности, изготовляемые при помощи токарного резца, а также фигуры, строящиеся с помощью отвесов и угломеров, — постарайся хорошенько понять меня. В самом деле я называю это прекрасным не тем, что прекрасно по отношению к чему-либо, как это можно сказать о других вещах, но тем, что вечно прекрасно само по себе, по своей природе, и возбуждает некоторые особенные, свойственные только ему наслаждения, не имеющие ничего общего с удовольствием от щекотания» [Филеб, 51 С]. Так, нежные и ясные звуки голоса, поющего какую-нибудь чистую мелодию, «прекрасны не по отношению к чему-либо другому, но сами по себе…» [там же, 51 D]. А несколько ниже, рассмотрев вопрос о видах наслаждения и об отношении наслаждения к благу, Платон объявляет нелепым мнение тех, кто думает, «будто блага и красоты нет ни в телах, ни во многом другом и будто оно заключено только в душе» [Филеб, 55 В]. В этом своем объективном существовании прекрасное есть одна из высших «идей». Но наивысшая, по Платону, «идея» есть «идея» блага [Госуд., VI, 508 Е и сл.]. Благо доставляет познаваемым предметам «не только способность быть познаваемыми, но и способность существовать и получать от него сущность» [там же, VI 509 В]. «Благо — читаем в одном месте «Государства», — не есть сущность, но по достоинству и по силе стоит выше пределов сущности» [там же]. Оно — «непредполагаемое» [там же, VI, 511 В] «начало всяческих [благ]» [там же]. Учение Платона об «идее» блага как о высшей «идее» чрезвычайно существенно для всей системы его мировоззрения. Учение это сообщает философии Платона характер не просто объективного идеализма, но также идеализма телеологического. Телеология — учение о целесообразности. Так как, по Платону, над всем главенствует «идея» блага, то, другими словами, это значит, что порядок, господствующий в мире, есть порядок целесообразный: все направляется к благой цели. Всякое временное и относительное существование имеет целью некое объективное бытие; будучи целью, оно есть вместе с тем благо [см. Филеб, 53 Е — 54 D]. Это бытие и есть сущность всех вещей, подверженных генезису [см. Политик, 283 D], их образец [см. Теэтет, 176 Е]. Все вещи стремятся достигнуть блага, хотя — как чувственные вещи — не способны его достигнуть [см. Федон, 74 D — E]. Так, для всех живых существ верховная цель, первоначальный и необходимый предмет их стремлений — счастье. Но счастье, как разъясняет в ряде диалогов Платон, состоит именно в обладании благом. Поэтому всякая душа стремится к благу и все делает ради блага. Стремясь к обладанию благом, душа стремится к знанию о благе. О нем совершенно необходимо утверждать, «что все познающее охотится за ним, стремится к нему, желая схватить его и завладеть им и не заботиться ни о чем, кроме того, что может быть достигнуто вместе с благом» [Филеб, 20 D]. Так как критерий всякого относительного блага — благо безусловное, то наивысшее из всех учений философии — учение об «идее» блага. Лишь при руководстве «идеей» блага справедливое становится пригодным и полезным». Без «идеи» блага все человеческие знания, даже наиболее полные, были бы совершенно бесполезны [см. Госуд., 504 А — В]. Телеология Платона, учение об объективной целесообразности, тесно связана с его теологией, или богословием. Платон не только не скрывает, но сам выдвигает и подчеркивает связь своего идеализма с религией, с мистикой. В «Пире», в «Пармениде», в «Федре» он утверждает, что «идеи», не полностью постижимы для нас, зато сполна и безусловно постижимы для разума бога. Божественный разум предполагает существование божественной жизни [см. Софист, 248 Е]. Бог — не только существо живое, он — совершенство благ [см. Тимей, 29 Е]. Бог и есть само благо. Желая, чтобы все было наилучшим, он создает мир по собственному подобию, т. е. согласно «идее» совершеннейшего живого существа [см. там же]. Хотя сущность мировой жизни — сам бог, но бог может быть счастлив, лишь если счастливой будет жизнь, которую он дарует миру. Ярко эта мысль выражена в «Тимее»: прекраснейшим из существ, постигаемых умом, предполагается также величайший, лучший, прекраснейший и совершеннейший из чувственных миров [см. Тимей, 37 А]. Стремление к счастью вложено в нас самим богом. Хотя бог — истинное бытие, он необходимо полагает себя в ином бытии, которое уже не истинно. С другой стороны, неистинное бытие, или «инобытие», в качестве положенного бытием самобытным, необходимо стремится утвердить себя в истинное и самобытном бытии. Поэтому человек необходимо влечется к божеству. Желая познать благо, он стремится познать бога: желая обладать благами, он стремится стать причастным сущности бога. Или, как разъясняется в «Законах» [см. Законы, 715 Е — 716 А], бог есть и начало, и середина, и конец всех вещей. Он — начало, так как от него все происходит; он — середина, так как он сущность всего, что имеет генезис; он — конец, так как все к нему стремится. Платон в ряде мест подчеркнул объективный характер своей телеологии. Иногда там, где Платон говорит о «благе», он приближается к грани агностицизма и даже мистицизма. «Благо» для него выше бытия и выше человеческого познания. И все же известные черты «блага» могут быть, по Платону, уловлены. Платон отождествил в известном смысле «благо» с разумом. Так как разумность обнаруживается в целесообразности, то «благо» Платон сближает с целесообразным. Но целесообразность есть, по Платону, соответствие вещи ее «идее». Отсюда получается, что постигнуть, в чем «благо» вещи, значит постигнуть «идею» этой вещи. В свою очередь, постигнуть «идею» — значит свести многообразие чувственных причинно обусловленных явлений «идеи» к их сверхчувственному и целесообразному единству [Федр, 249 В — С; 265 D — E], или к их закону. Например, чтобы ответить на вопрос, почему для земли лучше быть шаровидной (или плоской), находиться в центре мира или вне этого центра, необходимо указать разумное основание того или иного свойства. Задача объяснения мира, с этой точки зрения, состоит в том, чтобы свести все частные законы, действующие в мире, к единому, общему, а затем из этого общего вывести все частные [см. Госуд., 511 В — С]. Таким образом, общий закон вещей оказывается общим для них «благом», а все частные законы — их частными «благами». Одна из наиболее полных характеристик высшего блага для человека дана Платоном в «Филебе». Здесь в качестве условий высшего человеческого блага указаны: 1) участие в вечной природе «идеи»; 2) воплощение «идеи» в действительности»; 3) наличие разума и обладание знанием; 4) владение некоторыми науками, искусствами, а также обладание правильными мнениями; 5) некоторые виды чистых чувственных удовольствий, например, от чистых тонов мелодии или цветов в живописи [см. Филеб, 64 С сл. и 66 А сл.]. Чем более резкими чертами характеризовал Платон идеальную, сверхчувственную природу «эйдосов»» или «идей», тем труднее было ему объяснить, каким образом их сверхчувственная сущность может быть предметом человеческого познания. Уже постижение «идеи» прекрасного представляет труднейшую задачу. В самом деле. Прекрасное как «идея» вечно; чувственные вещи, называемые прекрасными, преходящи: возникают и погибают. Прекрасное неизменно, чувственные вещи изменчивы. Прекрасное тождественно, чувственные вещи пребывают в области нетождественного, иного. Прекрасное не зависит от определений и условий пространства и времени, чувственные вещи существуют в пространстве, возникают, изменяются и погибают во времени. Прекрасное едино, чувственные вещи множественны, предполагают дробность и обособление. Прекрасное безусловно и безотносительно, чувственные вещи всегда стоят под теми или иными условиями. «Идеи» и чувственный мирГлубокое отличие «идей» от одноименных им и обнимаемых ими чувственных вещей не есть, однако, полный дуализм обоих миров. По Платону, мир чувственных вещей не отсечен от мира «идей»; он все же стоит в каком-то отношении к миру «идей». Вещи «причастны», по выражению Платона, «идеям». Миру истинно-сущего бытия, или миру «идей», у Платона противостоит не мир всё же «причастных» «идеям» чувственных вещей, а мир небытия, что, по Платону, то же, что «материя». Под «материей» Платон понимает, как сказано, беспредельное начало и условие пространственного обособления, пространственной раздельности множественных вещей, существующих в чувственном мире. В образах мифа Платон характеризует материю как всеобщую «кормилицу» и «восприемницу» всякого рождения и возникновения. Однако «идеи» и «материя», иначе — области «бытия» и «небытия», противостоят у Платона не в качестве начал равноправных и равносильных. Это не две «субстанции» — духовная и «протяженная» (материальная), как они изображались в XVII в. в философии Декарта. Миру, или области, «идей», по Платону, принадлежит неоспоримое и безусловное первенство. Бытие первее, чем небытие. Так как «идеи» — истинно-сущее бытие, а «материя» — небытие, то, по Платону, не будь «идей», не могло бы быть и «материи». Правда, небытие существует необходимо. Более того. Необходимость его существования ничуть не меньше необходимости существования самого бытия. [11] Однако в связи категорий сущего «небытию» необходимо предшествует «бытие». Чтобы «материя» могла существовать в качестве «небытия» как принцип обособления отдельных вещей в пространстве, необходимо существование непространственных «идей» с их сверхчувственной, только умом постигаемой целостностью, неделимостью и единством. Чувственный мир, каким его представляет Платон, не есть ни область «идей», ни область «материи». Чувственный мир есть нечто «среднее» между обеими сферами — истинно-сущего и не-сущего. Впрочем, срединное положение чувственных вещей между миром бытия и небытия не следует понимать так, будто над миром чувственных вещей непосредственно возвышается мир «идей». Между областью «идей» и областью вещей у Платона посредствует еще «душа мира». Чувственный мир — порождение мира «идей» и мира «материи». Если мир «идей» есть мужское, или активное, начало, а мир материи — начало женское, или пассивное, то мир чувственно воспринимаемых вещей — детище обоих. Мифологически отношение вещей к «идеям» — отношение порожденности; философски объясненное, оно есть отношение «участия», или «причастности» вещей к «идеям». Каждая вещь чувственного мира «причастна» и к «идее», и к «материи». «Идее, она обязана всем, что в ней относится к «бытию», — всем, что в ней вечно, неизменно, тождественно. Поскольку чувственная вещь «причастна» к своей «идее», она есть ее несовершенное, искаженное отображение, или подобие. Поскольку же чувственная вещь имеет отношение к «материи», к беспредельной дробности, делимости и обособленности «кормилицы» и «восприемницы» всех вещей, она причастна к небытию, в ней нет ничего истинно существующего. Что же такое есть, в конце концов, мир чувственных вещей Платона? Мир чувственных вещей, разъясняет Платон, есть область становления, генезиса, бывания. Мир этот сопричастен бытию и небытию, совмещает в себе противоположные определения сущего и не-сущего. Область «идей» Платона в значительной степени напоминает учение о бытии Парменида. Платоновский мир чувственных вещей, напротив, напоминает учение о бытии Гераклита — поток вечного становления, рождения и гибели. Парменидовскую характеристику бытия Платон переносит на свои «идеи». Это — их вечность, самотождествениость, безотносительность, неподвластность определениям пространства и времени, единство и целостность. Напротив, гераклитовскую характеристику бытия Платон переносит на мир чувственных вещей. Это их непрерывная изменчивость, превращение в иное, их относительность, определяемость условиями пространства и времени, множественность и дробность. Но так как мир чувственных вещей занимает, по Платону, серединное положение между сферой бытия и небытия, будучи порождением обеих этих областей, то он соединяет в себе в какой-то мере противоположности: он — единство противоположностей: бытия и небытие, тождественного и нетождественного, неизменного и изменчивого, неподвижного и движущегося, причастного к единству и множественного. Впоследствии Гегель, повторяя на более высокой ступени развития путь, пройденный Платоном, платонизмом и неоплатонизмом, будет доказывать, что диалектика бытия и небытия («ничто») приводит необходимо к становлению, которое и есть единство противоположностей «бытия» и «ничто». Гегелевская диалектика, конечно, возникла бы и в случае, если бы не существовало Платона, но в том именно виде, в каком мы ее знаем, она никогда не сложилась бы, если бы ей не предшествовала платоновская философия и платоновская диалектика. Философии Платона по оказанному ею влиянию принадлежит важное место не только в истории идеализма, но, в частности, также и в истории идеалистической диалектики. Предыдущим изложением была показана роль, которую, по мысли Платона, «идеи» играют в становлении чувственных вещей. Но при этом остались еще неразъясненными важные вопросы. Прежде всего это вопрос о видах самих «идей». Все ли разряды и все ли свойства чувственных вещей имеют каждый свою «идею», источник их бытия в сверхчувственном мире, в мире того, что постигается разумом? Существуют ли разряды, классы «идей», подобно тому как существуют разряды и классы вещей и их свойств? Ведь если для всего, что возникает в чувственной области, должна существовать в сверхчувственном мире своя «идея», то как будто получается вывод, что должны быть «идеи» не только для классов вещей, но и для классов их свойств, и притом не только свойств положительных, высокоценных, каковы «доброе», «истинное», «прекрасное», но и свойств отрицательных — таких, как «дурное», «ложное», безобразное» и т. д. Больше того. Напрашивается вывод, будто должны существовать «идеи» несуществующего, имеющего отрицательное бытие, и т. п. Каково же было учение или мнение Платона по всем этим вопросам? Исчерпывающий ответ затруднителен не только ввиду отсутствия достаточно подробных и ясных разъяснении Платона, но и потому, что тексты, в которых можно было бы искать этот ответ, находятся в сочинениях Платона, принадлежащих к различным периодам его философской эволюции: возможно, что тексты эти обрисовывают не различные грани или стороны единого по данному вопросу воззрения Платона, а различные фазисы в развитии этого воззрения. Имеет значение также и тот факт, что по крайней мере частично о взглядах Платона по этому вопросу мы узнаем не из уст самого Платона, а из свидетельств других философов, например Аристотеля. А именно: Аристотель сообщает, будто в годы старости Платон уже отрицал существование ранее признававшихся им «идей» отношений, а также «идей» вещей, которые суть продукты ремесленной или художественной деятельности человека. В диалоге «Парменид» (автором которого некоторые исследователи считают не самого Платона, а какого-то лишь примыкавшего к школе Платона выученика элейцев) доказывается, что при последовательном проведении понятия об «идеях» Платон должен был неизбежно принимать существование «идей» также и для вещей низменных, безобразных, отвратительных и т. п. Во всяком случае рассмотрение текстов Платона показывает, что область «идей» представлялась Платону не совсем однородной: в ней намечалась некоторая «иерархия» идей, которая, однако, нигде не сложилась в четко очерченную и разработанную систему взглядов. К области «идей», во-первых, принадлежат «идеи» высших ценностей. Таковы «идеи» «блага», «истины», а также «прекрасного» и «справедливого». Это «идеи», которые немецкий философ Гербарт назвал, говоря о Платоне, «идеями» абсолютных качеств. Во-вторых, есть у Платона и «идеи» физических явлений и процессов (таких, как «огонь», как «покой» и «движение», как «цвет» и «звук»). В-третьих, «идеи» существуют также и для отдельных разрядов существ (таких, как «животное», как «человек»). В-четвертых, иногда Платон допускает также существование «идей» для предметов, производимых человеческим ремеслом или искусством (таких, как «стол», «кровать»). В-пятых, большое значение в платоновской теории «идей» имели, по-видимому, «идеи» отношений. Значение это выступает в ряде диалогов, кончая «Федоном», где, например, доказывается, что определением или оценкой равенства предполагается существование «равенства в самом себе», т. е. «идеи» равенства, доступной не чувствам, а уму [см. Федон, 74 А — 75 В]. «Идея» как понятиеМы видели в понятии об «идее» у Платона то, что делает «идею» 1) причиной, или источником бытия, их свойств и их отношений; 2) образцом, взирая на который демиург творит мир вещей; 3) целью, к которой, как к верховному благу, стремится все существующее. Но есть в платоновском понятии об «идее» и еще одна, и притом чрезвычайно важная, сторона. «Идея» Платона сближается со смыслом, который это слово — под прямым влиянием Платона — получило в обычном обиходе языка у цивилизованных народов. В этом своем значении «идея» Платона — уже не само бытие, а соответствующее бытию понятие о нем, мысль о нем. Это обычный смысл слова «идея» в нашем мышлении и в нашей речи, где «идея» значит именно понятие, замысел, руководящий принцип, мысль и т. п. У Платона на первый план выступило онтологическое и телеологическое значение слова «идея» в разъясненном выше смысле. Но так как по убеждению Платона, различию видов бытия строго соответствует различие видов познания, направленного на бытие, то в плане познания «идее», т. е. истинно сущему бытию, соответствует понятие об этом бытии. В этом гносеологическом и логическом смысле «идея» Платона есть общее, или родовое, понятие о сущности мыслимого предмета. В плане познания бытия и сущностей бытия Платон называет понятия, или идеи, относящиеся ко многим вещам, «родами» и «видами». «Виды» получаются из «родов» в результате разделения «рода», т. е. разделения его полного объема. В деле познания возникает задача — постигнуть единый прообраз многих вещей данного разряда, т. е. постигнуть их «род» и «виды» этого рода. Другая постоянно возникающая задача — исследование вопроса о том, какие «роды» согласуются друг с другом и какие не согласуются. Для решения этих вопросов необходимо, по Платону, особое и притом высшее искусство, которое, как мы увидим далее, он называет «диалектикой». Смысл платоновского термина отнюдь не совпадает с нашим современным смыслом этого же слова. Собственно говоря, «диалектика» Платона — искусство делить предметы (и понятия о предметах) на роды, а внутри рода различать его виды [см. Софист, 253 D — Е]. Так как, по Платону, в результате правильного определения рода и правильного разделения рода на виды достигается усмотрение сущностей, то Платон называет «диалектику» наукой о сущем. Диалектика, как говорит Платон в «Государстве», есть созерцание самих сущностей, а не одних лишь теней сущностей [см. Госуд., VII, 232 С; 534 В]. Понятая в этом смысле «диалектика» Платона есть двойной метод. Это, во-первых, метод восхождения через гипотезы до идей или до начал. Другими словами, это метод отыскивания во многом одного, или общего; будучи достигнуто, отыскание единого и общего приводит душу к тому, что в понятии, или посредством понятия, душа созерцает самую «идею» в онтологическом смысле слова «идея». Во-вторых, «диалектика» Платона — метод нисхождения, идущего от начал, т. е. метод деления родов на виды. Характеристика двойного метода «диалектики» развита в «Федре». Здесь первый метод (метод восхождения к «идее») называется соединением, так как множество разъединенных вещей он подводит под одну идею. Второй метод (метод нисхождения от родов к видам) называется здесь делением [см. Федр, 249 В — С; 265 D — 266 В; 277 В; Госуд., VI 511 В; там же, VII 533]. 3. Теория познания Платона Рассмотренный логический аспект учения об «идеях» вводит нас в учение Платона о познании. В свою очередь теория познания Платона неотделима от его учения о душе. По Платону, знание возможно не для всякого. «Философия», буквально «любовь к мудрости», невозможна ни для того, кто уже обладает истинным знанием, ни для того, кто совсем ничего не знает. Философия невозможна для того, кто уже владеет истинным знанием, т. е. для богов, так как богам незачем стремиться к знанию: они уже находятся в обладании знанием. Но философия невозможна и для того, кто ровно ничего не знает, — для невежд, так как невежда, довольный собой, не думает, что он нуждается в знании, не понимает всей меры своего невежества. Поэтому, согласно Платону, философ — тот, кто стоит между полным знанием и незнанием, кто стремится от знания, менее совершенного, восходить к знанию, все более и более совершенному. Это срединное положение философа между знанием и незнанием, а также восхождение философа по ступеням совершенства знания Платон обрисовал полумифически в диалоге «Пир» в образе демона Эроса. Что же есть, по Платону, знание? Вопрос о знании освещается в ряде диалогов, из которых oсo6o важное значение имеют «Теэтет», «Менон», «Пир», «Государство». При разработке вопроса о знании и его видах Платон исходит из мысли о том, что виды знания должны соответствовать видам, или сферам, бытия. В свою очередь, для истинного понимания бытия Платон считал необходимым разрешить противоречие между двумя наметившимися в греческой мысли противоположными концепциями: элейской, утверждающей неизменность, тождественность, неподвижность истинного бытия, и гераклитовской (отчасти отраженной также у Протагора и доведенной до крайности у Кратила), признающей его вечную текучесть, изменчивость и подвижность. Платоновское исследование гносеологических вопросов сложно. В названных выше диалогах в каждом из них в отдельности проблема познания ставится отнюдь не во всем своем содержании, а так, что предложенные Платоном в них решения восполняют друг друга и только в своем соединении дают более или менее полный ответ на вопрос, что разумел Платон под знанием. В русской и не только в русской научной литературе, посвященной Платону, чрезвычайную ценность представляют, в частности для освещения гносеологии Платона, исследования проф. А. Ф. Лосева. Этот выдающийся ученый, один из лучших во всем мире знатоков платонизма, дал не только превосходный по точности и обстоятельности философский и диалектический комментарий «гносеологических» диалогов Платона, но, что еще важнее, показал, каким образом точка зрения, развитая Платоном, например, в «Теэтете», дополняется в анализах «Менона», «Пира», «Государства» и т. д. В следующем ниже изложении теории познания Платона мы используем результаты ценного исследования проф. А. Ф. Лосева [см. 28, т. I, особенно с. 377–404, 439–447. 461–462, 468–483. 573–586]. При рассмотрении учения Платона о знании необходимо прежде всего иметь в виду, что вопрос о знании отнюдь не ставится у Платона ни как отдельная, изолированная, ни как основная проблема философии. Такое значение гносеологическая проблема, получила только начиная с XVII в. и только в некоторых учениях и направлениях философии. Учение Платона о познании неотделимо от его учения о бытии, от его психологии, антропологии, от его космологии и мифологии, от его диалектики. Рассматривать Платона как гносеолога в немецком или английском вкусе XVIII в. — вроде Юма или Канта — означало бы утрату или отсутствие строгого исторического чутья. Отсутствием этого чутья отличаются работы по интерпретации Платона и платонизма, написанные, например, неокантианцами марбургской школы — Германом Когеном, Паулем Наторпом [12] и др. В их изображении Платон выглядит как некий античный кантианец, как трансценденталист едва ли не марбургского чекана. Исторически это не только «модернизация» или «стилизация» Платона под Когена. Это «стилизация», далекая от реального историзма, основанная на слепоте по отношению к исторически своеобразным чертам и характеру античного философствования. Конечно, у Платона имеется ряд учений, и прежде всего зародыши последующего гносеологического и логического идеализма, которые могут быть истолкованы как предвосхищение не только теории врожденных идей Декарта, но даже трансцендентального априоризма Канта. Но все эти учения в крайнем случае составляют только трансцендентальный момент или аспект философии Платона и могут быть поняты только в связи с другими существенными ее моментами. И напротив, правомерен и плодотворен подход А. Ф. Лосева, для которого так называемый «трансцендентализм» Платона только один, и притом отнюдь не последний, не завершающий, не высший, — аспект платонизма, но аспект необходимо подчиненный высшим его аспектам и прежде всего — диалектическому. Анализ знанияВведением в гносеологическое учение Платона может быть диалог «Теэтет». Предмет диалога — именно вопрос о существе знания. Речь идет не о том, какие существуют частные виды знания, а о том, что такое знание само по себе [см. Теэтет, 146 Е]. Диалог не дает положительного ответа на вопрос, но опровергает три несостоятельных, с точки зрения Платона, решения этого вопроса: 1) взгляд, по которому знание есть чувственное восприятие, 2) взгляд, по которому знание — правильное мнение, и 3) взгляд, по которому знание — правильное мнение «со смыслом». Чтобы отвергнуть отождествление знания с чувственным восприятием, необходимо, по Платону, рассмотреть принципиальную основу этого отождествления. Основа эта — учение о безусловной текучести всего существующего и об его безусловной относительности. Опровергающие доводы Платона в первую очередь направлены против знаменитого тезиса Протагора о человеке как о мере всех вещей: «мерой» может быть только человек, уже владеющий знанием. Далее, против учения о безусловной текучести выдвигается возражение, согласно которому защитники этого учения лишены возможности точно указать, что именно движется: все ускользает от определения в вечном и безусловном потоке движения [см. там же]. Наконец, указывается, что — при безусловной текучести — познание невозможно еще и потому, что посредством одних лишь чувственных восприятий невозможны умозаключения, без которых не достигается никакое знание о сущности. Поэтому ответ на вопрос, что такое знание, необходимо искать в том, что получает душа, когда осуществляет рассмотрение сущего сама по себе [см. Теэтет, 187 А]. Необходимое для познания единство не может быть найдено в области чувственных восприятий, так как в этой области все течет и все лишено твердой определенности. Таким образом, получается вывод, что чувственному, как текучему, должно предшествовать нечто, уже не текучее и не чувственное, а потому и знание не может быть тождественно чувственному восприятию. Но знание не может быть и «правильным мнением». Опровержению этого утверждения посвящены в диалоге страницы 187 А — 201 С. Утверждение это предполагает, будто возможно не только «правильное» (истинное) мнение, но также и мнение ложное. Но Платон доказывает, что тот, кто имеет ложное мнение, не может пребывать безусловно во лжи: для него по крайней мере нечто истинно (если он знает, что его мнение ложно) или даже все истинно. (если он не знает, что мнит ложно). С другой стороны, из предмета ложного мнения также нельзя вывести никакой лжи. Наконец, ложное мнение нельзя представить и как такое мнение о существующем, которое мыслит его Как другое существующее. Для такого мышления необходима различающая и сравнивающая деятельность рассудка, а так как сравниваемые предметы различены, то и при этом условии ложь не может возникнуть. Итак, ложное мнение невозможно. Но тем самым мы лишаемся возможности говорить о соотносительном с ним истинном мнении, и, стало быть, получается, что знание нельзя определять как «правильное мнение (alhqhV doxa)». Но лжи вообще не может быть ни в каких ощущениях и ни в каких чувственных образах. Предвосхищая мысль, которую позднее разовьет в своих логических работах Аристотель, Платон доказывает, будто ложь впервые может явиться, только когда возникает вопрос о том, как следует соединять то, что мы ощущаем и представляем, с тем, что мы знаем. Вообще никакое определение лжи невозможно, если ему не предшествует определение самого знания [см. Теэтет, 199 С — 200 D). Итак, ложное мнение невозможно. Но знание нельзя определить и просто как истинное мнение независимо от соотносительности мнения истинного с мнением ложным. Платон обосновывает этот тезис, сравнивая сообщение истины с внушением убеждения. Внушение убеждения равносильно внушению мнения. Такова обычная цель речей оратора или судьи. Если при этом судья выскажет правду, то внушаемое им мнение, конечно, будет и истинным. Но это и значит, что знание и правильное мнение — не одно и то же. Третья теория утверждает, будто знание — не просто «истинное мнение», а «истинное мнение со смыслом». Опровержению этой теории посвящены в диалоге страницы 201 С — 210 А. Сначала Платон демонстрирует примеры, из которых как будто видно, что одно «истинное мнение» еще не дает знания и что для возникновения знания к истинному мнению должно присоединиться еще нечто — «смысл». Так, отдельные звуки с и о еще не образуют слога со: чтобы возникло знание слога, к простому сочетанию звуков необходимо должно присоединиться предварительное осознание их единства и целостности в «эйдосе» («виде») слога. Однако если мы теперь зададимся вопросом, что же такое это соединение элементов со смыслом, то придется выяснить само понятие смысла, а это исследование приведет к выводу, что знание не может быть определено и как «соединение истинного мнения со смыслом». Как бы ни понимать «смысл» — то ли как выражение в слове («логос»), то ли как перечисление элементов, то ли как указание на отличительный признак, — во всех этих случаях прибавка «смысла» к «правильному мнению» не создает и не может создать знания. Таким образом, знание не есть ни ощущение, ни правильное мнение, ни соединение правильного мнения со смыслом. Во всех этих случаях знание должно быть отграничено от чувственности и должно рассматриваться не как результат чувственных восприятий, а как предшествующее им условие. «Теэтет» подвел вплотную к мысли, что знание должно быть соединением чувственности и ума и что ум осмысливает элементы чувственного опыта. Предстояло далее показать, каким образом возможно объединение различенных и отграниченных друг от друга деятельностей чувств и ума. В решении этой задачи новую ступень исследования представляет диалог «Менон» — небольшой, но важный для понимания учения Платона о знании. Непосредственный предмет «Менона» — определение существа добродетели. Какими бы частными признаками ни определялась добродетель, существенно важно, что о добродетели имеется некое общее понятие. Хотя научиться самой добродетели невозможно, зато изучимо и обязательно должно быть изучено знание о добродетели. Как и в «Теэтете», в «Меноне» сопоставляются «правильное мнение» и «знание». В известном смысле «правильное мнение» вполне правомерно. Оно может управлять совершением любого дела, и управлять им не хуже знания, не с меньшей пользой. Поэтому о человеке, который руководится правильным мнением, можно сказать, что он ничуть не хуже того, кто владеет знанием. Так как добродетель основывается на правильном мнении, то она: 1) не дается человеку от природы и 2) не достигается одним лишь обучением. Так, политики, например Фемистокл, правят городами, основываясь не на знании, а на правильном мнении. Однако знание все же — и, по Платону, с полным основанием — ценится значительно выше правильного мнения. Эту разность оценки Платон поясняет при помощи аналогии со статуями Дедала: статуи эти, пока не связаны, бегут и убегают, а связанные стоят неподвижно» [Теэтет, 97 D]. Точно то же следует сказать и о правильных мнениях. Пока они остаются постоянными, они хороши и производят доброе. Но все дело в том, что они не могут («не хотят») долго оставаться неизменными. Они «убегают» из человеческой души и потому лишены ценности — до тех пор пока кто-нибудь не свяжет их размышлением о причине. Такое «связывание» Платон называет припоминанием. Заговорив о «припоминании», Платон как будто покидает почву трезвого философского исследования и отдается во власть своей мифотворческой фантазии. Учение о теории познания оборачивается мифом, в философе возвышается поэт. Выведенный в диалоге Сократ предлагает мальчику, никогда не изучавшему геометрию, решить задачу удвоения данного квадрата и посредством искусно поставленных вопросов приводит мальчика к правильному решению задачи. Из этого факта тотчас извлекается принципиальный философский вывод: «Следовательно, у человека, который не знает того, чего можно не знать, есть верные понятия о том, чего он не знает… И теперь они вдруг порождаются у него как сновидение… Поэтому он будет знать не учась ни у кого, а только отвечая на вопросы, то есть почерпнет знание в самом себе… Но почерпать знание в самом себе не значит ли припоминать? Конечно… Так не очевидно ли, что, не получив их (знания. — В. А.) в настоящей жизни, он имел и узнал их в какое-то другое время? И не то ли это время, когда он не был человеком? Если же в то время, когда он был, но не был человеком, долженствовали находиться в нем истинные мнения, которые, будучи возбуждаемы посредством вопросов, становятся познаниями, то душа не будет ли познавать в продолжение всего времени? Ведь явно, что она существует всегда, хотя и не всегда — человек… А когда истина сущего всегда находится у нас в душе, то не бессмертна ли душа, так что, не зная теперь, то есть не припомнив чего-нибудь, ты должен смело решиться исследовать и припоминать» [Менон, 85 В — 86]. Мифологическая подоснова этого воззрения очевидна. По убеждению Платона, сближающего его с орфиками и пифагорейцами, душа наша бессмертна. До того как она вселилась на Землю и приняла телесную оболочку, душа будто бы созерцала истинно сущее бытие и сохраняла о нем знание даже под спудом земных чувственных впечатлений, удаляющих нас от созерцания истинного сущего. Это, конечно, миф Платона. Но в оболочке этого мифа выражено и философское содержание. Это мысль о связи всех знаний, отражающей всеобщую связь всех вещей: «Ведь так как в природе все имеет сродство и душа знала все вещи, то ничто не препятствует ей, припомнив только одно, — а такое припоминание люди называют наукой, — отыскивать и прочее, лишь бы человек был мужественен и не утомлялся исследованиями» [Менон, 81 С — DJ. В «Теэтете» Платон отграничил знание от чувственных впечатлений, а также показал, что рядом со знанием существуют неясные и нерасчлененные акты «мнения», также опирающегося на чувственные впечатления. В «Меноне» знание еще более резко отграничено от чувственности, а «истинное мнение» отделено от «мнения» просто. В этом диалоге показано, кроме того, каким образом в знании впервые происходит объединение истинного мнения с чувственностью — посредством «связывания» всегда текучей чувственности: «Когда же истинные мнения бывают связаны, тогда они сперва становятся знаниями, а потом упрочиваются. От этого-то знание и ценнее правильного мнения. Узами-то и отличается первое от последнего» [Менон, 97 D — 98 А]. В диалоге «Пир» рассматривается, так же как в «Теэтете» и в «Меноне», вопрос о связи знания с чувственностью. «Правильное мнение» толкуется как постижение, занимающее середину между знанием и чувственностью. Знание и чувственность в «Пире» сближаются до слияния, до неразличимости. Но это их сближение дано не столько как результат философского анализа, сколько в образах мифа. Мифологическим воплощением середины представлен демон любви и творчества Эрос. Сын Богатства и Бедности (Пороса и Пении) Эрос совмещает в себе качества отца и матери. Он ни бессмертен, ни смертен, ни богат, ни нищ, стоит посредине между мудростью и невежеством [см. Пир, 203В — 204 А]. Особенность «Пира», делающая этот диалог новой после «Теэтета» и «Менона» ступенью в развитии вопроса о знании, как это прекрасно показал проф. А. Ф. Лосев, в том, что единство знания и чувственности дано в «Пире» не как «застывшее» и «фиксированное», а как единство в становлении: Бессмертное и смертное, вечное и временное, идеальное богатство и реальная скудость, знание и чувственность, красота и безобразие — соединились здесь в одну цельную жизнь, в одно совокупное порождение, в один самостоятельный результат, в одно становящееся тождество [см. 28]. При этом, как подчеркнул А. Ф. Лосев, становление, о котором говорит «Пир», происходит главным образом в сфере знания [28, с. 400]: Эрос «Пира» — «Эрос» познавательного и созерцательного восхождения; поучение Диотимы — поучение о том, какой путь познания необходим для того, чтобы достичь интуиции прекрасного, а сама эта интуиция в значительной мере характеризуется как интуиция ума, интеллектуальная. Воспитание чувств, которым сопровождается познавательное восхождение, образует, если так можно выразиться, лишь сопутствующий «обертон». Становление, изображенное в «Пире», — становление знания. Сказанным анализ знания у Платона не ограничивается. Связь и единство знания и чувственности, данные в «Меноне» и в «Пире», Платон представляет с еще более высокой точки зрения — с точки зрения диалектики. Диалектика знанияДиалектические исследования Платона отнюдь не совпадают с тем, что он сам назвал «диалектикой», — с уже рассмотренным сведением видов к родам и с делением родов на виды. Это лишь формально-логический аспект диалектики Платона. Но у Платона имеется гораздо более широкое и существенное понятие о диалектике, связанное с его учением о знании, о бытии и об отношении между бытием и знанием. Понятие это раскрывается в ряде диалогов; введением в это понимание может служить конец шестой книги Платонова «Государства». Здесь излагается учение Платона об идее «блага», но речь идет не только о «благе». Мы уже коснулись выше этого учения, когда характеризовали объективный идеализм Платона как телеологический. Пришло время охарактеризовать его и как учение об отношении бытия к знанию. А именно: по Платону, идея «блага» не есть ни бытие, ни знание, а начало, которым порождалось бы и бытие, и знание. Платон поясняет свою мысль аналогией со зрением. Создатель чувств породил и силу видеть (чувство зрения), и силу быть видимым. Но чтобы увидеть, например, цвета, необходимо, чтобы к этим двум силам, или «родам», присоединился третий род — свет. Но свет исходит от Солнца. Хотя Солнце — не само зрение, оно есть его причина [см. Госуд., 507 D — 608 А и В]. Теперь применим сказанное о зрении к познанию. То самое значение, которое принадлежит благу «в мыслимом месте» по отношению к уму и по отношению к созерцаемому умом, принадлежит и Солнцу «в видимом месте» — по отношению к зрению и зримому. Душа познает, когда она направляется к тому, что озаряется истиной и сущим. Но если она находится в том, что покрыто мраком, она рождается и погибает, руководится мнением и тупеет. Именно это, доставляющее истинность познаваемому и сообщающее силу познающему, следует, по Платону, называть идеей блага и причиной знания и истины, поскольку она постигается умом. Считать свет и зрение солнцеподобным справедливо, но считать их самим Солнцем несправедливо. И точно так же признавать знание и истину благовидными справедливо, но считать которое-либо из них благом несправедливо. Ибо природу блага надлежит ставить и выше знания и выше истины [см. Госуд., VI, 508 Е — 509 А]. Рассматривая «идеи», философ может или рассматривать их реализацию в мире вещей, или, напротив, подниматься в мысли до их начала, пребывающего выше всякого знания. В первом случае душа использует «идеи» в качестве «гипотез», или «предположений»: разделяя род на виды, душа «принуждена искать… на основании предположений, пользуясь разделенными тогда частями как образцами и идя не к началу, а к концу» [там же, 510 В]. Это как бы путь вниз — от «идей» к вещам. Так поступают, «когда ваяют или рисуют: все это — тени и образы в воде. Пользуясь ими как образами, люди стараются усмотреть те, которые можно видеть не иначе, как мыслью» [там же, 511 А]. Род познаваемого, постигаемый только мыслью, Платон называет «мыслимым». В «мыслимом» имеются две «части». Для отыскания первой из них душа вынуждена основываться на предположениях и не доходит до начала, так как не может подняться выше предположений, но пользуется самими образами или подобиями, запечатлевающимися на земных предметах [см. Госуд., VI, 511 А]. И есть вторая часть мыслимого, второй случай рассмотрения «идей». В этом случае душа идет не к «концу», а, напротив, к «началу»: она сводит все «гипотезы» («предположения») к идее «блага», как к тому, что пребывает выше всякого знания и выше всех предположений. «Узнай же теперь, — говорит Платон, — и другую часть мыслимого… ее касается ум силою диалектики, делая предположения, — не начала, а в существенном смысле предположения, как бы ступени и усилия, пока не дойдет до непредположительного, до начала всего. Коснувшись же его и держась того, что с ним соприкасается, он, таким образом, опять нисходит к концу и уже не трогает ничего чувственного, но имеет дело с идеями через идеи, для идей и оканчивает на идеях» [Госуд., VI, 511]. Это понимание «блага» выводит мысль за пределы одного лишь познания в область диалектики. Платоновское «благо» — и знание, и бытие. По отношению к знанию и к бытию «благо» мыслится как совмещающее в себе противоположные определения. Оно имманентно по отношению к бытию и знанию, так как оно — их источник и основная их сила. В то же время оно запредельно по отношению к бытию и знанию. Виды знанияТак решается вопрос об отношении знания и бытия к «благу». Но в «Государстве» Платон развивает и детальную классификацию видов знания. Основное деление этой классификации — разделение на знание интеллектуальное и на чувственное. Каждая из этих сфер знания в свою очередь делится на два вида. Интеллектуальное знание делится на «мышление (nohsiV)» и на «рассудок (dianoia)». Под «мышлением» Платон понимает деятельность одного лишь ума, свободную от примеси чувственности, непосредственно созерцающую интеллектуальные предметы. Это та деятельность, которую Аристотель назовет впоследствии «мышлением о мышлении». Находясь в этой сфере, познающий пользуется умом ради него же. Под «рассудком» Платон понимает вид интеллектуального знания, при котором познающий также пользуется умом, но уже не ради самого ума и не ради его созерцаний, а для того чтобы с помощью ума понимать или чувственные вещи, или образы. Этот «рассудок» Платона — не интуитивный, а дискурсивный вид знания. В сфере «рассудка» познающий применяет интеллектуальные эйдосы только в качестве «гипотез», или «предположений». Рассудок, по Платону, действует между сферами мнения и ума и есть, собственно, не ум, а способность, отличающаяся от ума и от ощущений — ниже ума и выше ощущений. Это познавательная деятельность людей, который созерцают мыслимое и сущее, но созерцают его рассудком, а не ощущениями; в исследовании они не восходят к началу, остаются в пределах предположений и не постигают их умом, хотя исследования их по началу бывают «умными» (т. е. интеллектуальными). Чувственное знание Платон также делит на две области: на «веру» и «подобие». Посредством «веры» мы воспринимаем вещи в качестве существующих и утверждаем их в этом качестве. «Подобие» — вид уж не восприятия, а представления вещей, или, иначе, интеллектуальное действование с чувственными образами вещей. От «мышления» оно отличается тем, что в «подобии» нет действия с чистыми эйдосами. Но «подобие» отличается и от «веры», удостоверяющей существование. «Подобие (eikasia)» — некое мыслительное построение, основывающееся на «вере (pistiV)». С этими различиями у Платона тесно связывается различение знания и мнения. Знает тот, кто любит созерцать истину. Так, знает прекрасное тот, кто мыслит о самых прекрасных вещах, кто может созерцать как само прекрасное, так и причастное ему, кто не принимает причастное за самое прекрасное, а само прекрасное принимает за всего лишь причастное к нему. Мысль такого человека надо назвать «знанием (gnomh)». В отличие от знающего, имеющий мнение (doxa) любит прекрасные звуки, образы, но его ум бессилен любить и видеть природу самого прекрасного. Мнение не есть ни незнание, ни знание, оно темнее знания и яснее незнания, находясь между ними обоими [см. Госуд., V 478 С — D]. Так, о тех, которые усматривают многое справедливое, но самого справедливого не видят, правильно будет сказать, что они обо всем мнят, но не знают того, о чем имеют мнение. И напротив: о тех, которые созерцают само неделимое, всегда тождественное и всегда себе равное, справедливо сказать, что они всегда знают все это, но не мнят. В отличие от мнения, знание есть потенция, некий особый род существующего, характеризующий направленность; знание направляется к своему предмету, и всякая потенция, направляющаяся к одному и тому же и делающая одно и то же, называется той же самой в отличие от всякой, направленной на иное и делающей иное. В особый вид бытия и соответственно в особый предмет знания Платон выделяет математические предметы и математические отношения. В системе предметов и видов знания математическим предметам принадлежит место между областью «идей» и областью чувственно воспринимаемых вещей, а также областью их отображений, или изображений. «Идеи» постигаются посредством знания, и знание возможно только относительно «идей». Это развитие учения элейцев, которые утверждали, что истинно сущее бытие, и только оно одно постигается разумом; явления изменяющегося и подвижного мира могут восприниматься лишь чувствами, которые дают нам не достоверное, но в лучшем случае только вероятное, гипотетическое знание. В отличие от идей, математические предметы и математические отношения постигаются, согласно Платону, посредством размышления или рассуждения рассудка. Это и есть второй вид знания. Чувственные вещи постигаются посредством мнения. О них невозможно знание, их нельзя постигнуть посредством рассуждения, их можно постигнуть, и то недостоверно, лишь гипотетически. Размышление, направленное на математические предметы, занимает, по Платону, середину между подлинным знанием и мнением. Почему же математические предметы занимают такое положение? Дело в том, что, по Платону, математические объекты родственны одновременно и вещам, и идеям. Они, как идеи, неизменны, не зависят в своей сущности от отдельных экземпляров, представляющих их в чувственном мире. Например, сущность треугольника не зависит от того, какой частный конкретный треугольник мы станем рассматривать, эта сущность остается для любого треугольника одной и той же. Но вместе с тем, поясняет Платон, математики вынуждены прибегать для постижения своих предметов к помощи фигур, как это делает геометрия, а эти фигуры рисуются посредством воображения. Именно поэтому математическое знание не есть знание, совпадающее с тем, при помощи которого постигаются, идеи. Оно совмещает в себе части истинного знания с некоторыми частями мнения. 4. Диалектика Платона Разумное постижение истинно-сущих родов бытия или идей — совершеннейшее, по Платону, знание — Платон называет «диалектикой». Для Платона диалектика — это не логика только, хотя в ней есть и логический аспект; это не учение о познании только, хотя в ней есть и гносеологический аспект; это не учение о методе только, хотя в ней есть и аспект метода. Диалектика Платона — прежде всего учение о бытии, о родах истинно-сущего бытия или об идеях. Идеализм Платона, так же как и его теория познания и диалектика, имеет явно выраженный онтологический характер. «Идеи» Платона — не только понятия (хотя они имеют свой понятийный аспект), а прежде всего истинно-сущие роды бытия. В соответствии с этим «диалектика», как ее понимает Платон, — не только путь или метод познания, это прежде всего онтологические прообразы, образцы и причины вещей чувственного мира. Здесь изложенное выше понимание родов бытия, соответственно: «идей», должно быть существенно дополнено и даже исправлено. Как мы видели, «идеи» в сравнении с вещами чувственного мира были наделены у Платона признаками, которыми элеат Парменид характеризовал свое единое бытие: «идеи» вечны, не рождаются и не погибают, не изменяются, тождественны себе, неподвижны, безотносительны в своем бытии. Не должны ли мы сказать, что такое понимание природы «идей» не диалектическое, но, напротив, метафизическое и что если Парменид — отец древнегреческой метафизики, то Платон, несомненно, его продолжатель? И действительно, в ряде диалогов Платон развивает, бесспорно, метафизическую характеристику истинно-сущего бытия, или «идей». Однако в «Софисте» и в «Пармениде», а также в некоторых других диалогах Платон отступает от этой метафизики. В этих диалогах он стремится доказать, что высшие роды всего сущего — бытие, движение, покой, тождество и изменение — могут мыслиться только таким образом, что каждый из них и есть и не есть, и равен и не равен самому себе и пребывает в своей тождественности и переходит в свое «иное», в противоположное себе. Взаимопереход «идей»Когда философ характеризует истинно-сущее как неизменное, он еще не характеризует, по Платону, всей его сущности. В силу доказательств, развиваемых в «Софисте», должна быть отвергнута не только безусловная подвижность, но и безусловная неподвижность сущего. Как только сущее делается предметом познания, оказывается, что познаваться оно не может ни при условии, если сущее рассматривается в качестве движущегося, ни при условии, если оно рассматривается только как неподвижное. Кто познает, тот действует [см. Софист, 248 D — E]; то, что познается, испытывает действие. И действие и страдательное состояние предполагают изменение, а изменением, в свою очередь, предполагается движение. Кроме того, познание сущего предполагает разум, разум может быть мыслим только в душе; душа же, будучи живой, необходимо причастна к движению: «Поэтому, — рассуждает Платон, — для философа и для всякого, кто особенно ценит знание, по-видимому, совершенно необходимо не принимать неподвижной вселенной…» [Софист, 249 С — D]. Еще менее допустима, по Платону, точка зрения тех, «которые двигают сущее всеми способами» [там же]. Таких философов, по Платону, вовсе не следует слушать. Решение вопроса состоит в том, чтобы поступать подобно детям, которые делают, «чтобы все было неподвижным и двигалось», т. е. «признавать бытие и вселенную вместе и недвижимой и подвижной» [там же, 249 D]. Но это решение приводит, по Платону, к новому противоречию. Кто утверждает, что движение и покой равно существуют, тот должен или признать, что движение и покой тождественны с бытием, а потому тождественны между собой, или признать, что бытие хотя и обнимает собой движение, и покой, но отличается от них обоих. В первом случае получается нелепый вывод, будто движение должно остановиться, а покой двигаться. Во втором случае бытие, будучи отличным и от движения и от покоя, не должно ни двигаться, ни покоиться. Но «что не движется, как тому не покоиться?» и «что не покоится, как, опять-таки, тому не двигаться?» [там же,250 D]. Разрешение противоречия Платон дает в «Софисте» — в учении о родах сущего [см. там же, 254 D — 258 В]. Движение несовместимо с покоем и покой с движением. Но так как движение существует и покой также существует, то бытие должно быть совместимо и с движением, и с покоем. Итак, имеются три рода: бытие, движение и покой. Каждый из этих трех родов есть одновременно и тождественное — по отношению к самому себе и иное — по отношению к остальным родам. Так, движение и тождественно — по отношению к самому себе и в то же время является иным — по отношению к покою. Отсюда возникает новый вопрос — об отношении родов тождественного и иного к родам покоя и движения. Совпадают ли эти роды между собой или же тождественное и иное должны быть отличаемы от родов движения, покоя и бытия? Платон доказывает: тождественное и иное должны быть отличаемы от покоя и движения. И о покое, и о движении, так же как и о всяком другом роде, одинаково говорится, что они и тождественны — по отношению к себе и суть иное — по отношению к другому. Но так как покой и движение — противоположности и так как все то, что высказывается о противоположностях, не может быть ни каждой из этих противоположностей в отдельности, ни той и другой вместе, то покой и движение должны отличаться от тождественного и иного. Итак, тождественное отличается от покоя, не говоря уже об очевидном отличии его от движения. Но оно отличается и от бытия. Если бы тождественное не отличалось от бытия, то, утверждая, что покой существует так же, как существует и движение, мы должны были бы признать, что покой тождествен с движением. Но если тождественное отличается не только от покоя и движения, но также и от бытия, то это значит, что в тождественном мы должны видеть четвертый и самостоятельный род сущего наряду с родами покоя, движения и бытия. То же самое доказывается и относительно иного. Иное отличается не только от тождественного и от покоя. Иное отличается также и от бытия. В самом деле: иное всегда относительно и только относительно [см. Софист, 255 D]. Напротив, к природе бытия принадлежит и безусловное, и относительное. Поэтому иное образует пятый род сущего, самостоятельный по отношению к родам бытия, покоя, движения и тождественного. В учении Платона об ином чрезвычайно важно отметить, что, по Платону, все первые черты рода сущего — бытие, покой, движение, тождественное — принадлежат, или причастны, к роду иного. Так, движение есть иное не как движение, а лишь поскольку движение не есть покой, не есть бытие, не есть тождественное и т. д. В качестве иного по отношению ко всем остальным каждый род сущего не есть остальные роды. Движение не есть покой. Однако в то же время оно есть, поскольку оно как существующее движение причастно к бытию. Движение не есть тождественное. Однако в то же время, будучи самим собой, оно причастно тождественному и в этом смысле есть тождественное. Движение и есть и не есть тождественное. Оно одинаково причастно и тождественному и иному. Будучи иным в отношении к покою и тождественному, движение есть иное и в отношении к самому иному. Поэтому движение одновременно и есть иное и не есть иное. Будучи иным и по отношению к бытию, движение в этом смысле не есть бытие или, иначе, есть небытие. Оно есть одновременно и бытие и небытие: бытие — поскольку причастно бытию; небытие — поскольку причастно иному и, стало быть, есть иное, чем бытие, т. е. небытие. Но и все остальные роды сущего должны быть характеризованы, по Платону, как такие, каждый из которых одновременно есть и бытие, поскольку он причастен бытию, и небытие, т. е. иное, чем бытие, поскольку он причастен иному. Не избегает этой участи и само бытие: так как бытие есть иное, чем покой, движение, тождественное и чем само иное, то оно не есть все эти роды и, стало быть, будучи бытием, есть в то же время и небытие [Софист, 257 А]. При этом Платон поясняет, что небытие, о котором у него идет речь при обсуждении родов сущего и отношений между ними, означает отнюдь не нечто совершенно противоположное бытию. Небытие есть лишь иное» чем бытие. Кто говорит, будто нечто не есть великое, тот не высказывает этим, будто это невеликое противоположно великому, т. е. ничтожно: он хочет сказать то, что оно есть нечто иное, чем великое. В этом смысле, например, «некрасивое» есть особый вид «иного», существующий так же, как существует «красивое» [там же, 257 D — Е]. С этой точки зрения «некрасивое» есть одно существующее, которое мы противопоставляем другому существующему [там же, 257 Е]. Некрасивое, невеликое, несправедливое существуют так же, как существуют красивое, великое и справедливое. Так как иное есть род существующего, то все частные разновидности иного также должны быть существующими. Область иного беспредельна. Каждое отрицание понятия, означающего известный предмет бытия, очерчивает беспредельную область иного, которая противопоставляется как один вид существующего отрицаемому понятию как другому виду существующего. Таким образом, «существующее, без всякого противоречия, становится тысячи тысяч раз не существующим» [Софист, 259 В]. Противоречия здесь не получается именно потому, что всякая частная область иного рассматривается Платоном как нечто существующее. Иное, чем бытие, так же существует, как и само бытие. Но так как иное, чем бытие, есть небытие, то получается, что небытие существует так же, как и бытие. Итак, небытие существует. Положение это выводится Платоном из необходимости, с какой бытие переходит в свое иное. Самый переход этот трактуется у Платона не только как необходимый для мысли, поскольку бытие мыслится, но в силу соответствия между видами познания и самими предметами познания как выражающий природу самого бытия. В то время как в «Софисте» излагается «диалектика» пяти высших родов сущего, в «Пармениде» развертывается «диалектика» единого и многого. По развиваемому здесь учению, бытие, поскольку оно рассматривается само по себе, едино, вечно, тождественно, неизменно, неподвижно, бездейственно и не подлежит страданию. Напротив, то же бытие, поскольку оно рассматривается через свое иное, множественно, возникает, содержит в себе различия, изменчиво, подвижно и подлежит страданию. Поэтому, согласно полному определению своей сущности, бытие одновременно и едино и множественно, и вечно и преходяще, и неизменно и изменчиво, и покоится и не покоится, и движется и не движется, и действует и не действует, и страдает и не страдает. Все вторые в каждой паре определения высказываются как определения иного. Но так как иное есть иное по отношению к бытию, или иное бытия, то все эти определения оказываются определениями также и самого бытия. Итак, бытие как по самой своей природе, так и по своему понятию необходимо заключает в себе противоположные определения. Учение это представляло несомненное отступление от метафизики неизменных и тождественных «идей». Платоновская «диалектика» бытия и небытия, единого и многого, тождественного и иного, покоя и движения как непосредственно, так и через переработку неоплатоников III–V вв. н. э. оказала в XIX в. несомненное влияние на разработку диалектики Гегелем. Закон непротиворечияВажную особенность диалектики Платона составляет то, что противоположные определения сущего, развиваемые им, отнюдь не означают отказа от принципа непротиворечия. Хотя Платон доказывает, что одно и то же бытие едино и множественно в одно и то же время, он поясняет при этом, что «единым» и «множественным» оно оказывается в различных отношениях: бытие «едино», поскольку оно рассматривается в отношении к самому себе, к своей тождественной основе. И то же самое бытие «множественно», поскольку оно рассматривается в другом отношении — в отношении к своему «иному». И все другие определения бытия у Платона, все они мыслятся как противоположные друг другу, но не как противоречащие в одном и том же отношении. Особенно ясно это платоновское понимание противоположности выступает в замечательном месте четвертой книги «Государства» [Госуд., 436 В — 437 А]. Здесь обсуждается, возможно ли, чтобы противоположности относились к одному и тому же предмету, рассматриваемому в одно и то же время, в одном и том же отношении. «Возможно ли, — спрашивает здесь Платон, — чтобы одно и то же стояло и двигалось в отношении к одному и тому же» [Госуд., 436 С]. Чтобы ответить на этот вопрос, Платон считает необходимым предварительно устранить одно недоразумение. Если бы, рассуждает Платон, кто-нибудь, видя, что человек стоит и в то же время движет руками и головой, стал утверждать, будто человек этот «стоит и вместе движется», то с утверждающим это нельзя было бы согласиться, но следовало бы сказать, что в таком человеке «одно стоит, а другое движется» [там же]. Согласиться с утверждающим нечто подобное так же невозможно, как невозможно согласиться с человеком, который стал бы, подшучивая над своим собеседником, лукаво утверждать, будто кубик или другое какое-либо вертящееся на своей оси тело вместе и стоит и движется, когда, уткнувшись в одно место окончанием своей оси, тело это вращается вокруг своей оси. Согласиться с этим, рассуждает Платон, невозможно, и неверно, будто такие вещи «вращаются и не вращаются в отношении к одному и тому же» [там же, 436 D — E]. О таких вещах следовало бы сказать, «что в них есть и прямое и круглое и что в отношении прямоты они стоят — ибо никуда не отклоняются, — в отношении окружности же совершают круговое движение» [там же, 436 E]. По Платону, кто поймет несостоятельность утверждения, приписывающего одному и тому же предмету свойства, противоречащие друг другу в одном и том же отношении, тот уже не впадет в подобное недоразумение и уже не станет уверять, «будто что-нибудь, будучи тем же в отношении к тому же и для того же, иногда может терпеть или делать противное» [Госуд., 437 А]. Вывод этот, как подчеркивает сам Платон, относится не только к некоторым частным случаям противоречащих утверждений. Вывод этот — общая предпосылка, для всех возможных случаев, всеобщий онтологический и логический закон. «Чтобы через рассуждение о всех таких недоумениях и чрез доказывание их несправедливости не подвергаться нам необходимости удлинять свою речь, — рассуждает Платон, — мы примем это положение за верное и будем двигаться вперед, условившись, что даже в случае, если бы что-либо показалось нам иначе, а не так, мы будем решать все, исходя из этого положения» [там же]. Положение, о котором здесь идет речь, есть закон противоречия, или закон немыслимости противоречия. В качестве закона он означает невозможность и недопустимость мыслить противоречащие утверждения об одном и том же предмете, в одно и то же время, в одном и том же отношении. В «Федоне» Платон разъясняет, что не только «идеям», но и качествам чувственных вещей принадлежит свойство, по которому относительно этих вещей не могут быть одновременно утверждаемы противоречащие определения. «Мне кажется, — поясняет Платон, — что не только великое само по себе никогда не желает быть вместе великим и малым, но великое наше и не принимает малого и не хочет превосходить малого. Тут одно из двух: великое или убегает или удаляется, когда подходит противоположное ему малое, или исчезает, когда последнее уже подошло» [Федон, 102 D — Е]. Так же и все другие противоположности, оставаясь тем, чем были, не хотят сделаться или быть противоположными другому, но в этом состоянии или устраняются или исчезают. А несколько ниже в ответ на слова одного из собеседников» напомнившего Сократу, что в прежних рассуждениях Сократ допускал возможность происхождения большего из меньшего и меньшего из большего и вообще противоположного из противоположного, Сократ, устами которого здесь говорит сам Платон, разъясняет, в чем состоит отличие его теперешнего тезиса, запрещающего совместимость противоречий, от прежних рассуждении. «Тогда говорилось, — поясняет Сократ, — что противоположная вещь возникает из противоположной, а теперь, что противоположное — само по себе — ни в нас, ни в природе никогда не может сделаться противоположным самому себе» [Федон, 103 В]. Диалектика и чувственный мирСовмещение противоположностей, по Платону, недопустимо в определениях мысли, которые должны рассматриваться в качестве тождественных себе и относительно которых нельзя мыслить совместимость противоречащих утверждений. Напротив, чувственные вещи могут переходить в противоположное себе. Чувственный мир есть область, в которой «противное происходит из противного, — если только имеется что-нибудь ему противоположное, — как например, похвальное — постыдному, справедливое — несправедливому» и т. д. [там же, 70 D]. «Не необходимо ли, — так заключает Платон это свое рассуждение, — чтобы вещи, по отношению к которым есть нечто противоположное, происходили не из чего более, как из того, что им противоположно?». По Платону, в предметах чувственного мира не только противоположное переходит в противоположное, но и в одной и той же вещи в одно и то же время совмещаются противоположные качества, притом не случайно, а необходимым образом. «В этих именно прекрасных предметах, — спрашивает Платон, — не проявляется, думаешь, ничего безобразного? В этих справедливых — ничего несправедливого? В этих благочестивых — ничего нечестивого?» [Госуд., 479 А]. «Нет, — отвечает философ, — они по необходимости являются как-то и прекрасными и безобразными» [там же]. Но противоположности могут сосуществовать и совмещаться — таково убеждение Платона — только для мнения, только для низшей части души, направленной на познание чувственных предметов. Напротив, для разумной части души, направленной на познание истинно-сущих «видов», или «идей», верховным законом будет закон, запрещающий мыслить совмещение противоположных утверждений об одном и том же предмете: «Не сказали ли мы, — поучает Платон, — что одному и тому же невозможно мыслить противоположное об одном и том же?» [Госуд., 602 Е]. «Да и правильно сказали. Следовательно, — заключает Платон, — часть души, имеющая мнение, противоположное мере, не одна и та же с частью ее, мыслящей согласно мере» [там же, 603 А]. Эта часть души, допускающая совмещение противоречащих определений, проявляется в нас, по Платону, например, когда, приступая к измерению и обозначая нечто как большее, меньшее или равное сравнительно с другим, душа представляет себе «противоположное в отношении одних и тех же вещей» [там же, 602 Е]. Но, будучи недопустимым и немыслимым в отношении к истинно-сущему, противоречие, возникающее при известных условиях в мысли, есть, по Платону, ценный стимул познания и исследования. Противоречие есть для Платона не to, что может быть усмотрено познанием в самих вещах, а то, что, появившись в мысли, побуждает мысль к познанию истинно-сущего. Мы уже знаем, что, по учению Платона, душа всеведуща. Будучи бессмертной и часто рождаясь и воплощаясь, душа все видела — и здесь, и в преисподней, так что нет вещи, которой она не знала бы [см. Менон, 81 С]. Но чтобы извлекать из души погребенные в ней и позабытые ей знания, необходимо вызвать душу к размышлению. Однако, по Платону, впечатление или мысль, не затронутые противоречием, не могут побудить душу к размышлению. Сделать это, вызвать душу к размышлению может только такое впечатление или такая мысль, которые заключают в себе противоречие. «Не вызывает на размышление, — говорит Платон, — то, что не переходит в противоположное ощущение, тогда как то, что переступает в противоположное ощущение, то есть когда ощущение говорит об одном нисколько не меньше, чем о противоположном, я считаю вызывающим на размышление» [Госуд., 523 С]. Искусство побуждать к размышлению и исследованию посредством указания на противоречия, заключающиеся в обычных поспешно составленных мнениях о различных вещах, и есть, согласно Платону, искусство «диалектики». Сопоставляя мнения и сводя их в своих исследованиях воедино, мастера диалектики «показывают, что эти мнения находятся между собой в противоречии… в одно и то же время, о тех же самых вещах, в том же самом отношении и тем же самым образом» [Софист, 230 В]. Именно потому, что мыслить противоречивые утверждения об одном и том же, в одно и то же время, в одном и том же отношении недопустимо, обнаружение подобных противоречий в мнениях о рассматриваемом предмете изобличает мнимого знатока предмета в невежестве. Изобличенный испытывает мучительное недоумение. Но вместе с тем желание освободиться от этого тягостного состояния побуждает обличенного в невежестве напрячь все свои силы. В результате его усилий знания, погребенные в душе, начинают в нем проясняться. Сначала они «вдруг возбуждаются у него, как сновидение» [Менон, 85 С]. Если же диалектик «начнет часто и различным образом спрашивать о том же самом предмете, то… в конце он, без всякого сомнения, будет знать о нем ничем не хуже другого» [там же]. Учение о противоречиях в мыслях о предметах, как о средстве пробуждения дремлющих сил разума, чрезвычайно характерно для платоновского понимания «диалектики». Но вместе с тем учение это как нельзя яснее, доказывает, что платоновское понимание противоречия отнюдь не есть «логика противоречия», осуществленного или допущенного в бытии и познании. Значение противоречия у Платона отрицательное. Противоречие, по Платону, — чисто отрицательное условие познавательной деятельности. Оно не столько раскрывает содержание усматриваемой истины, сколько есть «сигнал о бедствии», заставляющий мысль отвратиться от мнимого знания и обратиться к знанию истинному. Противоречие есть знак, указывающий не на обладание истиной, а напротив, на пребывание мысли в сфере мнения, заблуждения, неистинного. Но вместе с тем «диалектика» — путь, или движение, мысли через неистинное к истинному! Именно поэтому, наряду с учением о противоречиях как о всего лишь отрицательном условии истинного знания, Платон иногда определяет «диалектику» и как положительную, более того, как верховную науку, ведущую от осознанного противоречия и от осознанной сбивчивости в мышлении к верховному постижению истинно-сущего. Понятая в этом смысле как наука, ведущая к познанию истинно-сущего, «диалектика» провозглашается у Платона даже первой и высшей из всех наук, завершающей все дело знания. «Не кажется ли тебе, — поучает платоновский Сократ, — что диалектика, как некое увенчание наук, стоит у нас наверху, и что никакая другая наука, по справедливости, не может стоять выше ее: ею должны завершаться все науки» [Госуд., 534 Е]. «Все другие искусства, — разъясняет Платон, — имеют в виду либо человеческие мнения и пожелания, либо происхождение и состав, либо обработку того, что происходит и составляется» [там же, 533 В]. Если же есть и такие науки, как геометрия и примыкающие к ней, которые, как мы видим, «как бы грезят о сущем», то науки эти, по Платону, не в состоянии усматривать его наяву, так как, пользуясь предположениями, науки эти оставляют свои предположения неподвижными и не могут дать им основания [там же, 533 С]. Только диалектический метод один идет, по Платону, правильным путем, «возводя предположения к самому началу — с тем, чтобы утвердить их». Поскольку Платон рассматривает «диалектику» как положительную и даже как верховную науку, он видит в ней лишь метод восхождения от данных предположений ко все более и более высоким основаниям, пока наконец ум не дойдет до наивысшего и уже не предполагаемого основания, не сводимого ни к чему более высокому. Это движение от данных в науке предположений к их непредполагаемой первооснове есть движение, совершающееся в чистом мышлении, отрешенном от всего чувственного. Только тот окажется у самой цели мыслимого, кто приступает к диалектике без всяких чувств, кто стремится к сущему самому по себе через посредство ума и не отступает от диалектики, пока не постигнет своим мышлением самое благо [см. Госуд., 532 А]. Это нечувственное восхождение по ступеням ума до непредполагаемой основы есть первая половина диалектического пути. Дойдя при посредстве предположений до непредполагаемого «начала всего», коснувшись этого начала и придерживаясь того, что с ним соприкасается, ум начинает совершать вторую половину своего пути. А именно: он «вновь нисходит к концу и уже не прикасается ни к чему чувственному, но имеет общение лишь с «видами» через «виды», для «видов» и заканчивает «видами» [Госуд., 511 В — С]. Разъяснение Платона проливает свет на логическую природу платоновского «диалектического» пути, или метода. Из этого двойного определения «диалектики» как восхождения от предположений к их умопостигаемой непредполагаемой основе и обратного нисхождения — по ступенькам «видов» (эйдосов) к исходным предположениям — видно, что «диалектический метод» Платона есть, в сущности, метод последовательного сведения понятий в высшие роды и разделения родов на входящие в них низшие видовые понятия. Первая половина задачи «диалектического», в платоновском смысле, исследования состоит в том, чтобы, «сосредоточиваясь на одной идее, вести к ней все рассеянное во многих местах» и чтобы, «определяя каждый вид в отдельности, стало ясным, о чем хотят всегда поучать» [Федр, 265 D]. Другими словами, это задача однозначного, точно фиксированного определения «вида». Вторая половина той же задачи состоит в том, чтобы «быть в состоянии в обратном направлении расчленять идею на составные, согласные с их природой, части и не пытаться искажать ни одной части — по образцу плохого повара» [там же, 265 Е]. В «Федре» также Сократ поясняет, что «диалектиками» он называет именно тех, кто способен «обозревать разом единое и многое», разделять на части и сводить в одно целое [там же, 266 В]. А несколько ниже Сократ поучает Федра, что овладеть искусством красноречия не может тот, кто не в состоянии «определять все в соответствии с ним самим», а определив, «снова разделять его на «виды» до неделимого» [там же, 277 В]. Подробнее метод восхождения от низших понятий к высшим характеризуется в «Филебе». По разъяснениям, данным в этом диалоге, «мы всегда должны полагать одну идею относительно каждой вещи и соответственно этому вести исследование: в заключение мы эту идею найдем. Когда же схватим ее, нужно смотреть, нет ли, кроме нее одной, еще двух или трех идей или какого иного числа, а затем с каждым из этих единств поступать таким же образом до тех пор, пока первоначальное единство не предстанет взору не просто как единое и беспредельно многое, но как количественно определенное» [Филеб, 16 С — D]. Что касается обратного нисхождения от выставленного понятия к низшим, то Платон связывает этот метод с методом проверки предположений, или «гипотез». Состоит эта проверка в том, что «диалектик» рассматривает, что вытекает из принятого им начала, а также исследует, согласны или несогласны между собой следствия, вытекающие из этого начала [см. Федон, 101 D]. При этом Платон широко пользуется дихотомией, т. е. таким расчленением объема понятия на две части, при котором исследуемый предмет может оказаться лишь в одной какой-либо из получившихся половинок объема, между которыми существует отношение противоречащей противоположности. Отбросив ту, в которой предмет не может быть найден, «диалектик» делит оставшуюся половину объема вновь на две части, затем вновь исключает ту, в которой предмет не может оказаться. Этот постепенный спуск по лестнице дихотомии продолжается до тех пор, пока исследование не дойдет, до уже неделимой части объема, в которой и должен быть искомый предмет. Образцы применения дихотомии Платон дал в «Софисте», в «Федре», в «Политике» и в ряде других диалогов. Все эти разъяснения Платона ясно обнаруживают, насколько далека платоновская «диалектика» от современной. «Диалектика» Платона — важный этап в развитии логики: в развитии учения о категориях, о родах и видах понятий, о методах определения, индукции и разделения понятий, но она ни в малейшей степени не есть учение о развитии через противоположности. Система Платона не знает вовсе никакой истории, никакого развития, кроме цикличности и повторения уме бывшего. Таковы полумифические, полуастрономические учения Платона о круговращении неба, о падении душ на Землю, о перевоплощениях душ. Однако, заговорив об этом, мы подошли уже к космологии Платона. 5. Теория «идей», космология и пифагорейское учение о числах Учение Платона об «идеях» не оставалось одним и тем же, но в течение долгой жизни Платона развивалось и изменялось. Важным этапом в развитии Платона оказалось сближение его с пифагорейцами. Математические и космологические учения пифагорейцев, таких, как Архит и Филолай, несомненно, стали известны Платону и должны были привлечь его внимание. В позднем диалоге Платона «Тимей», посвященном вопросам космологии, Платон прямо вкладывает излагаемое им космологическое учение в уста пифагорейца. Согласно этому учению мир есть живое существо, имеющее форму шара. Как живое существо, мир имеет душу. Душа — не в мире, как его «часть», а окружает весь мир и состоит из трех начал: «тождественного», «иного» и «сущности». Начала эти — высшие основания «предельного» и «беспредельного» бытия, т. е. бытия идеального и материального. Они распределены согласно законам музыкальной октавы — в кругах, увлекающих небесные светила в их движениях. Окруженное со всех сторон мировой душой, тело мира состоит из элементов земли, воды, огня и воздуха. Элементы эти образуют пропорциональные соединения — по законам чисел. Круг «тождественного» образует круг неподвижных звезд, круг «иного» — круг. планет [см. Тимей, 36 В]. И звезды и планеты — существа божественные, мировая душа одушевляет их, так же как и остальной мир [см. там же, 37 D]. Так как элементы земли, воды, огня и воздуха телесны, то они, как геометрические тела, ограничены плоскостями. Форма земли — куб, воды — икосаэдр, огня — пирамида, воздуха — октаэдр. Небо украшено по образцу додекаэдра. Жизнью мировой души правят числовые отношения и гармония. Мировая душа не только живет, но и познает. В своем круговом возвратном движении она при всяком соприкосновении с тем, что имеет сущность, свидетельствует своим словом о том, что с чем тождественно, что от чего отличается, а также где, когда и каким образом всему бывающему доводится быть — по отношению к вечно неизменному и по отношению к другому бывающему. Слово этого свидетельства одинаково истинно — как по отношению к «иному», так и по отношению к «тождественному». Когда оно относится к чувственному, возникают твердые истинные мнения и верования. Когда же оно относится к разумному, тогда мысль и знание необходимо достигают совершенства. Душа человека родственна душе мира: в ней — подобная гармония и подобные же круговороты. Сначала она жила на звезде, но была заключена в тело, которое стало для нее причиной нестройности [см. Тимей, 41 D]. Цель человеческой жизни — восстановление первоначальной природы. Достигается эта цель изучением круговращений небес и гармонии. Орудием для достижения этой цели служат наши чувства: зрение, слух и т. д. К той же цели ведет и способность речи и музыкальный голос, служащий слуху и через слух — гармонии. Движения гармонии родственны круговращениям души. В «Тимее» излагается фантастическое учение о вселении человеческих душ в тела птиц и зверей. Порода животного, в которое вселяется душа, определяется нравственным подобием человека тому или иному виду живых существ. Достигнув очищения, душа возвращается на свою звезду. Влияние пифагорейцевСам Платон удостоверяет это влияние в своем «Филебе». «Древние. — говорит он, — которые были лучше нас и обитали ближе к богам, передали нам сказание, что все, о чем говорится, как о вечно сущем, состоит из единства и множества и заключает в себе сросшиеся воедино предел и беспредельность» [Филеб, 16 С]. Из этого строения сущего вытекает способ его познания. А именно: «Мы всегда должны полагать одну идею относительно каждой вещи и соответственно этому вести исследование: в заключение мы эту идею найдем» [там же, 16 С — D]. Затем необходимо смотреть, не существует ли, кроме нее одной, еще двух или трех идей или какого другого числа, и затем «с каждым из этих единств поступать таким же образом до тех пор, пока первоначальное единство не предстанет взору… как количественно определенное» [там же, 16 D]. Идею же беспредельного можно прилагать ко множеству не непосредственно после единства, а лишь «после того, как будет охвачено взором все его число, заключенное между беспредельным и единым…» [там же, 16 D]. Напротив, современные мудрецы непосредственно после единства помещают беспредельное, и потому промежуточные члены ускользают от них. Здесь Платон говорит о пифагорейцах как о родоначальниках метода «диалектики» в смысле искусства различать роды, виды и устанавливать их субординацию. Действия над понятиями связаны у пифагорейцев с их учением о числах. Все познаваемое, согласно их взгляду, имеет число и без числа не может быть ни мыслимым, ни познаваемым. Число, в свою очередь, делится на два рода: род четных и род нечетных чисел. Кроме них, существует смешанный род — число четно-нечетное. Каждый из этих родов делится на виды, а эти виды — также на принадлежащие им виды. Близость свою к пифагорейцам Платон отмечает и в «Политике», но тут же он и осуждает пифагорейцев за то, что они не умеют правильно применять найденную ими истину. По Платону, пифагорейцы не умеют исследовать вещи, методически разделяя их на роды. Они сводят в единство различные «вещи» (например. измерение количеством и оценку сообразно с целью), или разделяют вещи не на их действительные части. Но истинный метод, по Платону, предполагает умение сочетать двоякое: при усмотрении родового сходства не упускать из виду видовые различия, а при рассмотрении видовых различий неустанно вести исследование до того, когда они будут включены в пределы своего рода. «Идеи» Платона и «числа» пифагорейцев — прообразы закономерности, по которой все свершается в мире, а также прообразы воплощенных в вещах типов. Но в отличие от пифагорейцев, у Платона не «число», а «идея» — единое в многообразии, одновременно причина и цель, сообщающая многому общий характер. «Идея», а не «число» — причина порядка, связь вечно постоянного мирового строя. «Числа» — как бы понятийный посредник между «идеями» и вещами. Всеопределяющая роль чисел, согласно учению пифагорейцев, так велика, что сами вещи для них — только «подражания числам». Всеопределяющая роль «идей», по Платону, так велика, что вещи он объявил «подражаниями идеям». В поздний период своего развития Платон пришел к тому, что отождествил свои «идеи» с «числами» пифагорейцев. Сведя все существующее к «числам», пифагорейцы выделили в сущем предел и беспредельное как его основные и всеопределяющие противоположности. «Предел» они характеризовали как начало доброе, мужское, разумное и неподвижное, «беспредельное» — как начало дурное, женское, неразумное и подвижное. В сходном воззрении Платон исходит из мысли, будто вселенная изначально образована необходимостью, которая подчинилась разумному убеждению [см. Тимей, 48 А и 28 А]. Поэтому Платон говорит отдельно о причинах двоякого рода: о тех, которые совместно с умом создают прекрасное и доброе, и о тех, которые, будучи лишены ума, производят всякий раз без порядка что придется. Что касается необходимости, то в плане учения о мире [там же, 46 Е] Платон сближает ее с пространством и называет ее, как и пространство, «кормилицей происхождения»: необходимость, поясняет он, «есть вид блуждающей причины, без порядка двигающаяся и сотрясаемая, подкладка и приемница происхождения, как бы его кормилица, вечно сущий род пространства… доставляющий седалище всему, что имеет происхождение, но сам постигаемый без посредства чувств каким-то незаконнорожденным рассуждением и едва вероятный» [там же, 52 Е, 49 А, 52 А — В]. Роль, которую у пифагорейцев беспредельное играет относительно разнообразия существующих вещей, в философии Платона играет относительно них «кормилица происхождения». Многообразие вещей — результат ограничения и определения пустого пространства. Элементы физического мира — огонь, вода, воздух — представляют каждый в отдельности пустое пространство, ограниченное плоскостями, состоящими из треугольников. Из смешанных между собой видов треугольников возникли беспредельная пестрота и беспредельное множество вещей природы. В пространственных определениях мы представляем себе не только все множество вещей природы, но даже вечные роды сущего. Такой способ представления внушает нам «кормилица происхождения». Именно потому, что мы взираем на нее, нам грезится, будто, всякое бытие необходимо должно быть в каком-нибудь месте и занимать известную часть пространства и будто то, чего нет ни на земле, ни в небе, не существует никоим образом. И хотя это представление — только наша греза, греза эта необходима, не имеет начала и вечна, как необходима, безначальна и вечна сама ее причина. Поэтому истинно-сущая природа совмещает в себе единство и двойственность: она есть и неизменное, тождественное себе бытие и одновременно отличное от него подобие этого бытия в изменчивом, нетождественном мире вещей. Как отличающаяся от бытия «кормилица происхождения» она есть небытие, но как присущая бытию есть сущее небытие. Тождественное себе бытие — «идея», начало идеальное, «иное», или вечно сущее пространство, — начало телесное. Наконец, имеется близость между Платоном и пифагорейцами также и в их учении о начале, посредствующем между идеальной и вещественной сферами. У пифагорейцев — средний Космос, область правильного движения; он посредствует между горним Олимпом, местопребыванием чистых стихий, и дольним Ураном — местом становления, любящего перемены. У Платона посредствующее начало — мировая душа, пребывающая между неизменным миром идей и подвижным, неспокойным миром, или «морем» чувственных вещей. Платоновская мировая душа посредствует между идеальным и телесным мирами, а также осуществляет начало движения, подчиненного мере. У пифагорейцев аналогом учения Платона о мировой душе является их астрономическое и вместе с тем философское учение о «центральном огне». Этот огонь, идущий от центра мира, порождает небесные светила, окружает мир и есть причина порядка Вселенной. И у Платона душа мира направляется из центра, окружает весь мир, есть начало порядка и закономерного строя; от нее получают жизнь небесные светила. Даже ход образования мировой души имеет соответствие в учении пифагорейцев о числах. 6. Критика учения об «идеях» в «Пармениде» и «Софисте» Платона Учение Платона об «идеях» не только подверглось изменениям, приблизившим его к учению пифагорейцев о числах. В диалогах «Пармениде», «Филебе» и «Софисте» Платон подвергает выработанное им самим учение об «идеях» суровой критике. Учение это было многогранным; одновременно в нем совмещались аспекты онтологический, космологический, телеологический, этический, гносеологический и логический. Во всех этих аспектах «идея» Платона выступает как бестелесная, постигаемая только умом причина, через причастность к которой только и существуют вещи чувственного мира, — как прекрасный образец всех вещей; как цель, к которой вещи стремятся; как понятие об общей сущности вещей или как то, что, если отправляться от отдельных многочисленных и многократных ощущений, сказывается о виде, как о едином для многого. В названных только что трех диалогах Платон выдвигает ряд доводов, говорящих или о сомнительности, или прямо о невозможности принять это учение. Некоторые из этих доводов предвосхищают знаменитые возражения, которые ученик Платона Аристотель высказал впоследствии против платоновской теории «идей». Основное сомнение возникает у Платона прежде всего по вопросу о самой возможности существования «идей» с теми их свойствами, которые выяснены выше. Но даже если мы допустим существование подобных «идей», возникает вопрос об их отношении к вещам. А именно: придется или принять, будто единая и вечная идея как бы раздроблена, разделена, рассеяна в бесчисленном множестве порождаемых ею возникающих и погибающих вещей, или, что еще хуже, допустить, что, находясь в вещах, идея целиком находится и вне себя и в самой себе, будучи при этом тождественной себе. [13] На возникшие таким образом вопросы Платон ранее отвечал ссылкой на то, что «идеи» якобы «участвуют» в вещах, «причастны» к вещам. Но теперь этот ответ уже не удовлетворяет его, как он впоследствии не удовлетворит и Аристотеля. Допустим, что каждая вещь есть то, что она есть, вследствие своего «участия» в одноименной ей «идее». Тогда необходимо представляются две возможности: или идея должна целиком сполна заключаться в каждой из вещей, подводимых под эту идею, или каждая вещь должна заключать в себе только часть своей «идеи». Но, по Платону, невозможно ни то, ни другое. Во-первых, «идея» не может заключаться в каждой отдельной вещи. Будь это так, то единая «идея» должна была бы одновременно существовать в различных местах. Во-вторых, «идея» не может присутствовать в одноименной с ней вещи также и частично. При последнем допущении «идея» окажется делимой и, следовательно, вразрез со своим определением будет уже не единой. Кроме того, если каждая вещь, например, велика вследствие того, что имеет в себе часть того, что велико само по себе, то получается нелепый результат: все великое будет велико вследствие участия в том, что меньше великого, так как часть меньше своего целого. Таким образом, «идея» не может заключаться в вещах ни целиком, ни некоторой своей частью. Но это значит, другими словами, что вещи не могут быть «причастными» своим «идеям», или «участвовать» в них [см. Парменид, 130 А — 131 Е]. Однако невозможно представить себе не только бытие «идей», но и способ, которым ум может дойти до их познания. Теория «идей» основывается на том, что при рассматривании сходных вещей в уме возникает общий для всех них образ, или идея. Однако если мы сравним эту идею с вещами, образом которых она является, то, так как между этими вещами и их идеей существует сходство, необходимо должна возникнуть новая идея — общая для вещей и для их первой идеи, далее — еще новая идея для первых двух и соответствующих им вещей и т. д. до бесконечности. Но если это так, то получается, что для каждой вещи должна существовать уже не только одна-единственная идея, как это утверждала теория, а бесконечное множество идей. Это и есть знаменитое возражение против теории «идей», которое впоследствии повторит против Платона Аристотель и которое получит название «третий человек». Парадоксальность теории «идей» как будто устраняется, если предположить, что идеи — только наши мысли и что они могут существовать только в нашем уме. Однако эта оговорка не спасает дела. По Платону, мысль — всегда мысль о чем-нибудь существующем. Поэтому, мысля идею, мы тем самым мыслим о том едином, вечном, тождественном, что налицо во всех вещах, обнимаемых «идеей». Это мыслимое в качестве «подходящего» под идею и есть не что иное, как сама идея. Больше того. Допустим, что идеи — мысли и что единичные вещи существуют в силу своего участия в идеях. В этом случае необходимо допустить одно из двух: или что все вещи состоят из мыслей, следовательно, все мыслит, или же что все есть безмысленная мысль [см. Парменид, 132 В — С]. Отношение между идеей и вещами возможно представить еще и так, что «идея» — прообраз вещей, а вещи — подобия, «идей». Но если это верно, то непонятно, каким образом возможно согласовать существование несовершенных вещей с совершенством их «идей»? И какие возможны роды «идей»? Возможно ли признать рядом с существованием «идей» благого, справедливого, прекрасного также и существование «идей» столов, волос, грязи? [см. Парменид, 130 В — Е]. Но если бы даже объяснение нашего познания «идей» и не встретило указанных препятствий и затруднений, то возникла бы трудность другого рода. Если бы бытие «идей» могло быть обосновано, то учение об «идеях» неизбежно должно было бы подвергнуться самому радикальному преобразованию. Пришлось бы отвергнуть положение о неизменности «идей» и об их неподвижности. Полное отрицание в истинно-сущем движения так же исключает возможность знания, как и признание его подвижности. Вывод этот Платон объявляет неприемлемым в диалоге «Софист». «Против того, — говорит он здесь, — кто уничтожает науку, знание и — разумение, и однако же утверждает что-либо о чем-нибудь, необходимо бороться всеми доводами» [Софист, 249 С — Д]. Таковы некоторые из доводов, которые сам Платон выдвинул в «Пармениде» и «Софисте» против признания собственной теории «идей». Но выходом не может быть, по Платону, и отрицание бытия «идей». Отрицание «идей» ведет к еще большим несуразностям, так как это отрицание лишает знание его предмета и делает невозможной диалектику [см. Парменид, 135 А — В]. Критика «идей», содержащаяся в «Филебе», «Пармениде» и «Софисте», резко выделяет эти диалоги по их содержанию из числа всех остальных сочинений Платона. Кроме этого, необходимо учесть еще одно важное обстоятельство. Аристотель, который в качестве ученика Платона должен превосходно знать сочинения своего учителя, нигде ни словом не упоминает о том, что у Платона была собственная критика теории «идей. Больше того. Аристотель прямо утверждает, будто Платон никогда не входил в разбор вопроса об «участии» вещей в «идеях» [см 7, 1, 6, 987 в 13]. Ко всему сказанному присоединяются также и особенности литературного стиля и изложения «Филеба», «Софиста» и «Парменида». В этих сочинениях диалогическая форма уже не есть рамка для ярких сцен и картин афинской умственной жизни. В них нет обилия красок, художественно живописующих участников философских споров, а в самих спорах — драматической выразительности и напряженности. Вместо всего этого — виртуозный логический анализ понятий, отвлеченная диалектика, педантические приемы логической дихотомии. Все эти особенности трех знаменитых платоновских диалогов послужили поводом — для ряда знатоков сочинений Платона и специалистов по истории античной философии — к радикально скептическим выводам. Первыми выступили Зохер, Ибервег, Шааршмидт. Они пытались доказать, что диалоги эти написаны не Платоном, а другими авторами. Особенно выделяется аргументация Ибервега. Ученый этот подчеркивает, что в «Пармениде» против теории «идей» Платоном выставлен довод «третий человек» — тот самый, который разработал Аристотель и которому он придавал особо важное значение. Однако Аристотель нигде не указывает на соавторство Платона в выдвижении этого довода. Следовательно, заключает Ибервег, или мы должны признать, что автором «Парменида», в котором развивается довод «третий человек», не может быть Платон, или же, если он все же принадлежит Платону, что Аристотель воспользовался, как своим изобретением, тем, что было изобретено Платоном, т. е. совершил плагиат. Но это заключение противоречит нравственному облику Аристотеля. Таковы результаты скептической — филологической и историко-философской — критики в вопросе о подлинности «Парменида». Принятие отрицательного результата этой критики равносильно утверждению, что никакой «самокритики» теории «идей» у Платона не было и что теория эта осталась его незыблемым философским убеждением. Таким образом, скептицизм в «платоновском вопросе» не оставил незатронутым даже те произведения, которые традиция считает самыми важными для характеристики учения Платона. Этот скептицизм, или «гиперкритицизм», не имел, однако, успеха в русской историко-философской науке. Ни акад. А. Н. Гиляров. ни проф. А. Ф. Лосев не сочли доводы против подлинности «Парменида» и «Софиста» убедительными. Возбуждение сомнений в том, что им самим с полным убеждением, bona fide, утверждалось, акад. А. Н. Гиляров считает наиболее характерным для Платона методом исследования истины [см. 20, с. 354], а не основанием для отрицания у Платона взглядов, против которых сам Платон выдвигал возражения и которые, однако, удостоверяются всей совокупностью его сочинений. Что касается умолчания Аристотеля о платоновской критике «идей», то, по мнению А. Н. Гилярова, оно ничего не доказывает [см. 20, с. 355–356]. Если основываться только на Аристотеле, то пришлось бы, например, утверждать, будто Платон не допускал существования «идей» отношений, «идей» отрицаний, «идей» произведений искусства или будто Платон не видел в «идеях» целей бытия и генезиса. Но эти учения налицо в ряде Сочинений Платона, на которые сам Аристотель в других случаях ссылается как на принадлежащие Платону. Так, об «идеях» отношений и отрицаний Платон говорит в «Федоне» и «Софисте», об «идеях» произведений искусства — в «Государстве» и «Кратиле», об «идеях» как о целях существующего и возникающего — в «Федоне», «Филебе» и «Государстве». А так как нет оснований заподозрить Аристотеля в намеренном искажении учений Платона, то неточности, имеющиеся у Аристотеля в характеристике теории «идей», естественнее объяснить небрежностью, встречающейся порой у самого Аристотеля [там же]. В частности, что касается довода «третий человек». подробно сформулированного в «Пармениде», то, как указывает А. Н. Гиляров, довод этот «совершенно ясно намечен в «Государстве» и в «Тимее» [там же, с. 356]. В литературе о Платоне была высказана и другая точка зрения в объяснении платоновской «самокритики», т. е. критики Платоном собственной теории «идей». Авторы этой точки зрения или, точнее, гипотезы — Джордж Грот, Джексон и Гирцель. Все они не отрицают подлинность «Филеба», «Парменида» и «Софиста». Но они полагают, что диалоги эти, поздние в творчестве Платона, относятся к периоду, когда у Платона возникли сомнения в истинности теории «идей». Однако и в этой гипотезе нет необходимости: все противоречия теории «идей» могут быть выведены из диалектического учения Платона о нераздельном единстве тождественного и иного, единого и многого, пребывающего и подвижного [см. там же, с. 355]. 7. Учение Платона об обществе и государстве В мировоззрении Платона важное место принадлежит его взглядам на общество и государство. Платон менее всего похож на аполитического мыслителя, равнодушного к явлениям общественной жизни и политическим учреждениям. С философским идеализмом в нем сочетается чрезвычайный интерес к общественным отношениям. Его чрезвычайно занимал вопрос о том, каким должно быть совершенное общежитие и каким воспитанием люди должны быть подготовлены к устройству и сохранению такого общежития. О тяготении Платона к разработке вопросов общественного устройства хорошо говорит в рецензии на русский перевод «Поэтики» Аристотеля Н. Г. Чернышевский. «Платона, — писал Чернышевский, — многие считают каким-то греческим романтиком, вздыхающим о неведомом и туманном, чудном и прекрасном крае, стремящимся… далеко, далеко от людей и земли… Платон был вовсе не таков… он не был праздным мечтателем, думал не о звездных мирах, а о земле, не о призраках, а о человеке. И прежде всего Платон думал о том, что человек должен быть гражданином государства…» [42. с. 263–264]. Не удивительно поэтому, что вопросам общественно-политическим Платон посвятил два наиболее обстоятельных своих произведения: написанный в большей своей части в эпоху зрелости, долго разрабатывавшийся трактат «Государство (Politeia)» и произведение глубокой старости «Законы». Оба они далеко не равноценны. В «Государстве» учение об обществе разработано в тесной связи с центральным учением платоновского идеализма — с теорией «идей» — и несет на себе печать ригоризма и непреклонности: идеальное сурово противопоставлено как образец и как норма должного эмпирической действительности. В то же время, несмотря на всю резкость этого противопоставления, в «Государстве» запечатлено удивительное знание и понимание столь резко критикуемой и отрицаемой Платоном эмпирической действительности. В сравнении с «Государством» «Законы» — произведение гораздо более «компромиссное», в нем смягчен прежний, характерный для «Государства», идеалистический ригоризм, сделан ряд далеко идущих уступок требованиям эмпирической реальности. К обоим большим трактатам примыкают, дополняя их, диалоги «Политик» и отчасти «Критон». В «Политике» Платон разделяет сферу научного знания на предписывающую цели и на теоретическую. В науку, предписывающую цели, включается и наука государственного человека, предмет которой — верховное руководство государством, сходное по своей природе с искусством пастуха. Существующим, несовершенным формам государственного общежития предшествовала, по Платону, во времена глубокой древности, в век правления Хроноса, совершенная форма общежития. В те времена сами боги, как божественные пастухи, управляли отдельными областями, а в жизни общества наблюдалась достаточность всего необходимого для жизни, отсутствовали войны, разбои и раздоры. Люди непосредственно рождались из земли, не нуждались в жилищах и в постели, использовали немалые часы досуга для занятий философией. На этой стадии люди были свободны от обязанности борьбы с природой, и их соединяли узы дружбы. Однако взять этот строй за образец возможного наилучшего порядка невозможно — этого не дозволяют материальные условия существования: необходимость самосохранения, борьба против природы и против враждебных народов. Впрочем, недостижимый образец минувшего золотого века проливает свет на условия, в которых приходится жить современному человеку: вглядываясь в этот миновавший и невозвратный строй, мы видим, в чем состоит зло, препятствующее правильному устройству общества и порождаемое нуждой, семейными отношениями, борьбой между народами. Первоначальный тип общежития как тип идеальный нарисован Платоном не только в «Государстве», но и в «Законах», где он изобразил уже не столь идиллические, как в эру Хроноса, условия жизни людей, спасшихся на вершинах гор во время потопа. Идеальному типу Платон противопоставил отрицательный тип общественного устройства. В нем главным двигателем поведения людей оказываются материальные заботы и стимулы. По мнению Платона, все существующие государства принадлежат к этому, отрицательному типу: «Каково бы ни было государство, в нем всегда есть два государства, враждебные друг другу: одно — государства богатых, другое — бедных» [Госуд., IV, 422 Е]. Формы государстваОтрицательный тип государства выступает в четырех формах: как тимократия, олигархия, демократия и тирания. В сравнении с идеальным государством, каждая из этих форм есть последовательное ухудшение или извращение формы идеальной. В отрицательных формах государства вместо единомыслия налицо раздор, вместо справедливого распределения обязанностей — насилие и насильственное принуждение, вместо стремления правителей и воинов-стражей к высшим целям общежития — стремление к власти ради низких целей, вместо отречения от материальных интересов — алчность. Первой во времени из этих отрицательных форм выступила, по Платону, тимократия, т. е. власть, основанная на господстве честолюбцев. Уже с первыми признаками упадка возникает страсть к обогащению и стремление к стяжанию. В тимократии первоначально сохранялись черты совершенного строя: здесь правители пользуются почетом, воины свободны от земледельческих и ремесленных работ и от всех забот материальных, трапезы общие, упражнения в военном искусстве и в гимнастике процветают. Однако со временем охотники до драгоценных металлов начинают втайне собирать и хранить золото и серебро в стенах своих жилищ, и, при участии в этом жен, образ жизни меняется на роскошный. Так начинается переход от тимократии к олигархии — господству немногих над большинством. Это правление, основывающееся на переписи и на оценке имущества, так что в нем властвуют богатые, а бедные не имеют участия в правлении [см. Госуд., VIII, 65 °C]. В подобном городе «был бы по необходимости не один город, а два: один из людей бедных, другой — из богатых, и оба они, живя в том же самом месте, злоумышляли бы друг против друга» [там же, VIII. 551 D]. В олигархическом государстве расточители — богачи; подобно трутням в пчелином улье, они превращаются в конце концов в бедняков, но в отличие от пчелиных трутней, лишенных жала, многие из этих двуногих трутней — с жалом: преступники, злодеи, воры, отрезыватели кошельков, святотатцы, мастера всяческих злых дел. В олигархическом государстве не выполняется основной закон жизни общества. По Платону, закон этот в том, чтобы каждый член общества «делал свое» и притом столько свое». Напротив, в олигархии, во-первых, часть членов общества занимаются каждый самыми различными делами — и земледелием, и ремеслами, и войной. Во-вторых, в олигархии право человека на полную распродажу накопленного им самим имущества приводит к тому, что такой человек превращается в совершенно бесполезного члена общества: не составляя части государства, он в нем лишь бедняк и беспомощный человек. Дальнейшее развитие олигархии приводит, по Платону, к последовательному развитию ее в еще худшую форму государственного устройства — в демократию. Это власть и правление большинства, но правление в обществе, в котором противоположность между богатыми и бедными обостряется еще сильнее, чем при олигархии. Развитие роскошного образа жизни в олигархии… неудержимая и неукротимая потребность в деньгах приводят молодых людей в лапы ростовщиков, а быстрое разорение и превращение богатых в бедняков способствует возникновению зависти, злобы бедных против богатых и злоумышленных действий против всего государственного строя, гарантирующего богатым господство над бедными. Неуклонно развиваясь, имущественная противоположность становится заметной даже во внешности тех и других. С другой стороны, самые условия общественной жизни делают неизбежными не только частые встречи с богатыми, но даже совместные действия: в играх, в состязаниях, на войне. Рост возмущения бедных против богатых приводит к восстанию. Если восстание заканчивается победой бедняков, то они часть богачей уничтожают, другую часть изгоняют, а государственную власть и функции управления разделяют между всеми оставшимися членами общества. Это и есть демократия. Наихудшей формой отклонения от идеального государственного строя Платон признал тиранию. Это власть одного над всеми в обществе. Возникает эта власть, подобно предыдущим формам, как вырождение предшествующей ей демократической формы правления. Та же болезнь, которая заразила и погубила олигархию от своеволия, еще больше и еще сильнее заражает и порабощает демократию [см. Госуд., VIII, 563 Е]. По Платону, все, что делается слишком, вознаграждается великой переменой в противоположную сторону: так бывает со сменой времен года, в растениях, всех телах и ничуть не меньше в правлениях: избыток свободы должен приводить отдельного человека, так же как и полис (город-государство), не к чему иному, как к рабству [см. Госуд., VIII, 563 Е — 564 А]. Поэтому и тирания происходит именно из демократии, как жесточайшее рабство — из высочайшей свободы. Тиран вырастает не из чего более, как из корня, называемого представительством. В первые дни и в первое время он «улыбается и обнимает всех, с кем встречается, не называет себя тираном, обещает многое в частном и общем, освобождает от долгов, народу и близким к себе раздает земли и притворяется милостивым и кротким в отношении ко всем» [там же, VIII, 566 D — Е]. Тирану необходимо непрерывно затевать войну, чтобы простой народ чувствовал потребность в вожде. Так как постоянная война возбуждает против тирана ненависть и так как граждане, способствовавшие его возвышению, будут мужественно осуждать оборот, который приняли события, то тиран, если захочет удержать власть, вынужден будет исподволь уничтожать своих осудителей, «пока не останется у него ни друзей, ни врагов, от которых можно было бы ожидать какой-нибудь пользы» [Госуд., VIII, 566 Е — 567 В]. Идеальное государствоВсем дурным формам государства Платон противопоставляет утопию, или проект наилучшего государства и правления. Этим государством руководят, как в олигархии, немногие. Но, в отличие от олигархии, этими немногими могут стать только лица, действительно способные хорошо управлять государством: во-первых, в силу природных к тому задатков и одаренности; во-вторых, вследствие долголетней предварительной подготовки. Основным принципом идеального государственного устройства Платон считает справедливость. Каждому гражданину государства справедливость отводит особое занятие и особое положение. Господство справедливости сплачивает разнообразные и даже разнородные части государства в целое, запечатленное единством и гармонией. Эта наилучшая государственная система должна, по Платону, обладать рядом черт нравственной и политической организации, которые были бы способны обеспечить государству решение самых важных задач. Такое государстве, во-первых, должно обладать силой собственной организации и средствами ее защиты, достаточными для сдерживания и отражения враждебного окружения; во-вторых, оно должно осуществлять систематическое снабжение всех членов общества необходимыми для них материальными благами; в-третьих, оно должно руководить и направлять высокое развитие духовной деятельности и творчества. Выполнение всех этих задач означало бы осуществление идеи блага как высшей «идеи», правящей миром. В государстве Платона необходимые для общества в целом функции и виды работы разделены между специальными разрядами его граждан, но в целом образуют гармоничное сочетание. За основу для распределения граждан по разрядам Платон взял различие между отдельными группами людей по их нравственным задаткам и свойствам, но рассматривает он это различие по аналогии с разделением хозяйственного труда. В разделении труда Платон видит фундамент всего современного ему общественного и государственного строя. Он исследует и происхождение существующей в обществе специализации и состав отраслей получившегося таким образом разделения труда. Маркс в написанной им для «Анти-Дюринга» Энгельса 10-й главе («Из «Критической истории») чрезвычайно высоко оценивает платоновский анализ разделения труда. Он прямо называет «гениальным» «для своего времени изображение разделения труда Платоном, как естественной основы города (который у греков был тождествен с государством)» [1, т. 20, с. 239). Основная мысль Платона в утверждении, что потребности граждан, составляющих общество, разнообразны, но способности каждого отдельного лица к удовлетворению этих потребностей ограничены. «Каждый из нас сам для себя бывает недостаточен и имеет нужду во многих» [Госуд., II, 369 В]. Отсюда необходимость возникновения общежития, или «города», «когда один из нас привлекает других либо для той, либо для иной потребности; когда, имея нужду во многом, мы располагаем к сожитию многих сообщников и помощников: тогда это сожитие получает у нас название города» [там же, II,369 С]. Значение разделения труда для общества Платон рассматривает не с точки зрения работника, производящего продукт, а исключительно с точки зрения интересов потребителей. По разъяснению Маркса, основное положение Платона «состоит в том, что работник должен приспособляться к делу, а не дело к работнику» [1, т. 23, с. 378]. Каждая вещь, согласно Платону, производится легче и лучше и в большем количестве, «когда один человек, делая лишь одно, делает сообразно со своей природой, в благоприятное время, оставив все другие занятия» [Госуд., II, 37 C]. Эта точка зрения, которую Маркс называет «точкой зрения потребительной стоимости» [1, т. 23, с. 378], приводит Платона к тому, что в разделении труда он видит не только «основу распадения общества на сословия» [1, т. 23, с. 379], но также и «основной принцип строения государства» [там же]. Источником такого понимания государства для Платона были его наблюдения над общественным строем современного ему Египта, и, по словам Маркса, в сущности республика Платона «представляет собой лишь афинскую идеализацию египетского кастового строя; Египет и для других авторов, современников Платона…был образцом промышленной страны…» [там же]. В соответствии со сказанным, разумное устройство совершенного государства, по Платону, должно основываться прежде всего на потребностях: устроит город, «как кажется, наша потребность» [Госуд., II, 369 С]. Перечисление потребностей доказывает, что в городе-государстве должны существовать многочисленные отрасли общественного разделения труда — не только работники, добывающие средства питания, строители жилища, изготовители одежды, но также и работники, изготовляющие для всех этих специалистов необходимые для них инструменты и орудия их труда. Кроме них, необходимы еще специализировавшиеся производители всевозможных вспомогательных работ, например скотоводы, доставляющие средства перевозки людей и грузов, добывающие шерсть и кожу. Потребность во ввозе необходимых продуктов и товаров из других стран и государств требует производства излишка товаров для торговли ими, увеличения числа работников, изготовляющих эти товары. В свою очередь, развитая торговля требует специальности и деятельности посредников по купле и продаже, по импорту и экспорту. Так, к уже рассмотренным разрядам разделения труда присоединяется разряд торговцев. Однако этим усложнение специализации не ограничивается: торговля по морю вызывает к жизни потребность в различных разрядах лиц, участвующих в перевозках товаров. Торговля, обмен товарами и продуктами необходимы государству не только для внешних сношений, но и вследствие того же разделения труда между гражданами государства. Отсюда Платон выводит необходимость рынка и чеканки монеты как единицы, обмена. Возникновение рынка порождает разряд специалистов рыночных операций — мелких торговцев и посредников» скупщиков и перепродавцов. Для полного осуществления хозяйственной жизни государства Платон считает необходимым также специальный разряд обслуживающих наемных работников, продающих свою рабочую силу за плату. Такими «наемниками» Платон называет людей, которые «продают полезность своей силы и именуют ее цену наемной платой» [Госуд… II, 371 Е]. Указанными разрядами специализированного общественного труда исчерпываются работники, производящие необходимые для государства продукты либо так или иначе способствующие этому производству и созиданию порождаемых им потребительных ценностей. Это низший класс или разряд граждан в иерархии государства. Над ним у Платона стоят высшие классы: воинов-стражей и правителей. Весьма важную для общества потребность образует нужда в специалистах военного дела. Выделение их в особую отрасль общественного разделения труда, по Платону, необходимо не только ввиду важности их профессии для государства, но также и вследствие особой ее трудности, требующей и особого воспитания, и технического умения, и специальных знаний. При переходе от класса работников производительного труда к классу воинов-стражей бросается, в глаза то, что Платон нарушает принцип деления. Различия между отдельными разрядами класса производящих работников он характеризует по различиям их профессиональных функций. Предполагается, что в отношении нравственных черт все эти разряды стоят на одном и том же уровне: и земледельцы, и ремесленники, и купцы. Другое дело — воины-стражи и правители-философы. Для них необходимость обособления от групп работников, обслуживающих хозяйство, основывается уже не на их профессиональных особенностях, а на отличии их нравственных качеств от нравственных свойств работников производства. А именно: нравственные черты работников хозяйства Платон ставит ниже нравственных достоинств воинов-стражей и в особенности ниже — правителей государства. Добродетели в государствеНарушение принципа деления в учении Платона о различии классов общества отмечено в прекрасной работе В. Я. Железнова «Экономическое мировоззрение древних греков» [см. 23, с. 74 — 152, особенно с. 99 — 100]. Впрочем, нравственная дискриминация трудящихся несколько скрадывается у Платона оговоркой, согласно которой все три разряда граждан государства в равной мере необходимы государству и, взятые все вместе, являют великое и прекрасное. Другая оговорка Платона, смягчающая неприглядную резкость и надменность защищаемой им аристократической точки зрения, состоит в признании, что между происхождением из того или иного разряда и нравственными свойствами нет необходимой связи: люди, наделенные высшими нравственными задатками, могут родиться в низшем общественном разряде, и наоборот: рожденные от граждан обоих высших разрядов могут родиться с низкими душами. Так как возможность подобного несоответствия угрожает гармонии государственного строя, то в число обязанностей класса правителей входит, по Платону, обязанность исследовать нравственные задатки детей и распределять их в соответствии с этими задатками между тремя основными разрядами государства. Если в душе вновь родившегося окажется «медь» или «железо», то, в каком бы разряде он ни родился, его следует без всякого сожаления прогнать к земледельцам и ремесленникам. Но если у ремесленников родится младенец с примесью в душе «золота» или «серебра», то вновь рожденный должен быть причислен к разряду правителей или же воинов-стражей. Для Платона, как для ученого рабовладельческого общества, характерен чисто потребительский взгляд на производительный труд. Этот взгляд имеет результатом поразительный пробел в дальнейших анализах Платона. Для него важно было начисто отделить высшие классы — воинов и правителей — от низшего класса работников продуктивного труда. В вопрос о том, каким образом работники специализированного труда должны подготовляться к правильному выполнению своих обязанностей, Платон не входит. Все его внимание сосредоточено на воспитании воинов-стражей и на определении условий их деятельности, которые закрепляли бы свойства, порожденные в них воспитанием. Однако отсутствие интереса к исследованию специализированного труда не помешало Платону чрезвычайно полно характеризовать его структуру. Произошло это вследствие значения, которое Платон придал принципу исполнения каждым разрядом работников отведенной ему особой функции в хозяйстве. Впрочем, с точки зрения философских взглядов самого Платона, все значение общественного разделения труда состоит лишь в том, что разделение это подтверждает тезис об исключительной важности ограничения и регламентации: в отношении нравственности каждый разряд граждан должен быть сосредоточен на «делании своего». Главная задача трактата Платона о государстве — проблема благой и совершенной жизни всего общества в целом и его членов. Наисовершеннейшее по своему строю и оттого благое государство обладает четырьмя главными доблестями: 1) мудростью, 2) мужеством, 3) сдерживающей мерой [14] и 4) справедливостью. Под «мудростью» Платон понимает не какое-либо техническое знание или умение, а высшее знание или способность дать добрый совет о государстве в целом — о способе направления его внутренних дел и о руководстве им в его внешних отношениях. Такое знание «охранительное», а обладающие этим знанием правители — «совершенные стражи». «Мудрость» — доблесть, принадлежащая не множеству ремесленников, а весьма немногим — философам, — и есть, ближайшим образом, не столько даже специальность по руководству государством, сколько созерцание занебесной области вечных и совершенных «идей» — доблесть, в основе своей нравственная [см. Госуд., IV, 428 В — 429 А]. Только философы должны быть правителями, и только, при правителях-философах государство будет благоденствовать и не будет знать существующего в настоящее время зла. «Пока в городах, — говорит Платон, — не будут либо царствовать философы либо искренно и удовлетворительно философствовать нынешние цари и властители, пока государственная сила и философия не совпадут в одно… до тех пор ни для государств, ни даже, полагаю, для человеческого рода нет конца злу» [Госуд., V, 473 D]. Но для достижения благоденствия правители должны быть не мнимыми, лишь подобными философам, но философами истинными; под ними Платон разумеет только тех, которые «любят созерцать истину» [там же, V, 475 Е]. Вторая доблесть, которой обладает наилучшее по своему устройству государство, — «мужество». Оно, так же как и «мудрость», свойственно небольшому кругу лиц, хотя в сравнении с мудрыми этих лиц больше. Платон разъясняет, что для того чтобы государство как таковое было, например, мудрым, вовсе не требуется, чтобы мудрыми были все без исключения его члены. То же и с мужеством: для него достаточно, чтобы в государстве существовала хотя бы некоторая часть граждан, обладающих способностью постоянно хранить в себе правильное и согласное с законом мнение о том, что страшно и что нет [см. там же, IV, 429 А — 43 C, 428 Е]. В отличие от «мудрости» и от «мужества», третья доблесть совершенного государства, или «сдерживающая мера», есть качество уже не особого или отдельного класса, а доблесть, принадлежащая всем членам наилучшего государства. Там, где она налицо, все члены общества признают принятый в совершенном государстве закон и существующее в нем правительство, сдерживающее дурные порывы. «Сдерживающая мера» приводит к гармоничному согласованию как лучшие, так и худшие стороны [см. там же, IV, 430 D — 432 А]. Четвертая доблесть совершенного государства — «справедливость». Ее наличие в государстве подготовляется и обусловливается «сдерживающей мерой». Благодаря справедливости каждый разряд в государстве и всякий отдельный человек, одаренный известной способностью, получает для исполнения и осуществления свое особое дело. «Мы положили, — говорит Платон, — что из дел в городе каждый гражданин должен производить только то одно, к чему его природа наиболее способна» [там же, IV, 433 А]. Не хватание одновременно за многие занятия, а именно «это делание своего, вероятно, и есть справедливость» [там же, IV, 433 В]. Как бы ни решался вопрос о том, какую роль в стремлении государства к совершенству играют три первые добродетели, во всяком случае со всеми этими тремя доблестями «состязается кроющееся в государстве стремление, чтобы каждый делал свое: способность каждого делать свое борется… за добродетель города с его мудростью, сдерживающей мерой и мужеством» [там же, IV, 433 D]. Классовая точка зрения Платона, его социальный и политический аристократизм, преломленный сквозь призму представлений о египетском кастовом строении общества с характерным для него запретом перехода из одной касты в другую, получили чрезвычайно яркое выражение в платоновском понимании «справедливости». Всеми силами Платон хочет оградить свое идеальное государство от смешения классов составляющих его граждан, от исполнения гражданами одного класса обязанностей и функций граждан другого класса. Он прямо характеризует «справедливость» как доблесть, не допускающую возможности подобного смешения. Наименьшей бедой было бы смешение функций различных специальностей внутри класса работников производительного труда: если, например, плотник станет делать работу сапожника, а сапожник — работу плотника или если кто-либо из них захочет делать вместе и то и другое. Но «многоделание» было бы уже, по Платону, прямо гибельно для государства: если какой-либо ремесленник или человек, по природе своей промышленник, возгордившись своим богатством, или мужеством, или могуществом, пожелал бы заняться воинским делом, а воин, не способный быть советником и руководителем государства, посягнул бы на функцию управления, или если кто-нибудь захотел бы одновременно совершать все эти дела [см. там же, IV, 434 А — В]. Даже при наличии первых трех видов доблести многоделье и взаимный обмен занятиями причиняют государству величайший вред и потому «весьма правильно могут быть названы злодеянием» [там же, IV, 434 С], «величайшей несправедливостью против своего города» [там же, IV, 434 С]. И наоборот, «делание своего» во всех трех видах деятельности, необходимых для государства, «будет противоположно той несправедливости, — будет справедливостью и сделает город справедливым» [там же]. Государство Платона — не единственная сфера проявления «справедливости». Для Платона государство — как бы макромир, которому соответствует микромир в каждом отдельном человеке, в частности в его душе. Согласно Платону, в душе существуют и требуют гармоничного сочетания три элемента, или три начала: 1) разумное, 2) аффективное и 3) неразумное, или вожделеющее — «друг удовлетворений и наслаждений». В государстве три разряда его граждан — правители, воины и работники производительного труда — составляют гармоничное целое под руководством наиболее разумного класса. Но то же происходит и в душе отдельного человека. Если каждая из трех составных частей души будет совершать свое дело под управлением, то гармония души не нарушится. При таком строе души разумное начало будет господствовать, аффективное — выполнять обязанность защиты, а вожделеющее — повиноваться и укрощать свои дурные стремления [см. там же, IV, 442 А]. От дурных поступков и от несправедливости человека ограждает именно то, что в его душе каждая ее часть исполняет предназначенную ей функцию — как в деле господства, так и в деле подчинения. Начертанный проект наилучшей организации общества и государства Платон считает осуществимым только для греков. Для народов, окружающих Элладу, он не применим в силу полной будто бы их неспособности к устройству общественного порядка, основанного на началах разума. Таков «варварский» мир в исконном смысле этого слова, обозначающем все негреческие народы независимо от степени их цивилизации и политического развития. Различие между эллииами и варварами настолько существенно, что даже нормы ведения войны будут иными — в зависимости от того, ведется ли война между греческими племенами и государствами или между греками и варварами. В первом случае должны соблюдаться принципы человеколюбия, продажа пленных в рабство не допускается; во втором война ведется со всей беспощадностью, а побежденные обращаются в рабов. В первом случае вооруженной борьбы для нее подходит термин «домашний спор» (stasiV), во втором — «война» (polemoV) [см. там же, IV, 470]. [15] Следовательно, заключает Платон, когда эллины сражаются с варварами и варвары с эллинами, мы назовем их воюющими и врагами по природе, и такую вражду следует именовать войной; когда же эллины делают что-либо подобное против эллинов, мы скажем, что по природе они — друзья, только в этом случае Эллада больна и находится в разладе, что следует называть «домашним спором». Социальный смысл утопии ПлатонаВ утопии Платона отражаются также важные черты действительного, реального античного полиса, далекие от намеченного философом идеала. Сквозь очертания нарисованной Платоном гармонии между хозяйственными работами и отправлениями высших обязанностей — правительственных и военных, — предполагающими высшее интеллектуальное развитие, ясно проступает противоположность высших и низших классов, резко обособленных друг от друга. Тем самым «идеальное» государство сбивается на осужденный самим Платоном отрицательный тип общества, движимого материальными интересами и разделенного на взаимовраждебные классы. Суть дела не меняется оттого, что Платон постулирует для своего утопического государства полное единомыслие его классов и граждан. Постулат этот обосновывается ссылкой на происхождение всех от общей матери — земли. Именно поэтому воины должны считать всех остальных граждан своими братьями. Однако именуемые «братьями» работники хозяйственного труда третируются как люди низшей породы. Единственно для того, чтобы они могли без помех исполнять лежащие на них работы и обязанности, необходимые для государства, но отнюдь не ради них самих, они должны быть охраняемы. Разряды воинов и философов не только выполняют свои функции, отличающие их от тружеников хозяйства. Как занятые управлением и военным делом, они властвуют, требуют повиновения и не смешиваются с управляемыми. Они добиваются от воинов-стражей, чтобы те помогали им, как собаки помогают пастухам, пасти «стадо» тружеников хозяйства. На правителях лежит неусыпная забота — добиваться, чтобы воины не превратились в волков, нападающих на овец. Обособленность классов-каст платоновского государства сказывается даже во внешних условиях их существования. Так, воины не должны проживать в местах, где живут работники производственного труда. Местопребывание воинов — лагерь, расположенный таким образом, чтобы, действуя из него, было удобно возвращать к повиновению восставших против установленного порядка, а также отражать нападение неприятеля. Воины — не только члены государства, способные выполнять свою особую функцию в обществе. Они наделены способностью совершенствоваться в своем деле, подниматься на более высокую ступень нравственной доблести. Некоторые из них могут после необходимого перевоспитания и после стажировки стать правителями- философами. Но для этого, так же как и для совершенного выполнения воинами прямых обязанностей, недостаточно правильного воспитания. Люди — существа слабые, подверженные искушению, соблазнам и порче всякого рода. Чтобы избежать этих опасностей, необходим соответствующий твердо установленный и, соблюдаемый строй жизни, который могут определить, указать и предписать только правители-философы. Этими соображениями объясняется особое внимание, которое Платон уделяет вопросу об образе жизни людей в идеальном государстве, и прежде всего об образе и распорядке жизни воинов-стражей. От результатов их воспитания и от уклада их внешнего существования самым тесным образом зависит облик проектируемого Платоном государства. В разработанном платоновском проекте — утопии — на первый — план выдвигается, нравственный принцип. В теории государства Платона нравственность не только соответствует философскому идеализму системы Платона. Будучи идеалистической, она становится аскетической. Из исследования отрицательных типов государства Платон извлек вывод, будто основная причина порчи человеческих обществ и государственных систем — в господстве материальных интересов, в их влиянии на поведение людей. Поэтому устроители наилучшего государства (т. е. правители-философы) должны не только позаботиться о правильном воспитании воинов-стражей. Они, кроме того, должны установить порядок, при котором самое устройство жилищ и сами права на имущественные блага не могли бы стать помехой ни для высокой нравственной жизни воинов, ни для исполнения ими службы, ни для надлежащего отношения их к людям своего и других классов общества. Основные черты этого порядка — лишение воинов права на собственное имущество. Воины могут пользоваться только тем, что минимально необходимо для жизни, для здоровья и для выполнения своих функций в государстве. У них не может быть ни лично принадлежащего им жилища, ни мест для хранения имущества, ни драгоценностей. Все, что необходимо воинам для исполнения их обязанностей, они должны получать от изготовляющих продукты, вещи и орудия работников производительного труда и притом в количестве ни слишком малом, ни слишком большом. Питание воинов происходит исключительно в общих столовых. Весь распорядок и рамки жизни стражей направлены на ограждение их от губительного влияния личной собственности и в первую очередь от дурного, тлетворного влияния денег, золота и других драгоценных металлов. Если бы воины-стражи пустились в стяжательство, в приобретение денег и драгоценностей, они не могли бы уже выполнять свой долг защиты членов общества: они превратились бы в хозяев и земледельцев, враждебных остальным гражданам. Способными к функциям воинов-стражей могут быть, по Платону, и женщины — лишь бы налицо были соответствующие задатки и лишь бы женщина получила необходимое для этих функций воспитание. Для защитника общества пол так же не имеет серьезного значения, как не имеет значения, какой сапожник — плешивый или кудластый — шьет сапоги [см: Госуд., V,454 B — С]. Но, ставши на путь подготовки к функции стражей, женщины должны наравне с мужчинами проходить всю необходимую подготовку. «Силы природы равно разлиты в обоих живых существах: по природе всем делам причастна и женщина, всем и мужчина; но женщина во всем слабее мужчины» [там же, V, 455 D]. Однако в этой ее слабости нельзя видеть основания для того, чтобы «все предписывать мужчинам, а женщине ничего» [там же, V, 455 Е]. Следовательно, в отношении к охране государства «природа женщины и мужчины — одна и та же, кроме того лишь, что первая слабее, а вторая сильнее» [там же, V, 456 А]. Из способности женщин наряду с мужчинами быть в разряде, или классе, стражей Платон выводит, что наилучшими женами для мужчин-стражей будут именно женщины-стражи. В силу постоянных встреч мужчин и женщин-воинов за общими гимнастическими и воинскими упражнениями, а также за общими трапезами между мужчинами и женщинами постоянно будет возникать взаимное вполне естественное влечение. Однако в городе — военном лагере, каким является идеальное государство Платона, возможна не семья, а лишь соединение мужчины с женщиной для рождения детей. Это тоже «брак», но своеобразный, не способный привести к образованию семьи. «Браки» эти втайне направляются и устраиваются правителями государства, которые стремятся лучших сочетать с лучшими, а худших с худшими. Как только женщины рожают детей, младенцев отбирают у матерей и передают на усмотрение правителей, которые лучших из новорожденных направляют к кормилицам, а худших, дефективных обрекают на гибель в скрытом месте. По прошествии некоторого времени молодые матери допускаются к кормлению младенцев, но в это время они уже не знают, какие дети рождены ими, а какие — другими женщинами. Все стражи-мужчины считаются отцами всех детей, а все женщины — общими женами всех стражей [см. там же, V, 460–461 Е]. В учении Платона о государстве постулат общности жен и детей — не курьез, он играет чрезвычайно важную роль. Для Платона осуществление этого постулата означает достижение высшей формы единства в государстве. Общность жен и детей, в классе хранителей государства завершает то, что было начато общностью имуществ, и потому есть для государства причина его высочайшего блага: «Имеем ли мы какое-либо большее для государства зло, чем то, которое разъединяет его и делает из него многие государства, вместо одного, или большее добро, чем то, которое связывает его и делает единым?» [там же, V, 462 А — В]. Всякая разность чувств разрушает единство государства. Это происходит, «когда в государстве одни говорят: «это — мое», а другие «это — не мое» [там же, V, 462 С]. Напротив, в совершенном государстве «большинство людей в отношении к одному и тому же одинаково говорят: «это — мое», или «это — не мое» [там же, V, 462 С]. Общность достояния, отсутствие личной собственности, невозможность ее возникновения, сохранения и приумножения делает невозможным и возникновение судебных имущественных тяжб и взаимных обвинений, тогда как в существующем греческом обществе все раздоры порождаются спорами из-за имущества, из-за детей и из-за родственников. Отсутствие раздоров внутри класса воинов-стражей сделает, в свой черед, невозможными ни раздор внутри низшего класса работников, ни восстание их против обоих высших классов. В конце описания проектируемого им общества Платон самыми радужными красками изображает блаженную жизнь классов этого общества, особенно воинов-стражей. Жизнь их прекраснее жизни победителей на олимпийских состязаниях. И это понятно. Победа стражей — спасение всего государства. Содержание, которое они получают как плату за свою деятельность по охранению общества, дается и им самим, и их детям. Почитаемые при жизни, они удостаиваются государством почетного погребения после смерти. Вторым обширным проектом преобразованного государства стал проект, разработанный Платоном в «Законах». В сравнении с государством, изображенным в «Политии», оно менее совершенно, а его автор более снисходителен или более реалистичен, более склонен уступать неизбежным слабостям и недостаткам человеческого рода. Важное отличие «Законов» от «Государства» («Политии») — в трактовке вопроса о рабах. Проектом «Государства» класс рабов, как один из основных классов идеального общества, не предусматривается. Полное отрицание личной собственности для правителей и стражей исключает возможность владения рабами. Однако и в «Государстве» кое-где говорится о праве обращения побежденных на войне в рабов. В «Законах», в отличие от «Государства», необходимая для существования полиса хозяйственная деятельность возлагается на рабов или на иноземцев. Несущественность рабовладения в утопии «Государства» подчеркивается еще одним обстоятельством. Так как единственный, согласно «Государству», источник рабовладения — обращение в рабов военнопленных, то численность кадров рабов, очевидно, должна зависеть от интенсивности и частоты войн, которые ведет государство. Но, по Платону, война — зло, которого в хорошо устроенном государстве должно избегать. «Все войны, — утверждает Платон в «Федоне», — возгораются ради приобретения имущества» [Федон, 66 С]. Только обществу, желающему жить в роскоши, становится вскоре тесно на своей земле, и оно вынуждено стремиться к насильственному захвату земли у соседей. И только для ограждения государства от агрессии людей, обуреваемых страстью к материальным приобретениям, ему приходится держать многочисленное и обученное военному делу войско. Особенно резко осуждается война в «Законах». Здесь война как цель государства отвергается. Платон не только не согласен с тем, что «у всех, в течение жизни, идет беспрерывная война между всеми государствами» [Законы, 625 Е]. Он утверждает сверх того, что устроитель совершенного государства и его законодатель должен устанавливать не законы, касающиеся мира, «ради военных действий», а, напротив, «законы, касающиеся войны, ради мира» [там же, 628 Е]. На всем проекте Платона лежит отблеск времени, когда Афины домогались права на руководящую роль среди греческих государств. В изображении Платона совершенное государство не только достаточно само по себе и для себя: оно должно руководить всеми государствами Эллады. В «Критии» Платон изобразил идеальное греческое государство, воины которого «жили, служа стражами для своих сограждан, а для прочих эллинов — вождями, с добровольного их согласия» [Критий. 112 D]. Этой мысли — о нормативном значении для всей Эллады совершенного образца государства — мы, по-видимому, не находим в «Законах». В утопии Платона есть ряд черт, которые, на первый взгляд, кажутся чрезвычайно современными. Это отрицание личной собственности для класса воинов-стражей, организация их снабжения и питания, резкая критика страсти к стяжанию денег, золота и вообще ценностей, критика торговли и торговых спекуляций, мысль о необходимости нерушимого единства общества и полного единомыслия всех его членов, мысль о необходимости воспитания в гражданах нравственных качеств, способных привести их к — этому единству и единомыслию. Мнимый «коммунизм»Некоторые буржуазные историки античного общества и общественной мысли утверждают, будто предложенный Платоном проект совершенного общества есть своеобразная античная теория, во многих чертах своих поразительно совпадающая с учениями и тенденциями современного социализма и коммунизма. Таковы, например, взгляды Роберта фон Пёльмана. Показательным примером многочисленных параллелей между теориями античного и современного социализма, развиваемых Пёльманом, может быть следующая. «Как новейшая социалистическая критика процента на капитал, — пишет Пёльман, — противопоставляет так называемой теории производительности (капитала. — В. А.) теорию эксплуатации, согласно которой часть общества — капиталисты, — присваивает себе, наподобие трутней, часть стоимости продукта, единственным производителем которого является другая часть общества — рабочие, точно так же и античный социализм — по крайней мере по отношению к денежному капиталу и ссудному проценту — противопоставляет понятию производительности капитала понятие эксплуатации» [69, В. I, S. 479]. И далее Пёльман подчеркивает, что вся вообще тенденция платоновских (и не только платоновских) выступлений против денежной системы, посреднической торговли и свободной конкуренции, отвращение к развитию общества в направлении к денежной олигархии, а также отвращение к концентрации имуществ совпадает с основными антикапиталистическими воззрениями новейшего социализма [см. там же]. А в примечании, на той же странице Пёльман сближает выпады Платона против стяжательства и против торговли со взглядами не только Фурье, но даже Маркса: «Ahnlich spricht auch Marx von der «modernen Schacherwelt» [69, В. I. S. 479]. Приписывание Платону теории социализма и коммунизма, сходной не только с теорией марксизма, но хотя бы с учениями утопического социализма, совершенно ошибочно, а в своей тенденции совершенно реакционно. Оно ошибочно, так как теория научного социализма и коммунизма выводит необходимость наступления эры социализма и коммунизма только из точно, определенных исторических условий в развитии способа производства и обусловленных им общественных отношений. Теория эта указывает, что социалистический строй и социалистическая организация общества возникают из отношений, в которых находятся между собой сами работники производительного труда. Общественная основа социализма — производящий класс высокоразвитого промышленного общества. Ничего подобного нет (и, конечно, не могло быть) в платоновской теории «коммунизма». Платоновский «коммунизм» — вовсе не коммунизм, обусловленный отношениями производства в обществе. То, что Пёльман и его единомышленники называют платоновским коммунизмом, есть «коммунизм» потребления, а не производства: высшие классы — правители и стражи — живут общей жизнью, сообща питаются и т. д., но ничего не производят; они только потребляют то, что производят люди другого класса — работники, в руках которых сосредоточены орудия производства. В связи с этим Платона совершенно не занимают вопросы устройства жизни и труда производящего класса, вопросы организации его производительной деятельности, наконец, вопросы его быта, морального состояния. Платон оставляет за «рабочими» принадлежащее им имущество и лишь обусловливает пользование этим имуществом. Он ограничивает его условиями, которые продиктованы вовсе не заботой о жизни и благополучии «рабочих», а только соображениями о том, что требуется для того, чтобы они хорошо и в достаточном количестве производили все необходимое для двух высших классов. Условия эти сформулированы лишь в общей форме, без их детализации, без разработки. Первое из них состоит в устранении из жизни «рабочих» главного источника порчи — богатства и бедности. Богатые ремесленники перестают радеть о своем деле, бедные сами не в состоянии, из-за отсутствия орудий, хорошо работать и не могут хорошо обучать работе своих учеников [см. Госуд., IV, 421 D — Е]. Второе условие состоит в ограничении функций «рабочего» одним-единственным видом труда. Это тот его вид, к которому он наиболее способен по своим природным задаткам и который не определяется им самим, а указывается и предписывается ему правителями государства. Третье условие — совершенное повиновение. Оно обусловлено всем строем убеждения «рабочего» и прямо следует из основной для него доблести — «сдерживающей меры». К самому труду, как таковому, отношение Платона не только безразличное, но даже пренебрежительное. Неизбежность производительного труда для благосостояния общества в целом не делает, в глазах Платона, этот труд привлекательным или почитаемым. На душу он действует принижающим образом. В конце концов, производительный труд — удел тех, у кого способности скудны и для кого нет лучшего выбора. В третьей книге «Государства» есть место, где Платон помещает кузнецов, ремесленников, перевозчиков на весельных судах и их начальников рядом с «худыми людьми» — пьяницами, бешеными и непристойно ведущими себя [см. Госуд., III, 396 А — В]. Всем таким людям, по Платону, не только не следует подражать, но и внимание обращать на них не следует [см. там же, 396 В]. Пренебрегая этими важнейшими чертами утопии Платона, Пёльман доходит до абсурдного утверждения, будто Платон стремился распространить принципы коммунистического устроения также на производительный — низший — класс своего государства. Из того, что правители руководят всем в государстве и направляют все на благо целого, Пёльман делает ничем не обоснованный вывод, будто деятельность правителей распространяется и на весь трудовой распорядок общества. Но это совершенно не так. Руководство платоновских правителей ограничивается требованием, чтобы каждый работник выполнял только одну, назначенную ему свыше, отрасль работы. Ни о каком обобщении средств производства у Платона нет и речи. То, что Пёльман называет «коммунизмом» Платона, предполагает полное самоустранение обоих высших классов от участия в хозяйственной жизни: члены этих классов всецело заняты вопросами военной защиты государства и высшими задачами и функциями управления. В отношении низшего класса платоновского государства нельзя говорить даже о потребительском коммунизме. «Сисситии» (общие трапезы) предусматриваются лишь для высших классов. И если в «Государстве» производительным классом являются не рабы (как в «Законах»), то объясняется это лишь тем, что правители не должны иметь собственность, а вовсе не заботой Платона о том, чтобы человек не мог стать чужой собственностью. «Коммунизм» платоновской утопии — миф антиисторически мыслящего историка. Но миф этот, кроме того, — реакционное измышление. Независимо даже от личных взглядов Пёльмана, будучи принят, миф о коммунизме Платона, несомненно, может играть только реакционную роль. Его основа — утверждение, будто коммунизм — не учение, отразившее современную и наиболее прогрессивную форму развития общества, а древнее, как сама античность, учение, к тому же опровергнутое жизнью еще в самой античности. При всей крайности утверждений Эдуарда Целлера, который ошибочно полагал, будто в утопии Платона не видно никакой мысли и никакой заботы Платона о низшем классе рабочих, в целом суждения Целлера гораздо ближе к пониманию истинных тенденций «Государства», чем измышления Пёльмана. И недалек от истины был Теодор Гомперц, указавший в своем большом труде, что отношение платоновского класса «рабочих» к классу правителей похоже на отношение рабов к господам. [16] И действительно, тень античного рабства нависла над большим полотном, на котором Платон изобразил строение своего наилучшего государства. В государстве Платона не только «рабочие» напоминают рабов, но и члены двух высших классов не знают полной и истинной свободы. Субъектом свободы и высшего совершенства у Платона оказывается не личность и даже не класс, а только все общество, все государство в целом. По верному наблюдению Ф. Ю. Шталя, Платон «приносит в жертву своему государству человека, его счастье, его свободу и даже его моральное совершенство… это государство существует ради самого себя, ради своего внешнего великолепия; что касается гражданина, то его назначение — только в том, чтобы способствовать красоте его построения в роли служебного члена» [76, с. 17]. И прав был Гегель, когда указывал, что в государстве Платона «все стороны, в которых утверждает себя единичность как таковая, растворяются во всеобщем, — все признаются лишь как всеобщие люди» [19, с. 217]. Сам Платон говорит об этом наияснейшим образом. «Законодатель, — поясняет он, — заботится не о том, чтобы сделать счастливым в городе, (т. е. в городе-государстве, в полисе. — В. А.), особенно один какой-нибудь род, но старается устроить счастье целого города, приводя граждан в согласие убеждением и необходимостью… и сам поставляет в город таких людей, не пуская их обращаться, куда кто хочет, но располагая ими применительно к прочности города» [Госуд., VII, 519 Е — 520 А]. 8. Платоновская Академия после Платона Еще при жизни Платон сам назначил себе преемника по руководству Академией. Преемником этим стал его ученик, сын его сестры Спевсипп (407–399), стоявший у руководства в течение всего остатка своей жизни (347–339). В ряде вопросов Спевсипп отклонялся от учения Платона, прежде всего в учении о Благе и об «идеях». Как и Платон, он исходит из Блага (Единого), но видит в нем только начало бытия, а не его завершение. В сущности Спевсипп был скорее пифагорейцем, чем платоником. Учение Платона об «идеях» он отрицал, заменив «идеи» «числами» пифагорейцев. Однако и «числа» он понимал не столько в платоновском — философском, онтологическом — смысле, сколько в смысле математическом. Он использовал при этом пифагорейское учение о декаде и о ее первых четырех числах, придав, таким образом, древней Академии вполне пифагорейское направление. Он сближал Мировой ум Платона не только с Душой, но и с Космосом. Он даже начал борьбу с Платоном и платоновским дуализмом — в теории познания, в которой он ратовал за «научно значущее чувственное восприятие», и в этике, выдвинув счастье как основную категорию этики. Возможно, что уже начиная со Спевсиппа в платоновскую Академию проникает скептицизм, впоследствии столь усилившийся при Аркесилае и Карнеаде. Последующие академики примыкали к позднему Платону, чьи воззрения были сильно окрашены пифагореизмом. Это Гераклид Понтийский, Филипп Опунтский, Гестиэй и Менедем. Не столь, как Спевсипп, приблизился к пифагорейцам его ученик Ксенократ, который стоял во главе Академии в течение 25 лет (339–314) и был главным представителем школы, одним из самых плодовитых ее писателей. Ему принадлежит разделение всей философии на области диалектики, физики и этики. Как и пифагорейцы, он принимал за первоосновы единое, или нечет, и неопределенную двоицу, или чет. Первое он называл «отцом», вторую — «матерью богов», отождествляя единое с «умом», или Зевсом. Он выводил величины из чисел, применяя гипотезу неделимых линий, которые он называет «мельчайшими». Мировую душу он определял как самодвижущееся число. Он присоединил к физическим элементам эфир и утверждал, что элементы состоят из мельчайших телец. В этике он следовал Платону, еще сильнее, чем Платон, настаивая на различии между теоретическим и практическим разумом; только первый из них он называл мудростью. Из учеников Ксенократа прославились в области этики Полемон и особенно Крантор. Последний был автором высоко ценившихся этических трактатов. Один из них — «О скорби» (peri penqoV) положил начало популярному впоследствии жанру «утешений» (consolationes). V. Аристотель  1. Жизнь и сочинения Величайшим из непосредственных учеников Платона был Аристотель. В отличие от Платона, который был коренным афинянином, Аристотель пришел в Афины с севера. Он родился в 384 г. до н. э. в городе Стагире — во Фракии, неподалеку от Македонии, в частности от македонской столицы Пеллы. Как чужеземец, он никогда не был гражданином Афин, а всего лишь «метэком». Отец Аристотеля Никомах был по профессии врач и, наверное, видный, так как он числился медиком македонского царя Аминты. Таким образом, Аристотель жил в семье, где он мог с юношеских лет приобрести интерес к изучению физической природы человека, а также завязать некоторые связи в македонских придворных кругах. В 367 г. до н. э. Аристотель уехал в Афины для довершения образования и вступил в Академию — школу Платона; в ней он пробыл в течение двадцати лет до смерти Платона (347). В кругу учеников и друзей Платона Аристотель резко выделился громадной начитанностью и выдающимися умственными дарованиями. Сохранились, по-видимому, преувеличенные сведения о враждебных отношениях, сложившихся впоследствии между Аристотелем и Платоном. В 347 г. до н. э. главой платоновской Академии стал Спевсипп, а ученики Платона — Аристотель и Ксенократ — вышли из Академии и покинули Афины, переселившись в Атарней. С правителем Атарнея и Асса — Гермием — оба они были знакомы и даже завязали дружбу еще в то время, когда Гермий, находясь в Афинах, слушал там Платона. Через три года Гермий был изменнически предан и умер. Аристотель, возможно еще до этого события, переехал из Атарнея в Митилену. Но уже в 343 или 342 г. до н. э. Аристотель принял приглашение македонского двора стать воспитателем Александра — сына македонского царя Филиппа. Александру в это время было всего тринадцать лет. Возможно, что это приглашение было сделано, еще когда Аристотель находился в Митилене. Не сохранилось почти никаких сведений ни о характере обучения, ни о тенденциях воспитания, на которых остановился выбор Аристотеля; во всяком случае влияние на Александра этого обучения и воспитания было немалым. Руководство воспитанием Александра продолжалось всего три года, так как в 335 г. до н. э. Филипп умер и Александру пришлось отныне уделять почти все время и внимание политическим делам по управлению государством. С началом большого персидского похода для Аристотеля уже не оставалось поводов для его дальнейшего пребывания в Македонии, и он после двенадцатилетнего отсутствия на пятидесятом году жизни возвращается в Афины. Есть основание полагать, что к этому времени Аристотелем была уже проделана огромная научная работа — собраны естественнонаучные материалы, исторические источники; однако главные из его собственных научных работ были закончены лишь в последние годы его жизни. Аристотель явился в Афины как человек известный и уважаемый, связанный дружескими отношениями с могущественным македонским двором, в прошлом воспитатель молодого македонского царя. Сохранилось, впрочем, далеко не достоверное, сообщение об огромной денежной поддержке, которая будто бы была оказана Аристотелю для ведения и организации обширных научных исследований. При таких обстоятельствах Аристотель решил открыть в Афинах собственную школу. Местом для нее был избран в одном из предместий города гимнасий, примыкавший к храму Аполлона Ликейского. По прозвищу этого храма — Ликейский — школа Аристотеля получила название Ликея, подобно тому как школа Платона — название Академии. Чтение лекций Аристотель проводил в аллеях сада, окружавшего гимнасий, прогуливаясь взад и вперед, — откуда впоследствии учеников его стали называть «перипатетиками» («прогуливающимися»). По сообщению Геллия, обучение в Ликее имело двоякую форму: «эксотерическую», или преподавание риторики, доступное для всех, и «акроатическую», или «эсотерическую», для одних лишь подготовленных. В программу «эсотерического» обучения входила метафизика, физика и диалектика. «Эсотерики» слушали в утренние часы, «эксотерики» — в вечерние. Как и платоновская Академия, Ликей Аристотеля был не только школой, но также и кругом лиц, связанных между собой тесными узами дружбы. Необходимость вспомогательных материалов и источников, многосторонность исследований, предполагавших усвоение огромного множества фактов, вызвали потребность в коллекционировании рукописей и составлении специальной научной библиотеки; имеются сведения, что Ликей действительно располагал значительной библиотекой. После смерти Александра (323) положение Аристотеля в Афинах стало опасным. В Афинах поднимается сильное движение против македонского владычества над Грецией, в том числе прежде всего над Афинами. В глазах деятелей этого движения Аристотель казался сильно скомпрометированным своими давнишними, всем хорошо известными связями с македонским двором. Для афинян происшедшие изменения в отношениях Александра к Аристотелю были незамеченными. Во мнении афинян Аристотель продолжал оставаться приближенным македонского царя, сторонником его политической системы. Последовавшие в Афинах события — преследование людей и деятелей промакедонской ориентации — привели к тому, что и против Аристотеля был возбужден процесс. Как это было с Анаксагором и Сократом, мотивировка обвинения была не непосредственно политическая, а религиозная. Аристотель был обвинен в нечестии — в обожествлении своего атарнейского покровителя и друга Гермия. Опасаясь подвергнуться той же участи, которую в свое время испытал Сократ, Аристотель воспользовался существовавшим правом и покинул Афины еще до суда над ним поздним летом 323 г. до н. э Он поселился в Халкиде на острове Эвбея, лежащем у восточных берегов Аттики, но уже в следующем, 322 г. до н. э. там же умер. Уезжая в Халкиду, он, по-видимому, имел мало времени для сборов, так что ему пришлось оставить в Афинах на попечение его виднейшего ученика Теофраста свою библиотеку. После смерти Аристотеля сохранилось известное и нам его завещание, в котором он проявил заботливость не только о своих близких, но и о своих рабах. Руководство Ликеем, а также управление библиотекой он завещал Теофрасту. Сведения о личности и характере Аристотеля крайне скудны и, что гораздо хуже, в значительной своей части не заслуживают доверия. Таковы сообщения об его отношении к Платону, к Гермию, к обеим его женам или о затруднительных политических обстоятельствах последнего периода его жизни. Утверждение о принадлежности Аристотеля к промакедонской партии Целлер считает только результатом применения к Аристотелю ложной и чуждой ему мерки: «…so heisst das, einen falschen und fremdartigen Mass`stab an ihn aniegen» [81, с. 45]. И по рождению, и по воспитанию Аристотель был и остался настоящим греком. Но в эпоху Аристотеля греческие государства не были уже в силах ни отстоять свою политическую независимость, ни улучшить свое внутреннее состояние. Во время ламийской войны, тяжелой, впрочем, для обеих сторон, Фокион, один из слушателей Платона и противник афинского патриота Демосфена, заявил, что впредь до изменения нравственного состояния греческой отчизны от вооруженного восстания против Македонии ничего ждать не приходится. Аристотелю, не бывшему в числе афинских граждан, уроженцу маленького северного Стагира, разрушенного Филиппом Македонским и восстановленного уже в качестве не греческого, а македонского города, такой образ мыслей был гораздо ближе, чем взгляды какого-нибудь афинского государственного человека или публициста вроде известного Демосфена [см. там же, с. 45–46]. Сочинения АристотеляЛитературная — научная и философская продуктивность Аристотеля была чрезвычайно велика. По существу в его сочинениях охвачены все отрасли современного философского и научного знания. Удивительна, кроме того, обстоятельность трактовки рассматриваемых вопросов и обширность познаний, касающихся развития науки. Основную часть дошедших до нас сочинений Аристотеля составляет свод его трактатов и ряда отрывков. Часть из них — подлинные произведения самого Аристотеля, часть подложны. Приблизительно столетием позже один из ученых библиотекарей Александрии, крупнейшего в то время центра учености, составил список из 146 названий работ Аристотеля. В этом александрийском списке мы не находим названий некоторых важнейших трактатов Аристотеля, вошедших в указанный выше их свод. Из отсутствия их в александрийском списке логично заключить, что александрийскому библиотекарю трактаты эти остались неизвестны. Как это могло случиться и где в то время эти трактаты были? Долгое время считалось, что на вопросы эти можно найти ответ в рассказе древнего ученого Страбона — рассказе, который, однако, позднейшая критика квалифицировала как романический вымысел. Сообщение Страбона (и Плутарха) состоит в следующем. Через тридцать пить лет после смерти Теофраста, преемника Аристотеля в Ликее, его библиотека, в том числе и архив Аристотеля, перешла во владение его ученика Нелея. Уроженец Азии (Скепсиса), Нелей вывез этот архив из Афин на свою родину. В период, когда пергамские цари, составляя для себя библиотеку, производили конфискацию ценных частных библиотек, наследники Нелея спрятали рукописи Аристотеля в подвале, где они оставались в течение полутораста лет, подвергаясь при этом порче. Найденные в уже поврежденном состоянии, рукописи эти были приобретены последователем школы Аристотеля Апеллпконом, который перевез их в Афины. В 80 г, до н. э. римский полководец и диктатор Сулла, находясь в Афинах, захватил библиотеку Апелликона и распорядился переправить ее в Рим. С рукописями Аристотеля познакомились сначала друг Цицерона Тираннион, а затем ученый Андроник из Родоса. Андроник занялся исправлением рукописей и организацией их переписки. Существуют данные в пользу мнения, что сохранившийся свод трудов Аристотеля восходит к изданию Андроника Родосского. Если рассказ Страбона и Плутарха о судьбе рукописей, попавших в конце концов в руки Андроника, соответствует фактам, то это делает понятным, почему в александрийском перечне не оказалось ряда капитальных сочинений Аристотеля: в то время как составлялся этот перечень, рукописи Аристотеля, содержавшие эти сочинения, еще лежали в подвале, куда их запрятали наследники Нелея. Характер компоновки и изложения в дошедших до нас произведениях свода сочинений Аристотеля отличается своеобразными недостатками: совсем не похоже, что эти сочинения — отделанные, предназначенные для чтения, гармонично скомпонованные книги. Скорее, это записи, заготовки, вспомогательные наброски. Часть этих отрывочных материалов, возможно, не принадлежала самому Аристотелю. Впоследствии, по-видимому, были сделаны попытки подогнать отрывки друг к другу, сделать между ними спайки, устранить неувязки, внести в неоформленный материал литературную обработку. При этом, однако, должны были возникнуть и новые несообразности и неувязки. Со всеми этими особенностями — пробелами, противоречиями — это то, чем мы в настоящее время владеем из наследия Аристотеля. Естественное введение в свод философских и научных работ Аристотеля составляет сборник его логических трактатов, названный «Органоном» (organon — «орудие»). Название это, возникшее после смерти Аристотеля, указывает, что логика, как ее понимал Аристотель, есть учение об орудии научного исследования и в этом смысле есть как бы введение в философию, в частности и в особенности — в философию науки. В «Органон» входят: 1) «Категории» — сочинение, не совсем достоверно приписываемое Аристотелю; 2) «Об истолковании» (трактат о суждении); 3) «Аналитики» — первая и вторая, каждая в двух книгах. Это основной логический труд Аристотеля. В нем излагаются: учение об умозаключении (силлогизме) — в первой «Аналитике» и учение о доказательстве — во второй; 4) «Топика» — обширный трактат о вероятных доказательствах и о «диалектике» — в аристотелевском понимании этого термина; 5) «Опровержение софистических доказательств». Так как, согласно Аристотелю, логические связи — отражение связей бытия, то «Органон» в известном смысле — не только система логики Аристотеля, но также и частично введение в его учение о бытии. Этому учению специально посвящено одно из знаменитейших сочинений Аристотеля — «Метафизика». В современном своем составе и тексте «Метафизика» — свод нескольких трактатов, с заметными кое-где неувязками: с буквальными повторениями довольно значительных кусков, с некоторыми невыполненными обещаниями и т. п. Название «Метафизика» (Ta meta ta fusika — «то, что после физики») позднейшего происхождения. «Метафизикой» была названа группа трактатов Аристотеля, помещенная в издании Андроника Родосского после (meta) «Физики». В этих трактатах излагалось учение о началах бытия, постигаемых посредством умозрения. Впоследствии, на целых два тысячелетия, среди философов установился обычай называть «метафизикой» всякое философское учение, содержащее умозрительное исследование бытия. Таким образом, то, что в издании Андроника Родосского просто следовало по порядку издания за физикой, стали рассматривать как возвышающееся над физикой по существу предмета: в то время как физика изучает «посюсторонние» явления природы, постигаемые с помощью опыта, «метафизика» исследует сущность бытия с помощью не опыта, а умозрения. Начиная с Гегеля, в этой характеристике предмета и способа исследования «метафизики» стали особо подчеркивать их метод. Так, Гегель, говоря о «старой метафизике», понимает прежде всего «рассудочный» антидиалектический способ мышления и познания. Но, отрицая антидиалектический метод «старой метафизики», Гегель вовсе не отрицал ее предмета — исследования сверхчувственных основ бытия. Основатели марксизма оставили за термином «метафизика» значение только названия антидиалектического метода. Так как «Метафизика» Аристотеля заключает в своем составе не один, а несколько трактатов (впрочем, близких по теме), то возникают важные вопросы, относящиеся к истории происхождения и сложения известного нам в настоящее время состава этого выдающегося произведения. Много ценного по этому вопросу имеется в специальных исследованиях немецкого ученого Вернера Иегера [см. 61]. Огромное значение в истории науки — античной и феодального общества — получили естественнонаучные сочинения Аристотеля. Сюда относится «Физика» и ряд примыкающих к ней работ: «О небе», «Чтения по физике», «О частях животных» и т. д. Очень важен для понимания психологического и биологического учения Аристотеля, а также некоторых вопросов его теории познания трактат «О душе». Видное место в литературном наследии Аристотеля занимают работы по этике. Несомненно, к самому Аристотелю восходит этический трактат, дошедший под названием «Этика Никомаха». Частью — вопросам этики, частью — проблемам политического устройства и воспитания посвящен обширный трактат «Политика». В «Риторике» и «Поэтике» рассматриваются вопросы ораторского искусства, эстетики, теории поэзии и театра. В 1890 г. в Египте во время раскопок была найдена хорошо сохранившаяся рукопись Аристотеля, содержащая описание конституции города-государства Афин. Это так называемая «Афинская полития». В школе Аристотеля было составлено множество не дошедших до нас описаний государственного устройства других греческих полисов. «Афинская полития» — образец этого научного жанра и важный источник наших сведений по истории античных Афин. 2. Критика учения Платона об «идеях» у Аристотеля В учении Платона об «идеях» ход мысли учеников и читателей Платона направлялся от «идей» («эйдосов») как первообразов бытия, с одной стороны, к явлениям чувственного мира, будто бы искажающим истинные формы или причины бытия, а с другой — к понятиям, схватывающим сущность явлений — их тождественную, общую и неизменную основу. Но если, согласно доктрине Платона, мысль должна идти от «идей» — форм бытия — к идеям — понятиям о бытии, то ход мысли, приведший Платона к его доктрине, по-видимому, был обратный: Платон опирался на учение Сократа о значении, которое для познания бытия имеют понятия. Так как познание направлено на неизменную сущность вещей и так как основные свойства предметов — свойства, раскрывающиеся в понятиях о предметах, то Платон использовал это значение понятий для утверждения, будто понятия — не только наши мысли о бытии, но сами есть не что иное, как бытие, и притом бытие доподлинное. Понятия — не только гносеологические или логические образы, а прежде всего «бытийные» («онтологические») сущности. Как сущности они независимы от колеблющегося чувственного существования вещей. Они — понятия, существующие сами по себе, самобытно и безусловно. Вопрос о значении понятий для бытия и для знания стоял в центре внимания также и Аристотеля. Разрабатывая эту проблему, Аристотель стремится точно определить свою позицию по отношению к учению Платона об «идеях». Подобно Платону, Аристотель полагает, что посредством понятий познаются существенные, коренные и неизменные свойства бытия. Так же как и Платон, Аристотель считает именно понятия средством познания существенных свойств предметов. Но, соглашаясь в этом с Платоном, Аристотель самым решительным образом выступает против учения Платона о безусловной самобытности понятий, иначе — против учения об их безусловной независимости от вещей по бытию. Принципиальное возражение в нем вызывает платоновское противопоставление понятий как единственно действительных сущностей чувственному бытию. Аристотель указывает, что поводом для возникновения теории «идей» было для Платона принятие им гераклитовского учения о непрерывной изменчивости чувственных вещей и стремление найти в противовес гераклитовскому потоку вечно пребывающие предметы, которые в качестве таких были бы способны стать объектами знания. Аристотель отчетливо говорит, что мнение относительно «идей» «получилось у высказывавших [его] вследствие того, что они насчет истины [вещей] прониклись гераклитовскими взглядами, согласно которым все чувственные вещи находятся в постоянном течении: поэтому если знание и разумная мысль будут иметь какой-нибудь предмет, то должны существовать другие реальности, [устойчиво] пребывающие за пределами чувственных: о вещах текучих — поясняет Аристотель, — знания не бывает» [Мет., XIII, 4, 1078 в 9 — 17]. Но Аристотель не только указывает генезис теории «идей». В своих произведениях, в том числе в 4-й и 5-й главах 13-й книги «Метафизики», Аристотель развивает критику учения Платона об идеях как о самобытных сущностях, отделенных от мира чувственных вещей, а в ряде других мест противопоставляет этому учению собственное учение об отношении чувственных вещей к понятиям. [17] Возражения Аристотеля против платоновской теории «идей» могут быть в основном сведены к четырем. Основа возражений Аристотеля состоит в том, что, вводя «идеи» как самостоятельное бытие, отдельное от существования чувственных вещей, Платон развивает теорию, в которой «идеи» оказываются бесполезными как для объяснения познания вещей, так и для объяснения их бытия. Согласно первому возражению Аристотеля, «идеи» бесполезны для объяснения знания, гипотеза о существовании идей не дает познанию вещей ничего нового: платоновские «идеи» — простые копии, или двойники, чувственных вещей; в содержании «идей» нет ничего, чем они отличались бы от соответственных им чувственных вещей. По Платону, общее имеется в «идеях». Но так как оно имеется и в отдельных чувственных вещах и так как в «идеях» оно то же, что и в отдельных вещах, то в «идеях» не может быть никакого нового содержания, которого не было бы в вещах. Например, «идея» человека, или, согласно Платону, человек сам по себе, в своей сущности ровно ничем не отличается от суммы общих признаков, принадлежащих каждому отдельному чувственному человеку. Второе возражение Аристотеля — в том, что постулируемая Платоном область «идей» бесполезна не только для познания, но и для чувственного существования. Чтобы иметь значение для области чувственных вещей, царство «идей» должно существовать внутри области чувственных вещей. Но как раз у Платона область «идей» начисто обособлена от мира чувственных вещей. Поэтому не может существовать никакого основания для какого бы то ни было отношения между ними. Платон понимает, что вопрос об отношении между обоими мирами должен возникнуть необходимо. Но Платон слишком легко обходит возникающую здесь трудность. Он отделывается от нее разъяснением, согласно которому вещи чувственного мира «участвуют» в «идеях». Объяснение это — очевидное повторение приема пифагорейцев, которые в ответ на вопрос об отношении вещей к числам говорили, будто чувственные вещи существуют «по подражанию» числам. Однако, по Аристотелю, и ответ пифагорейцев и ответ Платона — не настоящее объяснение, а пустая метафора. В частности, у Платона слово «участвуют» не дает строгого определения отношения между обоими мирами. Но такое определение, согласно Аристотелю, и невозможно, так как платоновские «идеи» — не непосредственные сущности чувственных вещей. Так отклоняет Аристотель учение Платона об отношении чувственных вещей к «идеям» по бытию. Третье возражение Аристотеля основывается на рассмотрении платоновского учения о логических отношениях «идей». Это, во-первых, логические отношения между самими «идеями» и, во-вторых, отношения между «идеями» и чувственными вещами. Логическое отношение между «идеями» есть отношение общих идей к «идеям» частным. При этом, согласно учению Платона, общее — сущность частного. Но два этих положения — отношение общих идеи к частным и положение, согласно которому «идеи» субстанциальны, — по мнению Аристотеля, противоречат друг Другу. А именно: выходит, что одна и та же идея может быть одновременно и субстанцией и несубстанцией: субстанцией, так как, будучи по отношению к подчиненной ей частной идее более общей, она имеется налицо или отображается в этой частной идее как ее сущность; и в то же время она не будет субстанцией по отношению к более общей сравнительно с ней идеей, которая и есть для нее ее субстанция. Но Платон, согласно Аристотелю, запутывается в противоречии также и в своем учении об отношении между областью чувственных вещей и областью «идей». Согласно убеждению Платона, отдельные вещи чувственного мира заключают в себе нечто общее для них. Но общее — в качестве общего — не может быть простой составной частью отдельных вещей. Отсюда Платон выводит, будто общее образует вполне особый мир, отдельный от мира чувственных вещей и совершенно самобытный. Итак, отдельно существуют и вещь и ее «идея». Но так как мир вещей — отображение мира «идей», то между каждой отдельной вещью и ее идеей должно существовать нечто сходное между ними и общее для них обеих. И если по отношению к миру чувственных вещей необходимо допустить отдельный от него и самобытный мир «идей», то точно так же по отношению к тому общему, что имеется между миром вещей и миром «идей», должен быть допущен — в качестве вполне самобытного — новый мир «идей». Это будет уже второй мир «идей», возвышающийся одинаково и над первым миром «идей» и над миром отдельных чувственных вещей. Но между этим новым, или вторым, миром «идей», с одной стороны, а также первым миром «идей» и миром чувственных вещей, с другой стороны, в свою очередь существует общее. И если в силу сходства мира «вещей» с первым миром «идей» оказалось необходимым предположить второй мир «идей», то на том же самом основании в силу сходства второго мира «идей» с первым, а также с миром чувственных вещей необходимо предположить существование особого общего для них, т. е. существование третьего, мира «идей». Последовательно развивая эту аргументацию, пришлось бы прийти к выводу, что над областью чувственных вещей высится не один-единственный самобытный мир «идей», а бесчисленное множество таких миров. Это возражение Аристотеля против теории «идей» Платона получило впоследствии название «третий человек». Повод для такого названия состоял в том, что, согласно Платону, кроме чувственного человека и кроме «идеи» человека (или «второго» человека), приходится все-таки допустить существование еще одной возвышающейся над ними «идеи» человека. Эта «идея», охватывающая общее между первой «идеей» и чувственным человеком, и есть «третий человек». Четвертое возражение Аристотеля против теории «идей» Платона состоит в указании, что теория эта не дает и не может дать объяснения важному свойству вещей чувственного мира. Свойство это — их движение становление: возникновение и гибель. Так как идеи образуют, согласно Платону, особый и совершенно отдельный, замкнутый мир сущностей, то Платон не способен указать причину для непрерывно происходящего в чувственном мире изменения и движения. В одном месте «Метафизики» [см. Мет., XIII, 9, 1086а30 — 1086 в 13] Аристотель указывает, что основная причина трудностей, в которых запутался Платон со своей теорией «идей», состоит в абсолютном обособлении общего от единичного и в противопоставлении их друг другу. По Аристотелю, «повод к этому дал Сократ своими «определениями». Однако Сократ, во всяком случае, не отделил общее от единичного. И тем, что не отделил, «помыслил об этом правильно». [18] Аристотель соглашается с тем, что, с «одной стороны, без общего невозможно получить знание» [там же, с. 144]. Но с другой стороны, отделение общего от единичного «является причиной затруднений, происходящих с идеями» [там же]. В позднейший период своей деятельности Платон испытал влияние пифагорейцев и сам стал оказывать на них влияние. В космологических построениях «Тимея» близость Платона к пифагорейцам граничит, как отметил акад. А. Н. Гиляров, с полной нераздельностью [см. 20, с. 146]. Эта близость сказалась не только в космогонии, но и в понимании природы «идей», которые были в этот период отождествлены у Платона с числами. Аристотель подверг критике в 13-й книге «Метафизики» также и этот позднейший вариант платоновского учения об «идеях». В основе критики Аристотеля лежит взгляд на число как на абстракцию — при помощи понятия — некоторых сторон или свойств вещей. Такие абстракции существуют, но возможность их доказывает вовсе не то, что утверждают Платон и платоники: будто в идеальном мире существуют отдельные от чувственных вещей идеальные математические тела (в геометрии) и числа (в арифметике). Общие положения в математических науках, говорил Аристотель, относятся не к каким-либо обособленным предметам, существующим «помимо пространственных величин и чисел, но именно к ним…» [Мет., XIII, 3,1077 в 17–19]. Например, поскольку вещи берутся — в абстракции — «только как движущиеся, о них возможно много рассуждении — независимо от того, что каждая из таких вещей собой представляет, а также от их привходящих свойств, — и из-за этого нет необходимости, чтобы существовало что-нибудь движущееся, отдельное от чувственных вещей, или чтобы в этих вещах имелась для движения какая-то особая сущность…» [там же, XIII, 3, 1077 в 22–27]. Конечно, в известном смысле математика — наука не о чувственных предметах, но эти ее нечувственные предметы — вовсе не «идеи» Платона, пребывающие в нечувственном мире, обособленном и отдельном от чувственных вещей. Правда, предметы, которые изучает математика и которые имеют привходящее свойство быть чувственными, математика изучает не поскольку они чувственны. В этом смысле математические науки не будут науками о чувственных вещах, однако они не будут и науками об «идеях», т. е. «о других существующих отдельно предметах за пределами этих вещей» [там же, XII, 3, 1078 а 2–5]. И Аристотель вполне одобряет прием исследователя арифметики или прием геометра, которые в своих абстракциях стремятся «поместить отдельно то, что в отдельности не дано» [там же, XIII, 3, 1078 а 21–22], но которые тем не менее «говорят о реальных вещах и утверждают, что их предметы — реальные вещи» [там же, XIII, 3, 1078 а 29–30]. Аристотелевская критика и отмежевание от Платона в вопросе о природе математических предметов были высоко оценены Лениным. Говоря о трудностях, которые выдвигала перед мыслью проблема математических абстракций, Ленин находил, что 13-я книга «Метафизики» [3-я глава] «разрешает эти трудности превосходно, отчетливо, ясно, материалистически (математика и другие науки абстрагируют одну из сторон тела, явления, жизни)» [3, т.29, с. 330]. Именно этот взгляд Аристотеля на природу математических абстракций сделал его противником не только раннего, но и позднего учения Платона об «идеях», которые в это время превратились у Платона в пифагорейские числа. Но, согласно Аристотелю, никакие числа не могут быть «идеями» в платоновском смысле, а «идеи» не могут быть числами. Если, например, принять, что «идея» человека или «человек в себе» — это тройка, то в таком случае любая тройка «не является нисколько не больше человеком, чем какая угодно другая» [Мет., XIII, 7, 1081 а 11–12]. А если «идеи» — не числа, то тогда они вообще существовать не могут [см. там же, XIII, 7, 1081 а 12–13], и поместить «идеи» невозможно ни раньше чисел, ни позже их. 3. Онтология Аристотеля и учение об отношении между понятиями и чувственным бытием На пороге теоретической философии Аристотеля мы встречаем введенное им понятие субстанции. Под субстанцией Аристотель понимает бытие вполне самобытное, существующее в самом себе, но не в чем-либо ином. Как такое бытие, не способное существовать ни в чем ином, субстанция никогда не может выступать в суждении, как его предикат, или атрибут, но только как его субъект. Так как общее есть общее для множества предметов, то субстанцией, т. е. бытием вполне самобытным, оно быть не может. Поэтому субстанцией в смысле Аристотеля может быть только единичное бытие. Только оно одно самобытно в точном смысле слова. Для понимания дальнейшего аристотелевского развития учения о единичном, или субстанциальном, бытии необходимо помнить, что, ведя свой анализ независимого объективного бытия, Аристотель неуклонно имеет в виду это бытие как предмет познания, протекающего в понятиях. Другими словами, он полагает, что существующее само по себе и потому совсем независимое от сознания человека бытие уже стало предметом познания, уже породило понятие о бытии и есть в этом смысле уже бытие как предмет понятия. Если не учесть это, то учение Аристотеля о бытии может показаться более идеалистическим, чем оно есть на деле. Форма и материяПо Аристотелю, для нашего понятия и познания единичное бытие есть сочетание «формы» и «материи». В плане бытия «форма» — сущность предмета. В плане познания «форма» — понятие о предмете или те определения существующего в себе предмета, которые могут быть сформулированы в понятии о предмете. Согласно Аристотелю, то, с чем может иметь дело знание, есть только понятие, заключающее в себе существенные определения предмета. Напротив, если мы отвлечемся от понятия, то из всего содержания самого предмета останется только то, что ни в коем смысле не может уже стать предметом знания. Чтобы знание было истинным, оно, по Аристотелю, не только должно быть понятием предмета. Кроме того, самим предметом познания может быть не преходящее, не изменчивое и не текучее бытие, а только бытие непреходящее, пребывающее. Такое познание возможно, хотя отдельные предметы, в которых только и существует непреходящая сущность, всегда будут только предметами преходящими, текучими. Однако такое познание может быть только познанием или понятием о «форме». Эта «форма» для каждого предмета, «формой» которого она является, вечна: не возникает и не погибает. Допустим, мы наблюдаем, как, например, глыба меди становится статуей, получает «форму» статуи. Это нельзя понимать так, словно «форма», т. е. известное мыслимое нами очертание, возникла здесь впервые. Это следует понимать только так, что предмет (материал меди) впервые принимает очертание, которое как таковое никогда не возникало. Очертание это становится «формой» данной глыбы меди, но «форма» сама по себе не возникает здесь как «форма (morfh)». Таким образом, в «форме» Аристотеля соединяются вечность и общность. Установление этих определений «формы» дает возможность продолжить исследование субстанции, или самобытного единичного бытия. Предыдущим выяснено, что «форма» — общее, реально же единичное. Поэтому для того, чтобы «форма» могла стать «формой» такого-то единичного или индивидуального предмета, необходимо, чтобы к «форме» присоединилось еще нечто. Но если к «форме» присоединится нечто, способное быть выраженным посредством определенного понятия, то это вновь будет «форма». Отсюда Аристотель выводит, что присоединяемый к «форме» новый элемент может стать элементом субстанции только при условии, если он будет совершенно «неопределенным субстратом» или «неопределенной материей». Это тот субстрат (материя), в котором общее («форма») впервые становится определенностью другого бытия. Сказанным Аристотель не ограничивается. Он раскрывает в подробностях свое понимание процесса, посредством которого в отдельных предметах чувственного мира возникают новые свойства или в которых «материя» принимает в себя «форму». Всякий предмет, приобретающий новое свойство, которое может быть выражено в новом определении, до этого приобретения, очевидно, не имел этого свойства. Поэтому, чтобы ответить на вопрос, что такое «материя», или «субстрат», необходимо уяснить следующее: «материя» есть, во-первых, отсутствие («лишенность», «отрицание») определения, которое ей предстоит приобрести как новое определение. Иначе говоря, «материя ('ulh)» — «лишенность» «формы». Однако понятие «материи» не может быть сведено как к единственной характеристике к «лишению» или к «отсутствию» формы, к «отрицанию» формы. Когда в «материи» возникает новая определенность, новая «форма», например, когда глыба меди превращается в медный шар или в медную статую, то основанием этой новой определенности не может быть простое отсутствие («лишение» — отрицание) формы шара или формы статуи. С другой стороны, новая «форма» возникает в «материи», которая не имела ранее этой «формы». Отсюда следует, заключает Аристотель, что «материя» — нечто большее, чем «лишенность» («отсутствие»). Откуда же берется в «материи» новая «форма»? «Форма» эта, отвечает Аристотель, не может возникнуть, во-первых, из бытия. Если бы она возникала из бытия, то в таком случае нечто, возникающее как — новое, возникающее впервые, существовало бы еще до своего возникновения. Но «форма» эта, во-вторых, не могла возникнуть и из небытия: ведь из небытия ничто произойти не может. Выходит, что то, из чего возникает «форма», не есть ни отсутствие «формы», ни уже возникшая, действительная «форма», а есть нечто среднее между отсутствием («лишенностью») «формы» и «формой» действительной. Это среднее между отсутствием бытия и действительным бытием есть, согласно Аристотелю, бытие «в возможности» (dunamei). Стало быть, действительным, по Аристотелю, становится только то, что обладало «возможностью» стать действительным. И Аристотель поясняет свою мысль примером. Человек, ранее бывший необразованным, сделался образованным. Но образованным он стал не потому, что он был необразован, не вследствие «лишения» или «отсутствия» образованности, а потому, что человек этот обладал «возможностью» (способностью) стать образованным. Но если это так, то необходимо признать, что «материя» («субстрат», to upokeimenon) заключает в себе два определения: 1) отсутствие «формы», которая в ней возникнет впоследствии, и 2) возможность этой «формы» как уже действительного бытия. Первое определение («лишенность») всего лишь отрицательное, второе («возможность») — положительное. В отличие от «материи», которая есть бытие «в возможности», «форма» есть «действительность» (energeia), т. е. осуществление возможного. В свою очередь Аристотель различает в понятии «материя» (субстрата) два значения. Под «материей» он разумеет, во-первых, субстрат в безусловном смысле. Это только «материя», или, иначе, чистая возможность. И во-вторых, под «материей» он понимает и такой субстрат, который уже не только возможность, но и действительность. Различие этих понятий Аристотель поясняет, рассматривая примеры производства — ремесленного и художественного. Рассмотрим, например, сделанный медником медный шар или изваянную скульптором медную статую. И этот шар и эта статуя существуют в действительности. Но что же в них будет собственно «действительным»? И о статуе и о шаре у нас имеются понятия, и каждое из них есть совокупность известных признаков. Если мы считаем статую и шар действительными, то мы приписываем действительность их понятиям. Однако ни шар, ни статуя — не понятия. Приписывая им действительность, мы рассматриваем их не в отвлечении от действительности (как Платон рассматривал свои «идеи»), а как понятия, реализованные в самой действительности, в определенной «материи», в определенном «субстрате». Каким же образом следует мыслить эту «материю» («субстрат») в случае медной статуи или медного шара? Очевидно, «материя», ставшая шаром (статуей), есть в этом случае именно медь. Теперь отвлечемся от понятия шара (шаровидности) как от «формы». По отвлечении останется «отсутствие» («лишение») этой «формы». Совершенно очевидно, что шар сделало именно шаром вовсе не «отсутствие» формы шаровидности. Опыт медника доказывает, что из меди может быть отлит шар. Выходит, стало быть, что, хотя по отвлечении от формы шаровидности медь есть не шар, она все же возможность шара, или шар «в возможности», иначе — возможность той действительности, какой будет существующий, уже сделанный шар. До сих пор мы рассматривали медь, медную глыбу в качестве «материи» для шара. Но это не единственный способ рассмотрения меди. Мы можем, рассматривая медь, совершенно отвлечься от мысли о шаре и поставить вопрос: а что есть эта медь сама по себе, независимо от того, что из нее может быть сделан шар? Первый ответ на поставленный вопрос будет: «это — медь». Говоря это, мы рассматриваем медь уже не как возможность для чего-то другого (шара, статуи и т. д.), а как реальность. Понятию меди мы, таким образом, приписали действительность. Но медь — не понятие только. Медь как медь существует в каком-то веществе. Следовательно, для понятия меди, принятого как действительность, необходимо указать «материю», в которой это понятие осуществляется, в которой оно становится действительным. Для отыскания и указания этой «материи» Аристотель опирается на традицию греческой физики. Начиная с Эмпедокла, эта физика утверждала, что все возникающие и разрушающиеся материальные предметы представляют собой разные сочетания четырех вечных, невозникающих элементов — огня, воздуха, воды и земли. Стало быть, если глыба меди — действительность («форма»), то «материей» для этой действительности будет некоторое определенное сочетание четырех физических элементов. В качестве «материи» для «формы» меди эти четыре элемента, во-первых, «отсутствие» («лишенность») меди: они еще не медь; во-вторых, они — «возможность» меди: ведь из этого их сочетания может возникнуть медь. Но и на этом рассмотрение не заканчивается. Сочетание четырех физических элементов — не только «материя» для иной действительности. Элементы эти, взятые сами по себе, по отвлечении от мысли о меди, составляют особую и самобытную действительность. В этом качестве они обладают особыми, принадлежащими им свойствами. Понятие о них слагается из признаков, которые существуют не только в нашей мысли как признаки понятия, но в качестве свойств существуют и осуществляются в какой-то «материи». Таким образом, и на этой ступени анализа мы обнаружим сочетание «формы» и «материи». Четыре физических элемента обладают и «формой», так как они образуют понятие об элементах, реализующееся в некоторой «материи», и должны, кроме того, обладать «материей», так как и для них должен существовать некий «субстрат». Что же это за «субстрат»? Если мы отвлечемся от понятия о четырех физических элементах как о действительности, то этот «субстрат» опять-таки есть, во-первых, «отсутствие» («лишение») признаков, входящих в понятие об элементах, и, во-вторых, возможность осуществления этих признаков, этого понятия. И здесь первый момент «субстрата» — отрицательный, второй — положительный. Можем ли мы продолжить этот «спуск» по ступеням абстракции вдоль сочетаний «форма» — «материя»? Для Аристотеля, который мыслит в этом вопросе, как настоящий грек, дальнейшее нисходящее движение здесь уже невозможно. «Материя», из которой возникают четыре физических элемента, не обладает уже никакими определенными признаками. Поэтому природа этой «материи» не может быть выражена ни в каком понятии. Но это значит, согласно Аристотелю, что «субстрат» четырех физических элементов — уже не есть действительность и потому не может рассматриваться как действительность. Он может существовать и существует только как «материя», только как «возможность» другой, какой угодно, любой действительности. На изложенных соображениях основывается важное для Аристотеля различие первой и последней материи. «Последняя» материя, согласно разъяснению Аристотеля, — это та «материя», которая не только есть возможность известной «формы», но, кроме того, будучи такой возможностью, есть одновременно и особая «действительность». «Последняя» материя обладает своими особыми, ей одной принадлежащими, признаками, и относительно нее может быть высказано ее определение, может быть сформулировано ее понятие. Так, рассмотренные выше медный шар, медь, четыре физических элемента — примеры «последней» материи в аристотелевском смысле. О них существуют понятия, содержащие каждое некоторую сумму особых признаков. В отличие от «последней» материи, «первая» материя есть «материя», которая может стать действительностью, однако не так, как становится ею «последняя» материя. Мы видели, что в случае «последней» материи по отвлечении от действительности (шара, меди, четырех физических элементов) то, что мы отвлекали от нее, — медь по отношению к шару, четыре элемента по отношению к меди — само по себе было некоторой действительностью. Напротив, «первая» материя вовсе не может уже рассматриваться как «действительность». Она есть только «возможность», может стать какой угодно «действительностью», но сама по себе не есть никакая «действительность». Согласно Аристотелю, «первая» материя нигде и никогда не может восприниматься посредством чувств: она только мыслится и есть поэтому «неопределенный субстрат». Здесь естественно сопоставить это учение Аристотеля о «первой» материи с учением о «материи» Платона. Как мы видели, Платон противопоставил «идей» как мир бытия миру небытия. Под «небытием», принимающим на себя «идеи» и раздробляющим единство каждой из них во множество, Платон имел в виду именно «материю». По Платону, познание может быть только относительно бытия, т. е. «идей». Что касается небытия («материи»), то к мысли о нем ведет, по Платону, только какой-то незаконный род рассуждения. Аристотель пытается точно определить этот род рассуждения. Он утверждает, что для получения понятия о «первой» материи пригодна аналогия: подобно тому как «материя» меди («последняя» материя) относится к «форме» статуи, которая отлита из меди, так «первая» материя относится ко всякой «форме», которая может из нее произойти. Запишем эти отношения в виде пропорции: «материя» меди: «форма» статуи = Х: любая «форма». В этой пропорции третий член (X) есть «первая» материя. Хотя он неизвестен, все же он не совершенно непостижим для мысли: его отношение ко всякой «форме» аналогично отношению, которое имеется между глыбой меди и медной статуей. Весь предыдущий анализ был развитием понятия Аристотеля о единичном бытии, или, иначе, о субстанции. Элементами субстанции оказались «форма» и «материя». Все (кроме «первой» материи) состоит из «формы» и «материи». Поэтому можно характеризовать аристотелевский мир, сказав, что мир есть совокупность субстанций, каждая из которых — некоторое единичное бытие. Но эта характеристика аристотелевского мира совершенно недостаточна. Коренные свойства мира, кроме указанных, — движение и изменение. Поэтому возникает вопрос: достаточно ли для объяснения движения и изменения одних лишь «формы» и «материи»? Все ли существующее в мире может быть выведено из этих начал или кроме них существуют и должны быть введены в познание еще другие? И если существуют, то каковы они? Учение о четырех причинахДля ответа на поставленный здесь вопрос Аристотель рассматривает все, чему учили известные ему философы — древние и его современники, — о началах бытия и мира. Рассмотрение это, полагает он, показывает, что история исследовавшей этот вопрос мысли выдвинула — правда, не одновременно, но в лице разных философов и в разные времена — четыре основных начала, или четыре основные причины. Если иметь в виду понятия об этих причинах, то можно сказать, что ими были: 1) «материя» — то, в чем реализуется понятие; 2) «форма» — понятие или понятия, которые принимаются «материей», когда происходит переход от возможности к действительности; 3) причина движения; 4) цель, ради которой происходит известное действие. Например, когда строится дом, то «материей» при этом процессе будут кирпичи «формой» — самый дом, причиной движения, или действующей причиной, — деятельность архитектора, а целью — назначение дома. Перечисление четырех причин Аристотель развивает во 2-й главе 5-й книги «Метафизики» (1013 а 24 — 1013 в 3). «Причина в одном смысле, — говорит Аристотель, — обозначает входящий в состав вещи материал, из которого вещь возникает, — каковы, например, медь для статуи и серебро для чаши, а также их более общие роды. В другом смысле так называется форма и образец, иначе говоря — понятие сути бытия и более общие роды этого понятия (например, для октавы — отношение двух к одному и вообще число), а также части, входящие в состав такого понятия. Далее, причина, — это источник, откуда берет первое свое начало изменение или успокоение: так, например, человек, давший совет, является причиною, и отец есть причина ребенка, и вообще то, что делает, есть причина того, что делается, и то, что изменяет — причина того, что изменяется. Кроме того, о причине говорится в смысле цели; а цель, это — то, ради чего, — например, цель гулянья — здоровье. В самом деле, почему [человек] гуляет, говорим мы. Чтобы быть здоровым. И сказавши так, мы считаем, что указали причину» [7, с. 79]. Установив, таким образом, существование четырех причин всего совершающегося, Аристотель ставит вопрос, какие из них основные и несводимые и какие могут быть сведены одни к другим. Анализ вопроса приводит Аристотеля к выводу, что из всех четырех причин существуют две основные, к которым сводятся все прочие. Эти основные и уже ни на что далее несводимые причины — «форма» и «материя». Так, целевая причина сводится к формальной причине, или к «форме». И действительно. Всякий процесс есть процесс, движущийся к некоторой цели. Однако если рассматривать не те предметы, которые возникают в результате сознательной целевой деятельности человека, а предметы, которые возникают независимо от этой деятельности как естественные предметы природы, то для этих предметов цель, к которой они стремятся, есть не что иное, как действительность, существующая в них как возможность. Так, можно рассматривать рождение человека как осуществление понятия о человеке. Это понятие коренится в качестве возможности в «материи», или в веществе, из которого состоит человек. Сведение «целевой» причины к «форме», или к осуществленной действительности, возможно для Аристотеля потому, что его учение о «цели», или «телеология», есть телеология не только естественная, осуществляющаяся в процессах самой природы независимо от человека, но, кроме того, телеология объективная. В этом новое понятие о телеологии, достигнутое Аристотелем в сравнении с его предшественниками: Сократом и Платоном. У Сократа (каким его, по крайней мере, изображает Платон) был замысел объективной телеологии, поскольку он рассматривал мир как целесообразное образование. Этим объясняется его полемика с Анаксагором. Однако в реализации этого замысла Сократ сходит с пути объективной телеологии и во множестве частных исследований рассматривает исключительно субъективную телеологию: целесообразную деятельность ремесленников и художников. Более того. Согласно представлениям Сократа, окружающие человека предметы имеют ту или иную природу только потому, что, обладая этой природой, они могут быть полезны человеку. У Платона еще яснее, чем у Сократа, выступает замысел объективной телеологии, но и Платон, как Сократ, сбивается, на путь субъективного толкования целесообразности. Только у Аристотеля впервые телеология становится последовательно объективной. По Аристотелю, способность предметов быть полезными (или вредными) для человека по отношению к самим этим предметам есть нечто случайное и внешнее. Предметы обладают не данной или предписанной им извне целью, а сами, в самих себе, объективно имеют цель. Состоит она в реализации, или в осуществлении «формы», понятия, таящегося в них самих. Но это и значит, что «цель» сводима к «форме» — к действительности того, что дано как возможность в «материи» предметов. Так же сводима к «формальной» причине, или к «форме», и движущая причина («начало изменения»). И этой причиной предполагается понятие о предмете, ставшее действительностью, или «форма». Так, архитектор может быть назван действующей причиной дома. Однако так назван он может быть лишь при условии, если он строит дом согласно плану, или проекту, который как понятие существует в его мысли до возникновения реального дома. Выходит, что и причина движения и изменения — не основная и не несводимая: она также сводима к «форме», ибо понятие о предмете, осуществленное в веществе («материи»), и есть форма. В этом учении Аристотеля нетрудно заметить различие в понимании «формы» и «материи» в зависимости от того, идет ли речь об объяснении существующего в мире движения или об объяснении неподвижного бытия. В обоих случаях необходимо сведение всех четырех причин к «форме» и «материи». Если рассматриваются отдельные предметы, то под «формой» и «материей» необходимо понимать просто то, из чего состоят эти предметы, иначе — их элементы. Например, для кирпичей «материя» — глина, а «форма» — вылепленные из глины тела, из которых может быть построен дом. Но в «форме» и «материи» можно видеть не только элементы отдельных — природных или создаваемых человеком — предметов. В «форме» и «материи» следует видеть также причины или принципы, исходя из которых мог бы быть объяснен весь мировой процесс в его целом. При таком объяснении под «материей» еще можно разуметь то, что подвергается изменениям, но «форму» в качестве «начала движения» уже нельзя определять как то, чего мир еще только достигает в своем процессе движения. Это невозможно, так как движение не может быть произведено такой формой, которая еще не осуществлена. Понятая в качестве «начала движения», форма должна быть «формой» уже осуществленной. Если же предмет должен впервые получить свою «форму» посредством движения, но в действительности еще не обладает «формой», то это значит, что в этом случае «форма» должна необходимо существовать в каком-либо другом предмете. Если рассматриваются уже не отдельные предметы природы, а вся природа в целом или весь мир в целом, то для объяснения его необходимо допустить существование, во-первых, «материи» мира и, во-вторых, «формы» мира, пребывающей, однако, вне самого мира. ПерводвигательНо это ведет к вопросу о том, возник ли мир во времени и может ли он погибнуть во времени. Уже было установлено, что возможность движения, наблюдающегося в мире, предполагает: 1) существование «материи» и 2) существование «формы», осуществленной в «материи». Но из этих положений, по Аристотелю, следует, что мир — бытие вечное. Доказывается это просто. Допустим, что был некогда момент, когда движение впервые началось. Тогда возникает альтернатива, т. е. необходимо признать одно из двух: 1) или что «материя» и «форма» уже существовали — до момента начала первого движения или 2) что они до этого момента не существовали. Если они не существовали, то тогда необходимо утверждать, что и «материя», и «форма» возникли предварительно. А так как возникновение невозможно без движения, то при сделанном допущении получаем нелепый вывод, будто движение существовало до начала движения. Если же «материя» и «форма» уже существовали до момента начала первого движения, то тогда неизбежен вопрос: в силу какой причины «материя» и «вещество» не породили движения раньше, чем оно возникло в действительности? Такой причиной могло быть только существование какого-то препятствия к движению, помехи или задержки. Однако все это — препятствие, помеха, задержка — может быть, в свою очередь, только движением. Выходит, стало быть, что вновь необходимо предположить, будто движение существовало еще до начала какого бы то ни было движения. Итак, оба члена альтернативы привели к противоречию, к абсурдному выводу. По Аристотелю, существует лишь один способ устранить это противоречие: необходимо допустить, что происходящее в мире движение не только не имеет начала, но не имеет и конца, т. е. что оно вечно. В самом деле, чтобы представить, что совершающийся в мире процесс движения когда-то, в какой-то определенный момент времени прекратится, необходимо допустить, что мировое движение будет прервано каким-то другим движением. Но это значит, что мы предполагаем возможность движения после полного прекращения всякого движения. Доказательство вечного существования мира и вечного существования мирового движения необходимо ведет к предположению вечной причины мира и вечного двигателя мира. Этот вечный двигатель есть в то же время первый двигатель (перводвигатель) мира. Без первого двигателя не может быть никаких других двигателей, не может быть никакого движения. Как вечная и невозникшая причина мирового процесса, как причина всех происходящих в мире движений перводвигатель мира есть, согласно мысли Аристотеля, бог. Здесь онтология и космология Аристотеля сливаются с его теологией, или богословием. Именно за эту сторону учения Аристотеля ухватились мусульманские и христианские богословы: они пришли к решению использовать — и использовали — учение Аристотеля, чтобы подвести философскую основу под догматы мусульманской и христианской религии. Свои определения свойств божества Аристотель выводит не из религиозной догматики, которой у греков не было, а из анализа понятия перводвигателя. Если можно так выразиться, бог Аристотеля — не мистический, а в высшей степени «космологический»; само понятие о нем выводится весьма рационалистическим способом. Ход мысли Аристотеля таков. Предметы, рассматриваемые относительно движения, могут быть троякой природы: 1) неподвижные; 2) самодвижущиеся и 3) движущиеся, но не спонтанно, а посредством других предметов. Перводвигатель, как это следует из самого его определения или понятия о нем, не может приводиться в движение ничем другим. В то же время перводвигатель не может быть и самодвижущимся. В самом деле. Если мы рассмотрим понятие о самодвижущемся предмете, то в нем необходимо будет различить два элемента: движущий и движимый. Поэтому в перводвигателе, если он самодвижущееся бытие, необходимо должны быть налицо оба названных элемента. Но тогда очевидно, что подлинным двигателем может быть только один из обоих элементов, а именно — движущее. Рассмотрим теперь движущее. Относительно этого элемента так же необходимо возникает вопрос: как необходимо понимать движущее, будет ли оно самодвижущимся или неподвижным. Если оно будет самодвижущимся, то первым двигателем вновь будет движущий элемент и т. д. Рассуждение продолжается, пока мы не придем, наконец, к понятию неподвижного перводвигателя. Но существуют, по Аристотелю, и другие основания, в силу которых перводвигатель должен быть мыслим только как неподвижный двигатель. Астрономические наблюдения неба так называемых неподвижных звезд во времена Аристотеля, когда не существовало еще высокоточных способов для наблюдения изменений в угловом расстоянии между звездами, приводили к выводу, будто мир движется непрерывным и равномерным движением. Напротив, самодвижущиеся предметы, а также предметы, движимые другими предметами, не могут быть источником непрерывных и равномерных движений. В силу этого соображения — таков вывод Аристотеля — перводвигатель мира должен быть сам неподвижным. Из неподвижности перводвигателя мира Аристотель выводит как необходимое свойство бога его бестелесность. Всякая телесность, или материальность есть возможность иного бытия, перехода в это иное, а всякий переход, по Аристотелю, есть движение. Но бог, он же перводвигатель, — неподвижное бытие; следовательно, бог необходимо должен быть бестелесным. Нематериальностью, или бестелесностью, неподвижного перводвигателя обосновывается новое важное его свойство. Как нематериальный, бог (неподвижный перводвигатель) никоим образом не может быть мыслим как бытие в возможности, не может быть ни для чего субстратом. Чуждый возможности, бог есть всецело действительность, и только действительность, не «материя», а всецело «форма», и только «форма». Но откуда может возникнуть у нас понятие о такой чистой «форме», если все предметы мира, с которыми мы имеем дело в нашем опыте, всегда есть не чистая «форма», а сочетание «формы» с «материей»? Как и в других вопросах своего учения о бытии и о мире, Аристотель ищет ответ на этот вопрос при посредстве аналогии. Чтобы получить понятие о чистой действительности, или о чистой «форме», необходимо, как утверждает он, рассмотреть совокупность вещей и существ природного мира. Объективный идеалист в своем философском учении о бытии, Аристотель рассматривает мир как определенную градацию «форм», которая есть последовательное осуществление понятий. Каждый предмет материального мира есть, во-первых, «материя», т. е. возможность или средство реализации своего понятия, и, во-вторых, «форма», или действительность этой возможности, или осуществление понятия. Наивысшее существо материального мира — человек. Как в любом другом предмете этого мира, в человеке следует видеть соединение «материи», которой в этом случае будет тело человека, с «формой», которой будет его душа. Как «материя» тело есть возможность души. Но и в душе должны быть налицо как высший элемент, так и низшие. Высший элемент души — ум. Это последняя действительность, и возникает она из низших функций души как из возможности. Аристотель переносит результаты этого рассуждения по аналогии на своего бога. Так как бог, по Аристотелю, — наивысшая действительность, то бог есть ум (NouV). В этом уме необходимо различать активный и пассивный элементы. Активный элемент сказывается, когда мысль есть мысль деятельная. Но высшая деятельность мысли, по Аристотелю, — деятельность созерцания. Стало быть, будучи умом и высшей действительностью, ум бога есть ум, вечно созерцающий. Что же он созерцает? Для ответа на этот вопрос Аристотель вводит различение двух видов деятельности. Человеческая деятельность может быть либо теоретической, либо практической. Теоретическая направлена на познание, практическая — на достижение целей, находящихся вне самого деятеля и его деятельности. По Аристотелю, мысль перводвигателя есть мысль теоретическая. Если бы его мысль была практическая, то она должна была бы полагать свою цель не в себе, а в чем-либо ином, внешнем. Такая мысль не была бы мыслью самодовлеющей, была бы ограниченна. Итак, бог, или перводвигатель, есть созерцающий чистый ум. Но если бог как высшая форма породил вечный процесс движения, происходящий в мире, то это не значит, будто бог направляется в своей деятельности на нечто, существующее вне его. Если бы дело обстояло таким образом, то в боге уже нельзя было бы видеть только ум, или чистый ум. Дело в том, что, по учению Аристотеля, «материя» есть лишь возможность «формы». Но это значит: для возникновения движения нет необходимости, чтобы высшая форма оказывала на движение активное непосредственное воздействие. Достаточно, чтобы высшая «форма» просто существовала сама по себе, и «материя», уже в силу одного этого существования, необходимо должна испытывать стремление и потребность к реализации «формы». Именно поэтому бог, как его понимает Аристотель, есть цель мира и всего мирового процесса, есть форма всех форм. Дальнейшее определение природы бога Аристотель выводит из того, что бог есть мысль. Но качество мысли определяется качеством ее предмета. Наиболее совершенная мысль должна иметь и предмет наиболее совершенный. А так как, по Аристотелю, самый совершенный предмет — совершенная мысль, то бог есть мышление о мышлении, иначе — мышление, направленное на собственную деятельность мышления. Таким образом, бог есть высшая, или чистая, «форма»; действительность, к которой не примешивается ничто материальное, никакая возможность; чистое мышление, предмет которого — его собственная деятельность мышления. Учение это — учение объективного идеализма и вместе с тем теология. Принципиальная основа философии Аристотеля та же, что и у Платона. У Платона высшее бытие — объективно существующие бестелесные формы, или «идеи» («виды»). У Аристотеля высшее бытие — единая и единственная божественная бестелесная «форма», «чистый» беспримесный ум, мыслящий собственную деятельность мышления. В то же время объективный идеализм Аристотеля имеет более рационалистический характер. Высшее бестелесное бытие Платона — «идея» блага, представляющая идеализм Платона в этическом свете; высшее бестелесное бытие Аристотеля — «ум». Бог Аристотеля — как бы идеальный величайший и совершеннейший философ, созерцающий свое познание и мышление, чистый теоретик. Такое учение — очень опосредствованное, отдаленное, но несомненное отражение общественной основы, на которой оно возникло. Основа эта — развитое рабовладельческое — общество, резкое отделение умственного труда от физического, захват рабовладельцами привилегии на умственный труд, отделение теории от практики, науки от техники и практики, созерцательный характер самой науки, преобладание в ней умозрения и созерцательного наблюдения над экспериментом. 4. Физика и космология Аристотеля Характер философского учения Аристотеля о бытии отразился и на его физическом учении, а также на его космологии. Однако при наличии очень тесной связи между ними идеалистическая основа сказывается в физике и в философии природы Аристотеля (в его «натурфилософии») не столь непосредственно и сильно, как в его онтологии. Обстоятельство это проницательно отметил В. И. Ленин как раз по поводу учения Аристотеля о боге как о чистой форме и уме. «Идеализм Аристотеля Гегель видит, — так писал В. И. Ленин, — в его идее бога. ((Конечно, это — идеализм, но он объективнее и отдаленнее, общее, чем идеализм Платона, а потому в натурфилософии чаще = материализму.))» [3, т. 29, с. 255]. Как ученый, Аристотель разработал основы своей физики, опираясь на хорошо знакомую ему древнюю традицию греческой физики, в том числе на результаты физики Эмпедокла, на его учение о четырех элементах. У Анаксагора он одобрял и мог почерпнуть естественнонаучное объяснение явлений природы, в том числе затмений Солнца и Луны, но общий дух физики Анаксагора, вполне механистический, враждебный представлениям о целесообразности, должен был остаться для Аристотеля чуждым и неприемлемым. Учение о движенииВ физике Аристотель видит учение бытии материальном и подвижном. Оба эти свойства он сводит к единству, ибо считает, что материальный предмет есть предмет подвижный, а движущееся не может не быть движущимся предметом, т. е. чем-то материальным. Аристотель развивает специальный анализ понятия о движущемся. Анализ показывает, что в основе понятия о движущемся лежит: 1) понятие о движении и 2) понятие о находящемся в движении, или о движущемся. Как это было сделано им при определении числа и вида причин, Аристотель и в своем учении о движении принимает во внимание все добытое по этому вопросу его предшественниками — людьми повседневного опыта и философии. И те, и другие указали, что возможны только четыре вида движения: 1) увеличение и уменьшение; 2) качественное изменение, или превращение; 3) возникновение и уничтожение и 4) движение как перемещение в пространстве. Подобно тому как при исследовании видов причин был поставлен вопрос о причинах взаимно сводимых и несводимых, так и при исследовании проблемы движения Аристотель задается вопросом, какой из четырех видов движения — главный, несводимый к остальным. Таково, по Аристотелю, движение в пространстве: именно оно — условие всех остальных видов движения. Например, когда предмет увеличивается, это значит, что к нему приближается и с ним соединяется какое-то другое вещество; преобразуясь, оно становится веществом увеличивающегося предмета. И точно так же, когда предмет уменьшается, это значит, что от этого предмета удаляется, перемещаясь в пространстве, какая-то часть его вещества; преобразуясь, она становится веществом другого предмета. Стало быть, и увеличение, и уменьшение предполагают в качестве необходимого условия перемещение в пространстве. Но то же самое приходится сказать и относительно превращения, или качественного изменения. Если в предмете изменяется его качество, то причиной изменения или превращения может быть, по Аристотелю, только соединение изменяющегося предмета с тем предметом, который производит в нем изменение. Но условием соединения может быть только сближение, а сближение означает движение в пространстве. Наконец, движение в пространстве есть также условие и третьего вида движения — возникновения и уничтожения. Продолжая развивать мысль Эмпедокла и Анаксагора, Аристотель разъясняет, что в точном и строгом смысле слова ни возникновение, ни уничтожение не возможны: «форма» вечна, не может возникать, и точно так же «материя» не возникает и никуда не может исчезнуть. То, что люди неточно называют «возникновением» и «уничтожением», есть лишь изменение, или переход одних определенных свойств в другие. От качественного изменения, или превращения, этот переход отличается только одним: при качественном изменении изменяются и превращаются случайные свойства; напротив, при возникновении и уничтожении превращаются свойства родовые и видовые. Но это и значит, что условием возникновения и уничтожения является движение в пространстве. Так доказывается, будто основной вид движения — перемещение тел в пространстве, или пространственное движение. Тезис этот доказывается у Аристотеля и другим способом Из всех видов движения только движение в пространстве, продолжаясь в вечность, может оставаться непрерывным. Но как раз таким и должен быть, по Аристотелю, основной вид движения. Так как первая причина есть бытие вечное и единое, то и движение, источником которого является первопричина, должно быть непрерывным. Но именно это свойство, доказывает Аристотель, не может иметь качественного изменения. Такое изменение всегда есть переход данного качества в иное. В тот момент, когда переход этот произошел, процесс перехода оказывается уже завершенным, т. е. процесс этот прерывается, утрачивает свойство непрерывности. И дело, по Аристотелю, ничуть не меняется оттого, что за одним переходом данного качества в иное качество может последовать переход, в свою очередь, этого нового качества в свое иное или даже может последовать множество таких, все новых, переходов. Всякий новый переход будет и новым процессом, и даже неопределенно долго длящаяся смена качеств остается все же прерывистой, постоянно вновь и вновь прерывающейся сменой отдельных процессов. Но увеличение и уменьшение, а также возникновение и уничтожение представляют собой, как показано, процессы качественного изменения; каждый из них — процесс завершенный и прерывающий начавшееся движение. В то же время в мире обнаруживается существование вечного и непрерывного движения. Так как таким движением не может быть качественное изменение, или превращение, то основным мировым движением может быть только движение в пространстве. Этим результатом Аристотель не ограничивается. Он исследует само движение в пространстве, выясняет его: виды. Этих видов, согласно его анализу, всего три. Движение в пространстве может быть: 1) круговым, 2) прямолинейным и 3) сочетанием движения прямолинейного с круговым. В отношении каждого вида необходимо выяснить, может ли он быть непрерывным. Так как третий из этих видов движения смешанный, или составленный из кругового и прямолинейного, то решение вопроса о том, может ли он быть непрерывным, очевидно, зависит от того, могут ли быть непрерывными, каждое в отдельности, движение круговое и прямолинейное. Из посылок своей космологии, или астрономического учения, Аристотель выводит, что прямолинейное движение не может быть непрерывным. По Аристотелю, мир имеет форму шара, радиус которого — величина конечная. Поэтому если бы основным движением в мире было движение прямолинейное, то такое движение, дойдя до предела мирового целого, необходимо должно было бы прекратиться. Не исключено, разумеется, предположение, что, дойдя до крайнего предела мировой сферы, или неба неподвижных звезд, прямолинейное движение могло бы пойти в обратном направлении, затем, по достижении периферии, вновь перейти в обратное и т. д. до бесконечности Такое движение, конечно, было бы бесконечным, но непрерывным оно все же не было бы: ведь перед каждым новым поворотом старое движение будет заканчиваться и после поворота будет начинаться уже как новое движение. Теперь остается исследовать движение круговое. По Аристотелю, это самый совершенный из всех видов движения. Во-первых, круговое движение может быть не только вечным, но и непрерывным. Во-вторых, если некоторое целое движется круговым движением, то, находясь в таком движении, оно одновременно может оставаться и неподвижным. Как раз это имеет место в нашей Вселенной: шаровидная Вселенная движется вечным круговым движением около своего центра. Однако, несмотря на то, что все части мирового шара, кроме центра, находятся в движении, во все бесконечное время этого движения пространство, занимаемое миром, остается одним и тем же. В-третьих, круговое движение может быть равномерным. Для прямолинейного движения свойство это, согласно физике Аристотеля, невозможно: если движение предмета прямолинейное, то чем более приближается предмет к естественному месту своего движения, тем быстрее становится само его движение. При этом Аристотель ссылается на данные наблюдений, которые показывают, что всякое тело, брошенное кверху, падает на Землю, и притом сначала движение его падения медленное, но затем все убыстряется по мере приближения к Земле. Учение Аристотеля о движении в пространстве как об основном из четырех видов движения не привело Аристотеля к сближению с атомистическими материалистами. Левкипп и Демокрит, как было показано, полагали, будто в основе всех воспринимаемых нашими чувствами качеств лежат пространственные формы и пространственные конфигурации движущихся в пустоте атомов. Теория эта исключала возможность качественного превращения одних свойств в другие. Она провозглашала эти превращения результатом недостаточной проницательности наших ощущений и чувств, не «доходящих» до созерцания атомов с их единственно объективными различиями по фигуре, по положению в пространстве и по порядку друг относительно друга. Для Аристотеля это воззрение было неприемлемо. Несмотря на всю роль, какую в космологии Аристотеля играет пространственное движение, физика Аристотеля остается в своей основе не количественной, а качественной. Аристотель утверждает реальность качественных различий и реальность качественного превращения одних физических элементов в другие. В сравнении с атомистами и элеатами Аристотель больше доверяет той картине мира, которую рисуют наши чувства. Наши чувства показывают — и нет основания не доверять им, — что в результате изменения тел в них возникают новые качества, которые не могут порождаться вследствие одного лишь перемещения их частиц в пространстве. Когда, например, нагретая вода превращается в пар, она увеличивается в объеме. Если пар был бы тем же телом, что и вода, то такое превращение было бы невозможно. Кто отрицает возможность качественных превращений, тот не может объяснить повсюду и постоянно наблюдаемого влияния, которое предметы оказывают друг на друга. Одно лишь нахождение в пространстве одних тел вблизи других само по себе не способно объяснить происходящего между ними взаимодействия. Высказывалась гипотеза, будто предметы пористы, или сквозисты, и будто потоки частиц могут поэтому, направляясь из пор одного тела, проникнуть в поры другого тела. Однако указанное затруднение этой гипотезой не устраняется: в случае гипотезы пор частицы мыслятся только как находящиеся друг подле друга — так же как ранее предполагалось, что взаимодействующие тела также находятся вблизи друг от друга. Невозможность вывести реальный факт взаимодействия из рядоположности тел и частиц в пространстве остается в силе в обоих случаях. Физическим теориям атомистов и элеатов Аристотель противопоставляет свою, физические основы которой опираются на его философское учение о возможности и действительности. Так как, по Аристотелю, «материя» — возможность «формы», то истинно и то, что «материя» есть «форма». В самой природе «материи» коренится возможность принять форму, стать формой, измениться в форму. Изменение — не результат внешнего положения тел (или их частиц) в пространстве. Для взаимодействия предметов друг с другом достаточно того, чтобы, входя в один и тот же общий для них род, предметы эти отличались друг от друга лишь видовыми признаками. От теории движения Аристотеля — естественный переход к его учению о физических элементах: понятие движения требует уяснить также и понятие о том, что движется, т. е. об элементах движения. Вопрос об элементах движения был поставлен в греческой философии до Аристотеля. Атомистические материалисты, а также Платон, который в своей физике был тоже атомистом, но идеалистическим, полагали, что в основе своей движущиеся физические элементы — формы различных фигур и различной величины. Атомисты считали свои формы телесными, Платон — бестелесными. Но все они сводили элементы к бытию с количественной, а не качественной характеристикой. Напротив, физика Анаксагора и Эмпедокла, при всех различиях между ними, признает, что элементы движения качественные. Так, частицы («семена») Анаксагора — носители каждая в отдельности всех без исключения существующих в природе качеств. Элементы («корни всех вещей») Эмпедокла — качественные. Аристотель также разработал свою физику элементов как физику качественную. Разработал он ее в полемике и против Платона, и против атомистов. Физика элементовПлатон сводил физические тела к их элементам, считая последними равнобедренные треугольники. Аристотель считает эту гипотезу совершенно неприемлемой. Треугольник, будучи плоской фигурой, не может быть, по замечанию Аристотеля, элементом тел, так как тела имеют объем, отграничивая часть объема в пространстве. Но гипотеза Платона не только несостоятельна как попытка объяснения: она, кроме того, страдает внутренним противоречием. Платон одновременно и отрицает (против атомистов) существование пустоты и сводит физические элементы к геометрическим телам. Однако последнее утверждение противоречит первому: если элементы физического мира — равнобедренные треугольники, как полагает Платон, то, как бы они ни были расположены друг относительно друга в пространстве, они не могут сплошь заполнить это пространство так, чтобы нигде между ними не оказалось пустых промежутков. Гипотеза Платона, навеянная геометрическими представлениями, несостоятельна именно как гипотеза физическая. Сводя элементы к одним лишь геометрическим формам, гипотеза Платона не способна объяснить физическое явление тяжести. Более того, она противоречит этому факту. И действительно. Если различия между элементами — только различия по форме и по величине, то из двух тел, имеющих различный объем, тело с большим объемом должно быть более тяжелым, чем тело с объемом меньшим. Например, большой объем, т. е. большое количество, огня, должен иметь больший вес, чем небольшой объем земли. Или огромный объем воздуха должен иметь больший вес, чем малый объем воды. Однако вывод этот находится, по мнению Аристотеля, в вопиющем противоречии с фактами. [19] Наконец, физическая гипотеза Платона ведет, как утверждает Аристотель, к неправильным выводам также и относительно причины движения элементов. Так как Платон свел все свойства элементов к геометрическим формам, то из этих же форм, точнее, из различий между ними, он должен выводить и различия в движении элементов. Этой гипотезе Платона Аристотель противопоставляет свою, впрочем, также совершенно ошибочную. По утверждению Аристотеля, различия в движении элементов не могут быть непосредственно обусловлены различиями их геометрических форм. Различия в движении двух тел обусловлены различиями тех мест, в которых эти тела находятся. Аристотель выдвигает как непреложную аксиому следующее утверждение: если тело находится в месте, свойственном ему по природе, то оно будет неподвижно; но если оно находится в месте, не свойственном его природе, то оно будет двигаться из места, где оно оказалось, к месту, указанному ему его природой. Это утверждение он пытается подкрепить, ссылаясь на данные наблюдения. Наша планета — Земля — неподвижна, потому что пребывает в своем естественном для нее месте — в центре Вселенной. Но если бросить ком земли вверх, то он будет двигаться, а именно падать вниз, к поверхности Земли, так как направится к своему естественному месту. Или еще. Тот огонь, который находится на периферии Вселенной, остается там неподвижным. Но тот огонь, который зажжен внизу на поверхности Земли, будет необходимо двигаться в направлении к периферии. Аристотель полемизирует по вопросам физики не только с Платоном Он также отвергает и оспаривает ряд физических воззрений и гипотез атомистов. Во-первых, он спорит с атомистами по вопросу о числе форм атомов Как нам уже известно, атомисты утверждали, будто число различных форм атомов бесконечно велико. Если бы это было так, то в таком случае, указывает Аристотель, бесконечно разнообразным было бы и число свойств, существующих в телах, и число присущих им способов движения. Этому выводу, однако, противоречит опыт: и число свойств и число способов движения тел ограниченно. Из этого своего опровержения Аристотель выводит, что существует лишь небольшое число основных форм, которые могут встретиться в телах. Во-вторых, физика атомистов предполагает, что по своей природе атомы совершенно неизменны. Но гипотеза эта, согласно Аристотелю, противоречит факту взаимодействия тел, их влияния друг на друга. Чтобы взаимодействие оказалось возможным, необходимо допустить возможность изменений в самих атомах. В-третьих, Аристотель, как метафизик, атакует понятие атомистов о самодвижении атомов. Анализ этого понятия приводит его к различению в теле двух элементов: движущего и движимого. Если в атоме обнаружилось два элемента, то атом уже не может быть безусловно неделимой частицей вещества. С другой стороны, предположить, будто один и тот же атом (который есть бытие неделимое) есть одновременно и движущее и движимое, значит допустить логически противоречивое соединение определений. В-четвертых, атомисты, так же как и Платон, не дают удовлетворительного объяснения свойства тяжести. Согласно их гипотезе, атомы сначала устремились вниз. Скорость падения каждого атома была обусловлена его тяжестью. В свою очередь, тяжесть была обусловлена его величиной. Падая с большей скоростью, более тяжелые атомы встречались с более легкими и отталкивали их снизу вверх. Таким образом, возник, по учению атомистов, вихрь атомов, из которого произошел мир. Все это построение основывается, по Аристотелю, на допущении пустого пространства. Но если пустота существовала бы, то, не имея нигде центра, она не могла бы иметь ни верха, ни низа, и падение атомов «вниз» было бы невозможно. Неверно также утверждение атомистов, будто тяжесть тела пропорциональна количеству содержащейся в нем пустоты: если бы это было так, то огромный объем Земли, в котором пустоты больше, чем в небольшом объеме огня, был бы в сравнении с огнем легче. Но допустим, что тяжесть определяется отношением между количеством атомов в теле и количеством пустоты, находящейся между атомами. Будь это так, отсюда следовало бы, что тела, различающиеся по объему, но однородные по составу, падали бы в пустом пространстве с равной скоростью. Но, по убеждению Аристотеля, опыт противоречит этому заключению: наблюдения показывают, что из однородных по составу тел быстрее падают те, у которых объем больше. Учение самого Аристотеля о физических элементах природы и об их сочетаниях определяется его учением о видах движения. Из существования различных видов движения Аристотель заключает, что в природе должны существовать и различные тела, каждому из которых свойствен определенный вид движения, естественный именно для данного тела в силу самой его природы. Но основных видов движения, по Аристотелю, два: 1) круговое и 2) прямолинейное. Поэтому должны существовать и соответствующие им два основных вида тел: для одного естественно движение круговое, для другого — прямолинейное. Естественный род прямолинейного движения заключает в себе два вида: 1) движение сверху вниз и 2) движение снизу вверх. При этом «низом» у Аристотеля называется центр. Поэтому первый вид прямолинейного движения — движение от окружности к центру, а соответственно второй — от центра к окружности. Относительно обоих этих видов прямолинейного движения существуют тела, для которых эти движения будут в силу самой их природы естественными. Для движения «сверху вниз» это Земля: она всегда стремится к центру. Для движения «снизу вверх» это огонь: он всегда стремится к окружности. Земля и огонь — не единственные виды тел, движущиеся прямолинейно. В них обоих движение к центру и к периферии проявляется как безусловное стремление каждого к своему месту. Кроме них, существуют еще два тела, или элемента, в которых то же самое стремление обнаруживается уже не так безусловно. Это вода и воздух. Вода, как и Земля, стремится к центру, воздух, как и огонь, — к окружности. Однако вода стремится к центру только при условии, если центр не занят другим телом — более плотным, чем она сама. Воздух стремится к окружности также не безусловно. Итак, в физике Аристотеля природа физических элементов определяется характером прямолинейного движения. Аристотель полагает, что принятые им и восходящие к традиции Эмпедокла четыре физических элемента — огонь, воздух, вода и земля — обладают каждый свойствами, которыми характеризуются сочетания качеств. А именно: огонь обладает качествами тепла и сухости; воздух — тепла и влажности; вода — холода и влажности; земля — холода и сухости. Итак, каждый элемент характеризуется сочетанием двух качеств. Однако из этих двух качеств специфически характерным для каждого элемента Аристотель считает только одно. Для огня его специфическим качеством будет теплое, для воздуха — влажное, для воды — холодное и для земли — сухое. Специфические качества элементов распадаются на два класса — активные и пассивные. Активны холодное и теплое, пассивны — сухое и влажное. В каждом элементе имеется одно активное качество и одно пассивное. Например, в огне имеется активное качестве теплого и пассивное — сухого; в воде — активное качество холодного и пассивное — влажного и т. д. Из этого сочетания активных и пассивных качеств Аристотель выводит, что каждый элемент может и активно действовать на другие элементы, и пассивно испытывать идущие от них воздействия. Другими словами, он может и ассимилировать в себя другие элементы и сам способен ассимилироваться, превращаться в другие элементы. Все эти характеристики элементов и тел относятся к телам, имеющим прямолинейное движение. Но так как, кроме него, существует также и движение круговое и так как оно должно быть движением естественным, то, по Аристотелю, в природе должно существовать тело, или элемент, для которого свойствен именно этот вид движения. Естественным же круговое движение должно быть, согласно Аристотелю, потому, что, как это показывают наблюдения над вращением звездной сферы, круговое движение неба вечное и непрерывное. Итак, должен существовать еще один — пятый по счету — элемент, [20] по природе своей отличающийся от всех других четырех элементов — огня, воздуха, воды и земли. В случае кругового движения не может возникнуть движение в противоположном направлении: тело может вечно перемещаться по окружности, переходить из одной ее точки в другую. Именно поэтому тело, движущееся этим родом движения, по своей природе вечно и неизменно. Такое тело не может ни возникнуть, ни уничтожиться, так как и возникновение, и уничтожение предполагают в качестве своего условия возможность для тела измениться в противоположное состояние. Выведенный таким образом пятый физический элемент Аристотель назвал «эфиром (aiqhr)». «Эфир» — элемент не только физики Аристотеля, но также важный элемент его космологии, астрономической системы. Из «эфира» состоят небесные тела. С поверхности Земли они представляются состоящими из огня, но это потому, что вследствие быстрого движения небесные тела раскалены. «Эфир», кроме того, заполняет собой мировое пространство, в котором происходит вращение небесных тел. Аристотель развивает любопытное рассуждение, в котором к уже изложенным основаниям для допущения существования «эфира» он присоединяет еще одно, подтверждаемое, как он полагает, опытом. Он допускает условно, будто существуют только эмпедокловские элементы: огонь, воздух, вода и земля. В таком случае все мировое пространство между Землей и крайней сферой Вселенной должно быть заполнено воздухом и огнем. Если бы это было так, то, согласно Аристотелю, суммарное количество обоих этих элементов не соответствовало бы суммарному количеству остальных — воды и земли. Вследствие огромного размера мировой сферы количество огня и воздуха безмерно превосходило бы количество воды и земли, которые должны были бы превратиться в огонь и воздух. Так как наблюдение показывает, что на деле этого нет, то остается допустить, что мировое пространство заполнено не огнем и воздухом, а гораздо более легким и разреженным пятым элементом — «эфиром». Из характерных черт космологии Аристотеля следуют и свойства, которыми должен обладать «эфир». Основное его свойство — неизменность, соответствующая неизменности неба и небесной сферы. С неизменностью в «эфире» соединяется его совершенство, также соответствующее совершенству неба. Но почему кроме совершенного и неизменного «эфира» в мире существуют еще четыре менее совершенных элемента? Существование их обусловлено необходимостью. Так как существует мир, то должен существовать его центр, стало быть, должен существовать и элемент, стремящийся к центру мира. Элемент этот — Земля. Так как, далее, центром необходимо предполагается окружность, то должен существовать другой элемент, стремящийся от центра к окружности. Элемент этот — огонь. Так как в мире не существует пустоты, то между центром мира и его окружностью, т. е. между землей и огнем, должны существовать элементы, которые соединяли бы землю с огнем. Это элементы воздуха и воды. Они исполняют роль посредников между землей и огнем. Все вместе взятые пять элементов, «материя» мира, — условие мирового процесса. Все вещи возникают из элементов в результате и в ходе их превращения, переходов друг в друга. Однако в беспримесном, чистом виде элементы не встречаются и не могут нигде встретиться. Они встречаются лишь в смеси друг с другом. В этой смеси какой-либо элемент может преобладать, и тогда, в зависимости от того, какой именно главенствует, вся смесь будет называться либо огнем, либо воздухом, либо водой, либо землей. Если же ни один элемент не преобладает в смеси, то смесь будет представлять различные предметы природы, существующие в ней, кроме огня, воздуха, воды и земли. ТелеологияНад всей физикой и космологией Аристотеля господствует мысль о целесообразности природы и всего мирового процесса. Космология Аристотеля ярко телеологическая, и в этом она противоположна космологии атомистов и Анаксагора. Телеологическое воззрение получилось у Аристотеля в результате перенесения, по аналогии, на весь мир в целом наблюдений, сделанных по поводу частных классов явлений и предметов природы. Основными фактами, на которые при этом опирался Аристотель, были факты из жизни животных: процессы рождения организмов из семени, целесообразное действие инстинктов, целесообразная структура организмов, а также целесообразные функции человеческой души. Учение Аристотеля о душе сыграло особенно значительную роль в формировании и обосновании телеологии Аристотеля и в расширении ее до космологического принципа. Эту роль учение о душе могло сыграть, во-первых, потому, что для Аристотеля душа человека — действительность того, что как возможность существует в его теле, т. е. не что иное, как цель. Во-вторых, Аристотель мог перенести результат изучения целесообразных функций души на мир в целом тем более легко, что для него одушевление не ограничивается областью душевной жизни человека: он распространяет принцип одушевления и на весь животный мир, и на мир небесных светил. Чем шире представлена целесообразность и разумность в отдельных обширных классах существ и явлений природы, тем естественнее казалось перенести ее на мир как на целое. Если уже отдельные предметы природы обнаруживают в своем существовании и целесообразность, и разум, то, по убеждению Аристотеля, не может не быть целесообразность и целое мира. Больше того, Аристотелю прямо-таки невероятным представляется, чтобы в отдельных предметах могли возникнуть целесообразность и разумность, если таковых нет у мира как целого. Телеология Аристотеля предполагает не только целесообразный характер мирового процесса, она также предполагает и единство самой его цели. Обосновывается это единство на идеях космологии и теологии. Единый бог — источник и причина движения. Хотя он сам по себе неподвижен и непосредственно соприкасается только с крайней, последней сферой мира, он все же в результате этого прикосновения сообщает этой сфере равномерное и вечное круговое движение. Движение это последовательно передается от нее через посредствующие сферы планет все дальше и дальше по направлению к центру. Хотя в центре оно менее совершенно, чем на окружности, тем не менее движение это как единое движение охватывает весь мировой строй. А так как перводвигатель мира есть вместе с тем и причина движения и его цель, то и весь мировой процесс направляется к единой цели. Особенность объективной телеологии Аристотеля, отличающая ее от телеологии Платона, в том, что Аристотель отрицает сознательный характер целесообразности, действующей в природе. У Платона носительницей сознательного целесообразного начала была душа мира, правящая всем мировым процессом. Напротив, по мысли Аристотеля, целесообразное творчество природы осуществляется бессознательно. О возможности бессознательной целесообразности говорят, как указывает Аристотель, факты человеческого искусства. Художник может творить бессознательно и тогда, когда мыслит и когда оформляет свой материал в некий образ. Цель его при этом осуществляется бессознательно, несмотря на то, что в случае искусства творец произведения и «материя», в которой осуществляется его творчество, отделены друг от друга. Для природы такое бессознательное творчество облегчается тем, что природа существует не вне своего творения, а в нем самом. В качестве целесообразно действующей природа божественна. Однако, осуществляя свою цель в своем материале, она не сознает самой цели. Поэтому, кто видит в боге разумного творца, тот не может считать природу божественной в строгом смысле понятия, а только «демонической». Космология Аристотеля находилась в глубоком противоречии с космологией атомистов в вопросе о пределе мира. Атомистический материализм — первое в истории науки учение о бесконечности космоса и о бесчисленности населяющих космос миров. Учение это у Левкиппа и Демокрита приняло настолько ясную и осознанную форму, что в сравнении с ним понятие Анаксимандра о «беспредельном» кажется лишь догадкой, которой явно противоречит учение того же Анаксимандра о суточном вращении небесного свода. Только Левкипп и Демокрит первые вывели греческую мысль на простор бесконечности. Напротив, учение о мире Аристотеля в этом вопросе есть несомненный шаг назад по сравнению с атомистами. По Аристотелю, форма и протяжение космоса определяются учением о физических элементах. Мир имеет форму шара с весьма большим, но все же конечным радиусом. О шаровидности, если не о точной сферичности, мира учили и Анаксимандр, и Парменид, и Эмпедокл. Для всех них учением о шаровидности мира обусловливался трудно разрешимый вопрос. Это вопрос о том, каким должно быть бытие за пределами радиуса мирового шара. Аристотель решает тот же вопрос иначе. За последней сферой мира, согласно его учению, пребывает только бог. Никакого другого бытия, запредельного миру, не может быть. Все элементы — тела, которым свойственны определенные движения. Это движение по направлению к центру мира, к его периферии и круговое движение. Но все эти виды движения возможны только в сфере. А так как за границами сферы не существует ничего, то за ней не может существовать и пустота. В самом деле. Согласно Аристотелю, пространство — не что иное, как занимаемое телом место. Но место есть граница другого тела, обнимающего данное тело. Поэтому если за пределами мира не существует никаких тел, то это значит, что там не существует ни места, ни пространства. Мир объемлет в себе не только все место, но и все время. Само по себе время — мера движения. Так как движение не распространяется на область, запредельную миру, то не распространяется на нее и время. Земля неподвижно пребывает в центре мира. И в этом утверждении космология Аристотеля — шаг назад в сравнении с космологией Платона и пифагорейцев. И Платон и пифагорейцы развивали учение о движении Земли. Пифагорейцы учили о ее движении вокруг «центрального огня». Платон наметил, далеко, впрочем, не ясно, мысль о движении Земли вокруг оси. Так истолковал Аристотель одно место в платоновском «Тимее». Со всей силой своего авторитета Аристотель положил на долгие времена конец зарождавшейся в пифагореизме гелиоцентрической космологии. Мысль о движении Земли он решительно отклоняет. Природа Земли, по его утверждению, такова, что Земля необходимо стремится к центру мира. Круговое движение ей не свойственно и есть для нее нечто насильственное. Так как космос — бытие вечное, то, в случае если бы Земля двигалась круговым движением, ее движение было бы одновременно и вечным и насильственным, а это, по Аристотелю, нелепость. Все же не по всем вопросам космологии Аристотель стоял позади своего века. Выдающимся достижением его космологии было строгое доказательство шаровидной формы Земли. Шаровидность эту он доказывает из наблюдений, сделанных во время затмений Луны. Эти наблюдения показывают, что тень Земли, надвигающаяся на видимую поверхность Луны во время лунного затмения, имеет круглую форму. По объяснению Аристотеля, только шаровидное тело, которым в этом случае является Земля, может отбрасывать в мировое пространства — в сторону, противоположную Солнцу, — тень, которая в проекции на шаровую поверхность Луны представится темным кругом, надвигающимся на диск полной Луны. К тому же выводу — о шаровидности Земли — ведет по Аристотелю, свойственное Земле тяготение к центру мира. Результатом этого тяготения должна была получиться шарообразная форма. Диаметр земного шара был определен Аристотелем с преувеличением против действительности. В то же время Аристотель смело утверждал, что по объему Земля меньше других небесных тел. Аристотелю принадлежит также развитие и утверждение ошибочного взгляда, на котором впоследствии — впрочем, к счастью для будущих географических открытий — основывал свои расчеты Колумб. Аристотель полагал, что океан, лежащий к западу от Африки, имеет небольшое протяжение и что непосредственно за ним находится Индия. В доказательство этой мысли Аристотель ссылался на сходство фауны Восточной Индии и Африки, в частности на существование в обеих этих странах слонов. 5. Геоцентрическая система Подробности этой системы принадлежат не истории философии, а истории науки. [21] Все же хотя бы сжатое изложение ее принципа необходимо ввиду неимоверного влияния, которое геоцентрическая космология, математически оформленная и обоснованная Птолемеем, оказала на развитие космологии поздней античности и феодального общества вплоть до XVI в. Учение Аристотеля о мире — геоцентрическое воззрение. Оно полагает в центре мироздания неподвижную Землю, имеющую форму шара. Это воззрение возникло не сразу, а вырабатывалось в течение долгого периода предшественниками Аристотеля — математиками и астрономами. Из этих предшественников одним из ближайших был Евдокс из Книд в Малой Азии. Он был учеником пифагорейца Архита из Тарента, а также Платона. От пифагорейцев Платон, по-видимому, усвоил представление о совершенстве движений светил, наблюдаемых на небесном своде, и веру в то, что совершенными могут быть только равномерные движения по кругу. Но ко времени Платона давно уже было замечено, что движению планет присуща неравномерность, не свойственная ни Луне, ни Солнцу. Состоит она в том, что планеты сначала движутся «прямыми» движениями, т. е. в том же направлении, что Луна и Солнце, но затем в известный момент как бы останавливаются среди окружающих их на небесном своде звезд и далее перемещаются уже «обратным» движением, противоположным по направлению. Затем происходит новая «остановка» и новая смена направления движения — на этот раз «обратного» вновь на «прямое». В результате планеты как бы прочерчивают на небесном своде петли неодинакового размера. Эти кажущиеся аномалии в движении планет противоречили пифагорейским представлениям о совершенном виде движения светил и требовали объяснения, которое не упраздняло бы принятые предпосылки. Задачу такого объяснения поставил уже Платон, который предлагал вывести все «аномалии» в движении планет посредством сложения равномерных вращательных движений. Евдокс первый пытался дать ответ на вопрос, поставленный Платоном. Он ввел гипотезу о существовании концентрических сфер, вращающихся вокруг осей, наклоненных одна к другой под известным углом. Само вращение происходит равномерно, с постоянной скоростью. Предположив для Солнца, для Луны и для каждой из планет определенное количество этих сфер, Евдокс вывел с известным приближением к точности некоторые из аномалий, известные уже тогда из наблюдений. Так, например, видимое движение Луны он объяснил как результат сложения движений трех сфер. Вращательное движение первой сферы сообщалось второй, а вращение второй в свою очередь передавалось первой и третьей. В результате удалось представить или объяснить суточное и месячное движение Луны, а также перемещение узлов лунной орбиты, и только неравенство промежутков между двумя главными фазами Луны осталось необъясненным. Ученик Евдокса Калипп прибавил к трем сферам Евдокса две новые. В результате для одного только объяснения (впрочем, мнимого) движений Луны понадобилось пять сфер, вращающихся вокруг разных осей. Сходным образом объяснялись видимые движения Солнца и планет. На основании всех этих сложных построений Евдокс и его школа изображали видимые движения планет, а также определяли их видимые положения на небесном своде. По-видимому, и Евдокс и Калипп не думали, будто сферы, изобретенные ими для объяснения планетных движений, существуют реально во вселенной: они вводили эти сферы только как математический — геометрический — метод, помогающий разлагать наблюдаемые крайне сложные движения на их составляющие — простые равномерные круговые обращения. Аристотель внес в этом пункте важное нововведение. Он принял теорию движений планет Евдокса, ввел ее в свою космологическую систему, но при этом приписал сферам реальное физическое существование. Согласно учению Аристотеля, находящиеся одни внутри других шары, передающие друг другу свои движения, — не математические, воображаемые только объекты, а реальные — кристальные, прозрачные — сферы. Из них крайняя — сфера неподвижных звезд. Именно к ней прикасается неподвижный перводвигатель мира, и вследствие этого сфера неподвижных звезд, т. е. звезд, не меняющих своих взаимных угловых расстояний, становится первым двигателем и сообщает движение всем остальным. Между крайней сферой и неподвижной Землей, находящейся в центре, располагаются в концентрическом порядке сферы планет: Солнца и Луны. Светила и планеты прикреплены к этим сферам и вращаются вместе с ними со скоростями, различными для каждой планеты. Изложенное построение Аристотеля было вскоре вытеснено гораздо более совершенными в математическом отношении геоцентрическими воззрениями астрономов и математиков александрийской эпохи: Эратосфена, Гиппарха, Птолемея. Зато колоссальным оказалось влияние других космологических учений Аристотеля. Прежде всего, это учение о делении мира на две области, по своему физическому естеству и по совершенству вполне отличные друг от друга: область Земли с ее четырьмя элементами — земли, воды, воздуха, огня — и область неба и пятого элемента — эфира. Из эфира состоят небесные тела и само небо. Это область всего вечного и совершенного. В области эфира пребывают неподвижные звезды, самые совершенные из всех Небесных тел. Их вещество — чистый эфир; они настолько удалены от Земли, что недоступны никакому воздействию четырех земных элементов. Планеты, Солнце и Луна также состоят из эфира, но в отличие от неподвижных звезд уже подвержены некоторому влиянию темных элементов. Предметы, находящиеся на Земле, состоят из элементов земли, воды, воздуха и огня. Местопребывание их — Земля, область постоянных изменений, превращений, рождения и гибели. Как наиболее тяжелый из всех элементов, Земля находится в центре мира. Она шарообразна, и это доказывает круглая форма земной тени, надвигающейся на диск Луны во время лунных затмений. Земной шар окружен водой, над оболочкой воды находится оболочка воздуха. Наиболее легкий элемент — огонь — помещается в пространстве между Землей и Луной и соприкасается с границей пятого элемента — эфира. Не только физическое тело мира делится на две совершенно различные области — на два совершенно различных вида делятся также и движения, происходящие во вселенной. Это движения совершенные, или равномерные по кругу, и движения несовершенные, или прямолинейные. Чистым образцом совершенного движения является суточное обращение сферы неподвижных звезд вокруг Земли. Не столь чистый образец совершенного движения — сложные движения планет, неравномерные и частично наклонные. Сложность и запутанность планетарных движений обусловлены влиянием, которые на них оказывают земные элементы. Несовершенная форма движения — движение сверху вниз, или, что то же, к центру Земли. Вниз устремляются все тела, и только насильственная помеха может временно приостановить это их движение. Отсюда Аристотель выводит, что Земля не только занимает центр вселенной, но, кроме того, что она пребывает в нем неподвижно. Если бы даже возникло движение Земли. оно могло бы происходить лишь временно, а затем вновь прекратилось бы. 6. Теория познания Аристотеля. Наука, искусство и опыт Теория познания Аристотеля опирается на его онтологию и по своему непосредственному предмету есть теория науки. Аристотель отличает научное знание и от искусства, и от опыта, и от мнения. По своему предмету научное знание есть знание о бытии. В отличие от знания, предмет искусства — производство вещей (или произведений) при помощи способности, определенной к действию. Поэтому сфера искусства — практика и производство; сфера же знания — созерцание предмета, теория, умозрение. И все же у науки есть общее с искусством: как и искусству, знанию принадлежит способность быть сообщаемым посредством обучения. Поэтому искусство есть знание в большем смысле слова, чем опыт, и оно сопровождается истинными суждениями [см. Мет., I, 1, 981 в 7–9]. Знание отличается также и от простого опыта. И для знания и для искусства опыт — их начало или исходная точка [см. там же, 1. 981 а 2 и cл; 5, II, 19, 100 а б]. Однако в отличие от знания предметом опыта могут быть только факты, рассматриваемые как единичные. Основание опыта — в ощущения, в памяти и в, привычке. Но знание не тождественно с ощущением. Правда, всякое знание начинается с ощущения. [22] Этот тезис Аристотель даже рассматривает как основной для теории познания [см. 5, I, 18]. Если нет соответствующего предмету ощущения, то нет и соответствующего ему достоверного знания. В опыте, поскольку опыт обусловлен ощущениями, непосредственно ум постигает самый предмет ощущения, в единичном непосредственно постигает род, в Каллии — «человека» [см. там же, II» 19, 100 а 17]. Однако это непосредственное постижение общего в единичном существенно отличается от знания. «То, что в вещах показывает чувственное познание, т. е. ощущение, зависит от всегда изменчивых условий пространства и времени. Напротив, то, что показывает в вещах научное познание, не зависит ни от пространства, ни от времени. Научное постижение предмета — мысль, покоящаяся и в известном смысле стабильная, остановившаяся» [9, 1, 3, 407 а 32 и сл; 14, VII, 3, 247 в 7 сл.]. Но знание отличается от мнения. То, что дает мнение, основывается на всего лишь вероятных основаниях. Не таково знание. Правда, научное знание также выражается в суждении и принимается в качестве истинного, лишь когда в познающем возникло убеждение в его истинности. Но если суждение обосновано как достоверное знание, то нельзя указать оснований, посредством которых оно могло бы оказаться опровергнутым или хотя бы измененным [см. Топика, V, 2, 130 в 16; VI, 2, 139 в 33; 5, I, конец 2-й главы]. Напротив, для рвения или для веры справедливо, что по отношению к ним всегда возможны иное мнение и другая вера. Более того. Мнение может быть и ложно и истинно, убеждение в нем никоим образом не может быть «незыблемым» [см. 5, I, 33], в то время как знание — прочная и незыблемая истина [см. там же, I,19. 100 в 7 и сл.; 9, III. 428 а 17]. Предмет знания и знание предмета. Рассматривая отношение знания к своему предмету, Аристотель твердо стоит на почве убеждения, что в порядке времени существование предмета предшествует существованию знания. Это та материалистическая или объективно-идеалистическая точка зрения, которую, читая и конспектируя «Метафизику» Аристотеля, отметил Ленин: «Прелестно! Нет сомнений в реальности внешнего мира» [3, т. 29, с. 327]. Предмет, по Аристотелю, предшествует познанию, которое человек может иметь об этом предмете. В этом смысле отношение знания к предмету то же, что и отношение ощущения к предмету. Из того, что у ощущающего человека временно отсутствуют зрительные ощущения, никак не следует, будто свойства, воспринимаемые людьми посредством зрения, отсутствуют в самом предмете. Однако в момент, когда к человеку вернется способность зрения, то, что он увидит, будет уже необходимо относиться к области видимого. Начиная с этого момента уже нет смысла спрашивать, что чему предшествует: видимое или ощущение видения, они оба, начиная с этого момента, одновременны, соотносительны. И точно таково же отношение знания к своему предмету. Оно подобно отношению меры к измеримому или измеренному. Поскольку познание направляется во времени к постижению своего предмета, этот предмет предшествует познанию, а познание зависит от своего предмета. В этом смысле соотношение между ними однозначно, необратимо. Но если знание рассматривается как уже возникшее, как уже осуществляющееся, как уже отнесенное к своему предмету, то предмет и знание о нем составляют нераздельное целое. Правда, в этом целом можно посредством абстракции выделить оба его элемента — предмет знания и знание предмета, но все же единство обоих не теряет от этого своей реальности (О душе, III, 6,430 а 4 и сл. и во многих других местах]. Предмет, рассматриваемый сам по себе, есть только возможный предмет знания. Если бы он остался только возможным, знание не могло бы возникнуть. Но как только у ученого возникает созерцание предмета знания, с этого момента разом и предмет знания, и знание предмета становятся действительностью: они уже составляют единство. Отсюда Аристотель заключает, что знание есть род обладания [см. 15, VI, 3, 1139 в 31 и сл. ], т. е. способ бытия специфического рода. Основные черты научного знания. Как специфический род бытия знание отличается, по Аристотелю, тремя основными чертами. Эти черты: 1) доказательность — всеобщность и необходимость; 2) способность объяснения; 3) сочетание единства со степенями подчинения. Начнем с первой черты науки — ее доказательности. По определению самого Аристотеля, наука есть вид бытия, способный доказывать. Само же доказательство может быть доказательством только о том, что не может происходить иначе [см. 5, I, 2]. Оно состоит в получении заключения из начал: истинных, необходимых и относящихся к предмету доказательства. Доказательство невозможно ни о случайном бытии, ни о том, что возникает и разрушается [см. 5, I, 8, 75 в 24], а лишь об общем. Если же общего нет налицо, то предмет доказательства — это, по крайней мере, то, что случается всего чаще. Пример — затмение Луны. Будучи тем, что оно есть, затмение это происходит всякий раз одним и тем же способом. И хотя оно не происходит всегда, оно, по крайней мере, есть частный случай общего рода [см. там же, I, 6, 75 а 19; конец 8-й гл.]. Из текстов видно, что общее сливается у Аристотеля с необходимым и что необходимость может быть даже в том, что встречается только часто и отнюдь не постоянно. Этим не исключается наивысшая ценность, которую для знания представляет безусловное постоянство явления — такого, как, например, движение неба. Однако научное знание об общем уже налицо, если мы знаем суть бытия вещи: существует знание о каждой вещи, если мы знаем сущность ее бытия [см. 7, VI, 6, 1031 в 6]. Научное предложение характеризуется, таким образом, необходимостью своего содержания и всеобщностью своего применения. Правда, отдельный ученый всегда рассматривает и может рассматривать только единичные сущности («субстанции»), но наука в целом слагается и состоит из общих предложений. Способность науки к определению сущности и всеобщность применения усматриваемых ею положений обусловливает объяснительный характер знания. Задача научного знания заключается, во-первых, в фиксировании некоего обстоятельства, или факта. Во-вторых, задача науки — в выяснении причины. Знание предполагает, что известна причина, в силу которой вещь не только существует, но и не может существовать иначе, чем как она существует [см. там же, I, 2]. В-третьих, знание есть исследование сущности факта. В плане бытия необходимая причина может быть только сущностью вещи. В плане познания или в логическом плане она может быть лишь началом (принципом) в отношении к его логическим следствиям. Собственно, доказательство и есть познание этой причины: «Если тот, кто при наличии доказательства [предмета] не имеет понятия о том, почему [предмет] есть, то он [предмета] не знает» [5, I, 6, 74 в 28]. Такое логическое объяснение посредством понятий обосновывает право на познание даже случайностей: согласно, разъяснению Аристотеля, существует не только случайность в узком смысле (как, например, для человека случайность в том, что у него светлые или темные волосы), но также и то, что, по Аристотелю, есть «случайность в себе». Таковы свойства, которые не производят сущности человека непосредственно, но которые происходят из этой его сущности. Объяснить эти свойства — значит доказать при помощи логической дедукции, каким образом они из нее происходят [см. 5, I, 6, 75 а 29–31]. Наконец, в-четвертых, знание есть исследование условий, от которых зависит существование или несуществование факта. Рассматриваемый в целом процесс знания ведет от вещей, познаваемых «через свое отношение к нам», стало быть, от понятий, первых для нас, к понятиям, которые являются первыми сами по себе. Эти последние постигаются только умом. Они образуют род возведения (редукции) и в конце концов приводят к положениям, уже недоказуемым. Редукция необходимо стремится к достижению начал, недоказуемых положений: то, что не имеет конца — «беспредельное», — не может стать предметом научного познания. Доказательство, исходящее из начала, основательнее доказательства, не исходящего из начала, а доказательство, «в большей мере «сходящее из начала, основательнее того, которое исходит из начала в меньшей мере» [там же, 24, 86 а 16 и сл.]. В конечном счете редукция приводит к «непосредственным» предложениям. Такие предложения прямо постигаются умом, не доказываются. Относительно высшего начала знания «не может быть ни науки, ни искусства, ни практичности, ибо всякое научное знание требует доказательств» [15, VI, 6]. В той же мере, в какой последние предложения науки все же составляют предмет знания, знание это уже недоказательное [см. 5, I, 3, 72 в 20 и сл.]. Третья черта знания — его единство, соединенное с подчинением одних знаний другим. Единство науки означает прежде всего, что различные предметы науки принадлежат составу одного и того же рода. Далее, это единство обусловливается и тем, что различные предметы могут относиться все к одному и тому же предмету и быть, таким образом, через отношение к этому предмету в одинаковом к нему отношении. Именно таково единство, в котором все науки находятся относительно первой науки — науки «о бытии как о бытии». «Бытие» здесь — общий предмет и основа аналогии, которая в нем связывает в единство различные его роды. Но каждая отдельная наука обусловлена своим особым логическим родом и составляет сама по себе некоторое единство. Отсюда сразу получается важный вывод, отличающий теорию науки Аристотеля от теории науки Платона. Согласно теории Платона все знания образуют соподчинение, или иерархию, на вершине которой стоит знание о высшей из «идей» — «идее» блага. Напротив, у Аристотеля единой для всех наук иерархии не может быть. Науки «не сводимы — ни одна к другим, ни к одному-единственному роду» [7, V, конец 28-й главы]. Так же как различаются по роду «форма» и «материя», «точно так же все то, о чем идет речь по разным формам высказывания о сущем, ибо из того, что есть, одно означает собою суть той или иной [вещи], другое — что-нибудь качественно-определенное, и так дальше…; оно… не сводится ни друг на друга, ни на что-нибудь одно» [там же]. Именно поэтому невозможен никакой переход от одной науки к другой: от предмета арифметики, например, к предмету геометрии. Однако этому выводу Аристотеля явно противоречит другое его положение: поскольку общий предмет — бытие — образует основу аналогии, которая связывает различные роды единого бытия, сведение одних наук к другим в каком-то смысле все же возможно. В этом смысле существует иерархия наук и возможна их классификация, сводящая науки в некоторое единство. Наука — не простая сумма совершенно разнородных знаний. Существуют науки, которые в сравнении с другими находятся ближе к общему предметному пределу знания. Чем выше стоит наука на ступеньках иерархии, тем точнее доступное для нее знание, тем больше в ней ценности. Иллюстрации этого положения находим во «Второй Аналитике» — в 27-й главе ее 1-й книги. По Аристотелю, наука, дающая одновременно и знание того, что что-нибудь есть, и знание того, почему что-нибудь есть, а не только знание того, что что-нибудь есть, — более точная и высшая, чем наука, дающая знание только того, почему что-нибудь есть. И точно так же науки, возвышающиеся до абстракций над непосредственной чувственной основой, выше наук, имеющих дело с этой основой. Поэтому, например, арифметика в глазах Аристотеля выше, чем гармоника. Наконец, наука, исходящая из меньшего числа начал, точнее и выше, чем наука, требующая дополнительных начал. В этом смысле арифметика, по Аристотелю, выше геометрии: единица — предмет арифметики — сущность без положения в пространстве, но точка — предмет геометрии — сущность, имеющая положение в пространстве. Только что рассмотренными соображениями подготовляется у Аристотеля решение вопроса о классификации наук. К вопросу о классификации относятся исследования Аристотеля в «Метафизике» (VI, 1), в «Топике» (VI, 6; VIII, 1), в «Этике Никомаха» (VI, 2, 3–5). Наибольшее достоинство и наивысшее положение Аристотель отводит наукам «теоретическим» («созерцательным»). [23] Науки эти дают знание начал и причин и потому «согласны с философией». Единственный предмет теоретических наук — знание само по себе, искомое не ради какой-либо практической цели. Однако, будучи отрешенными от практической корысти, теоретические науки составляют условие наук «практических». Предмет этих наук — «практика» — деятельность того, кто действует. Теоретические науки обусловливают правильное руководство деятельностью. В свою очередь, практическая деятельность, правильно руководимая, — условие совершенной фабрикации, производства или творчества. «Творчество» — предмет наук «творческих». Творчество в широком смысле — порождение произведения, внешнего по отношению к производящему. И в «практических» и в «поэтических» науках познание идет от следствия к началу. В сфере «практики» это — восхождение от индивида к семье и от семьи — к полису. В сфере «творчества» это — восхождение, от поэтики (теории художественного творчества) к риторике, а от риторики — к «диалектике». При движении по лестнице этого восхождения Аристотель вынужден был бороться с трудностью, которую для него создавало противоречие между его собственной высокой оценкой научной абстракции, принципа формализации знания и его стремлением преодолеть абстрактность и формализм специфически платоновской теории форм («идей»). В результате этой борьбы и этого противоречия Аристотель в ряде случаев колеблется в оценке математического идеала формализации, проявляющегося в разработке некоторых наук. Он одновременно ведет энергичную борьбу против Платона и академиков (Спевсиппа и Ксенократа) и сам обнаруживает тенденцию рационалистического математизма и формализации в сравнительном рассмотрении систематического места некоторых наук. Колебания эти ясно выступают в характеристиках отношения, например, между гармоникой и физикой, а также между математикой и физикой. Гармоника — одновременно и математическая наука, и ветвь физики, изучающая определенный круг явлений природы. В — самой математике формализация и математизация изучаемых ею предметов значительнее, чем в физике. Наиболее простое есть вместе с тем наиболее формальное и наиболее истинное. Со всех этих точек зрения математика должна была бы занять в классификации Аристотеля место более высокое, чем физика. Но в то же время, согласно убеждению самого Аристотеля, физика обладает важным преимуществом сравнительно с математикой: хотя предмет математики более простой и гораздо более абстрактный сравнительно с предметом физики, зато он менее реален, точнее говоря, его реальность опосредствована более высокой ступенью абстракции. Наоборот, предмет физики более сложен, в нем к бытию присоединяется движение, но предмет этот реален в более непосредственном смысле: в самом его бытии заключается начало его движения. Борьба Аристотеля с Платоном была для Аристотеля не только борьбой против Платона, который противостоял ему извне, но также борьбой против платонизма, остававшегося в нем самом. Абстрактный математизм теории «форм» («идей» Платона) не был преодолен Аристотелем полностью. В классификации знаний и наук, разработанной самим Аристотелем, над всем главенствует чистая и бестелесная, вне физического мира пребывающая «форма» (бог, неподвижный перводвигатель). Несмотря на свою бестелесность и беспримесность она рассматривается одновременно и как самое простое бытие, и как бытие, наиболее реальное, как чистая действительность. Ряд помещенных ниже ее «форм» есть ряд нисходящий именно вследствие прогрессивно увеличивающегося количества материи, которая присоединяется к этим «формам». Иерархия, или классификация наук Аристотеля, соответствует его иерархии «форм» бытия. Место каждой науки в этой классификации определяется близостью ее предмета к «чистой» форме, т. е. степенью «формальности» ее предмета. Наивысший ее предмет — сущность (ousia), созерцательно постигаемая лишь умом, мышление о мышлении. 7. Логика Аристотеля и его учение о методе В философии стоицизма, выступившего несколькими десятилетиями позже Аристотеля, логика понималась как некая специальная наука, составляющая часть науки в более обширном смысле слова. Напротив, для Аристотеля логика — не отдельная наука, а орудие (organon) всякой науки. Аристотель называет логику «Аналитикой»; в специальном трактате, который получил название «Аналитик» (Первой и Второй), он изложил ее основные учения: об умозаключении и о доказательстве. Задача логики, как ее понимает Аристотель, — исследование и указание методов, при помощи которых известное данное может быть сведено к элементам, способным стать источником его объяснения. Из этого видно, что основной метод логики Аристотеля — «сведение». Учение об этом искусстве Аристотель называет «наукой», но здесь этот термин он понимает не в смысле специальной по предмету отрасли науки, а широко, как умозрительное исследование, дающее возможность различить условия доказательства, его виды, степени, а также выяснить последние предложения, достигнув которых мы уже не можем продолжать сведение данного к элементам, объясняющим это данное. «Аналитики» — не единственный труд Аристотеля по логике. Важным вопросам логики посвящены также его «Топика», «Об истолковании», «Опровержение софистических умозаключений», «Категории», а кроме того отдельные места «Метафизики» и даже «Этики». Изучение всех сочинений Аристотеля, посвященных вопросам логики или, по крайней мере, рассматривающих эти вопросы, показывает, что в логических исследованиях Аристотеля наибольшее его внимание привлекали три проблемы: 1) вопрос о методе вероятностного знания; этот отдел логических исследований Аристотель называет «диалектикой», он рассматривает его в своей «Топике»; 2) вопрос о двухосновных методах выяснения уже не вероятного только знания, а знания достоверного; эти методы — определение и доказательство; 3) вопрос о методе нахождения посылок знания; это индукция. «Диалектика» АристотеляСравнение учения Аристотеля о знании с учениями некоторых крупных рационалистов XVII в., например Декарта, показывает, что в одном чрезвычайно важном вопросе теории познания и логики Аристотель видел дальше и яснее, чем знаменитый французский ученый и философ. Это вопрос о вероятностном знании. Аристотель с не меньшей силой, чем позднейшие рационалисты, и с гораздо большим приближением к материализму, чем они, полагал, что цель знания — верное отражение самой реальности. Вместе с тем он ясно видел, что далеко не всегда и не по всем вопросам знание сразу возникает как достоверное познание реальности. В ряде случаев и по ряду вопросов знание не может быть непререкаемым обладанием истиной, а есть лишь знание вероятное. Это знание предполагает свой, особый метод. Это не метод науки в точном смысле слова, а метод, приближающий к научному методу, подготовляющий его. Аристотель называет его «диалектикой», отклонившись в использовании этого термина от традиции его применения у Сократа и у Платона. Для Сократа «диалектика» была способом отыскания достоверного знания посредством анализа противоречий в ходячих и в философских представлениях о его предмете. Для Платона «диалектика» — учение о познании истинно-сущего, достигаемое посредством упражнения ума в созерцании бестелесных «эйдосов», или «идей», не опирающемся на чувственность. И у того и у другого «диалектика» — знание достоверное. Напротив, для Аристотеля «диалектика» — только исследование, а не доктринальное изложение непререкаемых истин. Предмет аристотелевской «диалектики» — не сама истина, не соответствие знания его предмету, а только отсутствие формального противоречия между терминами обсуждаемого вопроса, а также между положениями, высказанными участниками спора. Ценность «диалектики», по Аристотелю, во-первых, в ее способности показать, каким образом должен исследоваться вопрос; для этого развиваются умозаключения, которые могли бы привести к ответу на поставленный вопрос (не к достоверному, а всего лишь вероятному) и которые были бы свободны от противоречий. Во-вторых, «диалектика» дает способ исследовать, что в ответах на поставленный вопрос может быть ложного. В качестве специфических умозаключений, а именно не способных к обоснованию достоверных выводов, «диалектические» силлогизмы, как их называет Аристотель, основываются не на необходимых посылках, а на «мнениях, принятых на веру», иначе — на положениях, признанных в качестве вероятных авторитетными лицами. Единственная логическая сила, которой обладают «диалектические» силлогизмы, — их внутренняя непротиворечивость. Однако, опираясь на эту свободу от внутренних противоречий, можно получить всего лишь вероятные выводы. Такое исследование следует считать не установлением истины, а всего лишь испытанием. Но будучи систематически разработано, «испытание» — это не только логическая тренировка. «Испытание» возвышает мысль над узколичным или частным, над чисто случайным и вводит ее в сферу всеобщего. Однако всеобщность эта все же лишена необходимости. Исследованию умозаключений и рассуждении этого рода посвящена «Топика» Аристотеля. В ней в качестве цели «диалектики» указывается или установление определения или опровержение. В «Топике» (II–VII) особенно обстоятельно разработаны правила опровержения. Нельзя не согласиться с Робэном (Robin), что по существу это «критические правила верификации» [72, с. 42]. Испытывается некоторое предложение, в котором высказывается принадлежность известному предмету известного свойства. Вопрос заключается в исследовании, соответствует или не соответствует этому предмету приписанное ему свойство. Рассматриваются случаи, когда обращение предложения (перемена местами его субъекта и предиката) возможно и когда оно невозможно. В первом случае приписанный предмету атрибут или точно выражает сущность предмета и представляет его дефиницию, или не дает точного определения предмета и есть только его «собственное» свойство; например, когда «грамматик» по отношению к «человеку» не выражает сущности человека, а представляет единственный открывшийся познанию его атрибут. Во втором случае «обращение» неосуществимо. Здесь, в свою очередь, представляются две возможности: первая, когда свойство есть элемент определяемого, но имеет в сравнении с ним больший объем. Такое свойство — род. Или вторая возможность, когда это свойство — не род, а видовое отличие, но опять-таки с объемом большим, чем у определяемого. Если же приписанное предмету свойство не есть элемент его сущности, то оно будет «случайным» качеством [см. Топика, I, 4 и 8]. Сказанным определяется возможный способ «испытания» предложений. Если сущность вещи или существа предполагают выразить посредством какого-либо свойства (атрибута), то для проверки предложения можно сопоставить его или с отдельными экземплярами рода, или с видами. Чтобы проверить, например, предложение: «Наука о различных противоположностях есть одна и та же», — необходимо сопоставить это предложение с различными видами противоположностей, а затем исследовать эти самые противоположности. Таковы, некоторые виды логического испытания предложений. Самым ценным из них будет испытание точности, с которой указывается род определяемого. Для этого рассматриваются отношения определяемого предмета к различным видам его рода: если он не попал ни в один из них, то это доказывает, что он и не принадлежит к указанному роду; или проверяют, действительно ли указанный род ближайший, а для этого исследуют, не входят ли в этот род термины, отличные от определяемого. В этих логических «испытаниях» есть нечто общее: во всех них сопоставляются одни вероятности с другими. Как впоследствии у Ф. Бэкона, предполагается, что даже одна-единственная невероятность дает повод для сомнения и выдвигает на очередь задачу проверки и критического испытания. Кроме различных способов «испытания», «диалектика» Аристотеля выдвигает другую важную проблему. Это исследование высших начал знания посредством рассмотрения противоречий и трудностей, которые могут обнаружиться при разработке того или иного вопроса. Такое рассмотрение образует «апоретический» метод исследования. Термин «апоретический» происходит от aporia («трудность», «недоумение») и означает исследование равносильных противоречий в решении проблемы. Апории были у Зенона из Элеи. Необходимость исследования «апорий» обусловливается у Аристотеля его взглядом на доказательное (демонстративное) знание. По его убеждению, доказательная наука сама не способна доказать начала, или принципы, на которые она опирается. К выводу этих начал приводит, по Аристотелю, индукция. Но в «Топике» индуктивный способ установления начал почти не рассматривается. В качестве метода открытия начал «Топика» указывает и рассматривает «апоретическое» исследование. «Апоретический» метод — тренировка ума, ведущая к непосредственному усмотрению начальных положений науки об исследуемом предмете. Здесь мысль Аристотеля приближается к учениям Сократа и особенно Платона об «эвристическом» и педагогическом значении «диалектики» противоречий в подготовке к познанию трудно уловимой истины. Теория достоверного познания. Определение и доказательствоПервая часть теории познания Аристотеля — «диалектика». Она ведет в своих результатах главным образом к критическому очищению знания от ошибочных утверждений и только подготовляет ум к созерцанию, или непосредственному усмотрению (интуиции) истинных начал, исходных положений знания Этим двум целям служат сопоставление вероятных предположений, анализ языка, оптическое рассмотрение исторически известных учений и содержащихся в них противоречий. Вторая часть теории познания совпадает с логикой. Она выясняет условия, исследует методы уже не вероятного только, а достоверного знания. Главные предмета этой части — теория определения и теория доказательства В теории определения, разработанной Аристотелем, раскрывается двоякая точка зрения на определение и определяемое. [24] Согласно первой точке зрения на определение, задача определения в том, чтобы указать такие свойства определяемой сущности, которые, не составляя самой этой сущности как таковой, все же следовали бы из нее. Только при наличии определения знанию не угрожает регресс в бесконечность, а доказательство получает необходимый для него отправной пункт. Но как возможно такое определение? Его доказательство неосуществимо, Оно было бы всего лишь тавтологией. В самой задаче такого доказательства таилось бы противоречие. Оно обусловлено тем, что термины, связь которых в целях доказательства должна быть доказана и которые, стало быть, предполагаются как раздельные, в действительности не отделимы друг от друга, а составляющая предмет определения индивидуальная сущность разложена на элементы (термины) лишь произвольно и сама по себе неделима В случае определения таких индивидуальных сущностей эти сущности, правда, воспринимаются чувствами, но оказываются неделимыми и в возможности и в действительности. Они неделимы по форме и могут быть только постигаемы умом как не сводимые ни на что дальнейшее. Такова первая точка зрения на определение. Но ею вопрос об определении не исчерпывается. Согласно второй точке зрения Аристотеля на определение неделимые простые сущности имеют бытие не только как сущности в себе, но и как сущности для нас. Простые сами по себе, они делимы, так как составляют предмет мысли нашего не абсолютного, но конечного ума. Какой бы простой ни была мыслимая сущность, мы можем мыслить ее только при условии, если мыслим отношение ее к какой-то другой сущности: если, например, мыслим ее как входящую в некий род, внутри которого она выделяется при помощи определяющего ее вид различия. Поэтому невозможное в случае изолированной неделимой индивидуальной сущности определение все же возможно и весьма действенно в случае мышления посредством отношений. В этом смысле сами категории — высшие и самые общие роды бытия: субстанция, качество, количество, отношение, время, место и т. д. — представляют собой простые природы и вместе общие роды всякого мыслимого отношения. Существует, по Аристотелю, глубокое соответствие между понятым таким образом бытием и определением как условием доказательства и средством познания бытия. В определении род соответствует «материи», или «возможности», так как род — то, что может быть определено различными способами. Напротив, определяющее вид различие соответствует «форме», или «действительности», так как различие указывает в отношении сущности, составляющей предмет определения, ее индивидуальную реальность. Эта реальность выделяет ее из всех других сущностей, входящих в тот же самый род и мыслимых в этом роде. Для Аристотеля «действительность» — всегда то, что выделяет, изолирует, отличает, отграничивает. Совмещение обеих указанных точек зрения на определяемые сущности проливает свет на черты определения как элемента и условия достоверного знания. По Аристотелю, «материя» определяемого не должна быть отделяема от «формы» и, наоборот, «форма» — от «материи». Правило это относится не только к чувственной материи отдельной природной вещи, но и ко всему, что в понятии о предмете принадлежит к его роду. Аристотель сам дает яркий пример нарушений правила о неотделимости «материи» от «формы». Рассмотрим опыт определения дома. Некоторые философы пытались определить понятие о доме», указывая только на его «форму», или цель: согласно этому определению, дом — убежище для защиты от дурной погоды. С другой стороны, некоторые физики пытались определить то же понятие, указывая только на его «материю»: дом — нечто, сделанное из камней, кирпичей, дерева и черепицы. И та и другая попытка определения ошибочны: первая оставляет «форму» без осуществления в «материи», вторая — «материю» без определения соответствующей «формой». В этом случае мыслимо осуществление «формы» в другой «материи». Напротив, правильным определением, удовлетворяющим и требования философии, и требования физики» будет определение, согласно которому дом — убежище, достроенное из таких-то материалов с целью защиты человека от дурной погоды. В определении этом дана целостность того, что образует для мысли сущность определяемого, и вместе с тем определение это, не отделяя «форму» от «материи», подчеркивает все значение реформы» как источника свойств, принадлежащих самой вещи. Такое определение будет причинным. «..Во всех этих случаях, — поясняет Аристотель, — очевидно, что вопрос о том, что есть, тождествен с вопросом о том, почему есть» [5, II, 2, 90 а 16–18]. Так, определением понятия затмения Луны будет: «Лишение Луны света вследствие расположения Земли между ней и Солнцем» [там же, 90 а 19–20]. В науке ценность причинных определений обусловлена их ролью в доказательстве. Собственная задача определения в том и состоит, что оно дает причинное, необходимое объяснение, и притом объяснение, касающееся сущности. Соответственно с этим, по Аристотелю, имеются доказательные определения. В них сущность — предмет непосредственного созерцания — доставляет уму предмет для рассуждения. Для этого в этой сущности различают часть, не подлежащую доказательству, а также часть доказуемую. В первой части находится основание для бытия второй. «…Наше искание, — выразительно говорит Аристотель, — направлено на материю, почему она образует нечто определенное. Например, почему данный материал образует дом? Потому что в нем находится суть бытия для дома… Таким образом, отыскивается причина для материи, и это — форма, в силу которой материя есть нечто определенное; а форма — это сущность» [7, VII, 17, 1041 в 5–9]. Кроме доказательного определения Аристотель различает еще один вид определения. Поставим, например, вопрос: что такое квадратура? Ответ гласит: квадратура есть построение равносторонней прямоугольной фигуры, равновеликой неравносторонней. В ответе этом высказано определение. Особенность его в том, что в нем нет указания на причину самой равновеликости. Согласно Аристотелю, такое определение есть не доказательство, оно дает лишь заключение доказательства [9, II, 2,413 а 13 и сл.]. Такое определение, по наблюдению Аристотеля, встречается редко, и Аристотель считает это недостатком большинства существующих определений. «Ведь определение, — говорит он, — должно вскрыть не только то, что есть, как это делается в большинстве определений, но определение должно заключать в себе и обнаруживать причину» [там же]. В проблеме доказательства Аристотель различает знание достоверное и лишь вероятное («правдоподобное»). Началом доказательства не может быть, по Аристотелю, ни неправдоподобное, ни даже правдоподобное знание, и умозаключение должно быть построено из необходимых посылок. «…Началом, — читаем в «Аналитике», — не является правдоподобное или неправдоподобное, но первичное, принадлежащее к тому роду, о котором ведется доказательство…» [5, I, 6, 74 в]. Две мысли характерны для аристотелевской теории доказательства. Первая состоит в утверждении, что исходные начала доказательства — сущности, природа которых недоступна доказательству; вторая — в утверждении, что доказательство все же способно получать из сущностей свойства, вытекающие из их природы. Достигается это посредством деления. Для этого необходимо «брать все, относящееся к существу [вещи], и делением [все] расположить по порядку, постулируя первичное и ничего не оставляя без внимания. И это [приписываемое] необходимо [содержит определение], если все включается в деление и ничего не упускается» [5, II, 5, 91 в 28 сл.]. Ценность, в глазах Аристотеля, этого способа получения свойств из сущностей представится еще большей, если учесть, что сущности, познание которых имеет в виду Аристотель, в большинстве не простые, а сложные. Знание о таких сущностях дано в суждениях, которые указывают отношение «материи» к «форме». Именно этот метод применяется в доказательстве. Последнее есть умозаключение, в котором из сущности с необходимостью получаются истинные свойства. Свойства эти следуют из сущности, но не порождают ее как таковую. Научное умозаключение исходит как из начальных и непосредственных, из максимально очевидных истин. Заключение зависит от них как от своей причины, а его применение адекватно его предмету. Задача доказательства — привести к усмотрению, что некоторое свойство принадлежит предмету или что некий предикат принадлежит субъекту. Возможные виды силлогизмов не исчерпываются его научной формой. «…[Всякое] доказательство, — говорит Аристотель, — есть некоторого рода силлогизм, но не всякий силлогизм — доказательство» [4, I, 4, 25 в 29]. И он выделяет в классе силлогизмов «риторические» и «диалектические» силлогизмы, вполне корректные по логической связи между посылками и заключениями, но начала их — только вероятные положения, принятые на веру. А в «Топике» [см. Топика, IX, 11, 171 в 8] Аристотель указывает как виды умозаключений силлогизмы «софистические» и «эвристические». В этих силлогизмах, которые по сути есть лишь разновидности предшествующих, более обнажен всего лишь вероятный характер положений, на которых они основываются. Силлогизм, лишенный того, что делает его доказательным, не способен дать знания о необходимой причинной связи. Для такого знания в известном смысле лучше, если причинная связь интерпретирована в понятиях содержания, например «смертность принадлежит человеку». Аристотель часто дает именно такую интерпретацию. Но еще важнее для него интерпретация причинной связи как включения. Это или включение частного в общее, или вида в род посредством выделения видового различия, или единичного экземпляра в класс. И в посылках и в заключении речь идет о свойствах всеобщего (универсального), и в каждом случае иной оказывается только степень всеобщности. Аристотель неоднократно и настойчиво разъясняет, что не может быть доказательства о единичном, как таковом, о чувственно воспринимаемом как таковом, о преходящем как таковом. Доказательство возможно только о всеобщем или хотя бы постоянном. «…Если бы общего не было, то не было бы и… никакого доказательства» [5, I, 11, 77 а]. А в «Метафизике» [7, VII, 15, 1039 в 34 сл. ] читаем: «…ясно, что для чувственных вещей ни определения, ни доказательства быть не может». И далее: уничтожающиеся вещи «перестают быть известными… людям, обладающим знанием, когда выйдут из области чувственного восприятия… ни определения, ни доказательства по отношению к этим вещам существовать уже не будет» [там же]. Яркая особенность теории познания Аристотеля в том, что для него задачей науки может быть только достоверное — общее и необходимое — знание. Научное знание Аристотель четко отличает от предположения и от мнения. «Предмет науки и наука отличаются от предполагаемого и от мнения, ибо наука есть общее [и основывается на] необходимых [положениях]; необходимо же то, что не может быть иначе. Некоторые предметы [истинны] и существуют, но могут быть и иными. Ясно поэтому, что о них нет науки» [5, I, 33, 88 в]. Поэтому и знание о причине есть знание об общем. Во всех доказательствах, выясняющих принадлежность некоторого свойства, некоторой сущности, причина — всеобщая. Она есть часть содержания более обширного всеобщего и вместе с тем содержит в себе менее широкое всеобщее или же часть этого всеобщего: коллективную либо единичную. Исследование причинного отношения Аристотель считает основной задачей научного знания: «…рассмотрение [причины», почему есть [данная вещь», есть главное в знании» [5, I, 14, 79 а]. Для Аристотеля «знать, что есть [данная вещь» и знать причину того, что она есть, — это одно и то же» [5, II, 8, 93 а]. Именно потому, что силлогизм первой фигуры больше, чем силлогизмы других видов, способен обосновывать знание причинных отношений, Аристотель считал первую фигуру наиболее ценным видом умозаключения. «Среди фигур [силлогизма], — писал он, — первая является наиболее подходящей для [приобретения] научного знания, ибо по ней ведут доказательства и математические науки, как арифметика, геометрия, оптика, и, я сказал бы, все науки, рассматривающие [причины», почему [что-нибудь] есть, ибо силлогизм о том, почему [что-нибудь] есть, получается или во всех, или во многих случаях, или больше всего именно по этой фигуре» [там же, 79 а]. Это понятие о причине делает ясной роль среднего термина в умозаключении и доказательстве. Средний термин есть также понятие, общее двум понятиям, отношение которых рассматривается в силлогизме и доказательстве. Вместе с тем средний термин выступает в доказательном рассуждении как причина: «Причина: того, почему [нечто] есть не это или это, а [некоторая] сущность вообще, или [почему нечто есть] не вообще, но что-то из того, что присуще само по себе или случайно, — [причина всего этого] представляет собой средний термин» [там же, II, 2, 90 а 9 сл.]. Особенно ясно выступает свойство среднего термина быть причиной в достоверных доказательных умозаключениях. Во всех таких умозаключениях достоверность их — не только достоверность какой-то причины, а именно истинной причины. Очень характерно для Аристотеля, что единичные предметы, термины которых выступают в умозаключении доказательства, рассматриваются сами по себе все же как универсальные. «Ни одна посылка, — говорит Аристотель, — не берется так, чтобы она [относилась только] к тому числу, которое ты знаешь, или только к той прямолинейной [фигуре], которую ты знаешь, но [она] относится ко всякому [числу] или прямолинейной [фигуре]» [там же, I, 1, 71 в 3 и сл.]. Даже если для непосредственного созерцания фигура единична, то сама по себе она универсальна. В соответствии с этим в математическом доказательстве причина, или основание, есть понятие, посредствующее между другими понятиями: оно подчинено одному из них и подчиняет себе другое. В анализируемых Аристотелем примерах (построение треугольника, вписанного в полукруг и опирающегося основанием на его диаметр, а также доказательство, что вписанный в полукруг угол равен прямому углу) Аристотель совмещает собственно математическую разработку доказательства с логическим анализом отношения его понятий. Он рассматривает математические отношения математических объектов как логические отношения классификации и включения понятий, образующих систему подчинения по объему. В таких доказательствах то, что представляется единичным, рассматривается как вид рода или как часть вида. Другими словами, математическое доказательство, по Аристотелю, выясняет системную связь и зависимость понятий по объему и есть не что иное, как некий род их классификации. Это понимание доказательства преодолевало важный пробел теории познания Платона. У Аристотеля методом науки становится доказательство. Изображенный Платоном процесс деления обретает недостававшее ему посредствующее звено. Впервые теперь деление получает основание: нет необходимости, как раньше, постулировать каждый из его шагов. Доказательство как метод науки шире платоновского деления («диайрезиса»): «Легко усмотреть, что деление по родам составляет только незначительную часть изложенного нами метода… при делении то, что должно быть доказано, постулируется, но при этом всегда что-нибудь выводится из более общих [понятий]». [25] Однако Аристотель вводит в учение о применимости доказательства важное ограничение. Обусловлено оно его убеждением в том, что общность может существовать только между подчиненными одно другому понятиями. Каждая отдельная наука имеет свой особый высший род, но переход от одного рода к другому невозможен: между понятиями, образующими координацию, нет и не может быть общего. «Нельзя, следовательно, — утверждает Аристотель, — вести доказательство так, чтобы из одного рода переходить в другой… нельзя геометрическое положение доказать при помощи арифметики» [5,1,7]; «…арифметическое доказательство всегда имеет дело с тем родом, относительно которого ведется [это] доказательство» [там же]; «…[вообще] нельзя доказать посредством одной науки [положения] другой, за исключением тех [случаев], когда [науки] так относятся друг к другу, что одна подчинена другой, каково, например, отношение оптики к геометрии и гармонии — к арифметике» [там же]. Недоказуемые элементыВсякое доказательство опирается на некоторые положения, как на исходные начала. Иногда начала, в свою очередь, выводятся из некоторых предшествующих им начал посредством нового доказательства. Однако этот процесс восхождения от начал недоказуемых в пределах данного доказательства к их обоснованию посредством нового доказательства, не может идти в бесконечность. Согласно выражению Аристотеля, «по направлению вверх» идут и относящиеся к сущности и случайные признаки, «однако и то и другое не бесконечно. Необходимо, следовательно, должно быть нечто, чему что-то приписывается первично… и здесь должен быть предел и должно быть нечто, что больше не приписывается другому предшествующему и чему другое предшествующее [больше не приписывается]» [5, I, 22, 88 в]. Так обстоит дело с познанием свойств, приписываемых единичным «сущностям». В их иерархии есть предел для восхождения и нисхождения. Но существует также и предел для доказательства приписываемых свойств; «…ни по направлению вверх, ни по направлению вниз приписываемое не может быть бесконечным в рассматриваемых [нами] науках, дающих доказательства» [там же, 84 а]. То, что содержится в существе вещей, «не бесконечно, в противном случае невозможно было бы [их] определение. Так что если все приписываемое обозначается как [присущее] само по себе, а то, что есть само по себе, не бесконечно, то существует предел по направлению вверх и, следовательно, по направлению вниз» [там же]. Отсюда Аристотель выводит, что необходимо должны быть начала доказательств и что нет доказательства всего [см. там же]. В конце концов, мы дойдем до начал, составляющих независимую основу всех зависимых от них положений: эти начала уже не доказываются. Аристотель различает три вида недоказуемых начал: 1) аксиомы; 2) предположения; 3) постулаты. Аксиомы — положения, обусловливающие возможность какого бы то ни было знания либо в любой науке, либо в группе взаимозависимых наук. Пример аксиомы, общей для всех наук, — начало, или закон противоречия. Начало это — не гипотеза, а то, что необходимо знать человеку, если он познает хоть что-нибудь. Согласно этому началу, «невозможно, чтобы одно и то же вместе было и не было присуще одному и тому же и в одном и том же смысле» [7, IV 3, 1005 19–20]. Пример аксиомы, общей для группы наук: две величины остаются равными, если у них отнять равные части. Аксиомы имеют силу для всего существующего, а не специально для одного какого-либо рода. Пользуются ими, потому что они определяют сущее как таковое. Однако в каждом отдельном исследовании с аксиомами имеют дело в зависимости от того, как далеко простирается род, к области которого относятся развиваемые доказательства. Так как аксиомы применяются ко всему, поскольку оно есть нечто сущее, или свойство, одинаково присущее всему, то никакой ученый, ведущий исследование частного характера, не может сказать о них, истинны они или ложны: ни геометр, ни арифметик. Некоторые физики притязали на это, так как полагали, будто физика исследует, всю природу и все сущее. Но так как природа — только отдельный род существующего, и физика — не первая мудрость, то вполне компетентна в исследовании аксиом только философия. Только философия может указать самое достоверное из всех начал, по отношению к которому нельзя ошибиться [см. 7, IV, 3, 1005 а — 1005 в]. Предположениями Аристотель называет положения, которые сами по себе доказуемы, но в пределах данного научного рассуждения принимаются без доказательства. При предположении принимаемое положение кажется учащемуся правильным. Или, согласно определению Аристотеля, «все то, что хотя и доказуемо, но сам [доказывающий] принимает, не доказывая, и учащемуся это кажется [правильным], — это есть предположение» [5, I, 10, 76 в]. Предположение небезусловно и имеет значение лишь для учащегося, для которого оно сформулировано или выдвинуто. Функция предположений в суждении — в обосновании заключений: «…[предположения] — это [суждения], при наличии которых получается заключение благодаря тому, что они, есть» [там же]. Постулатами («требованиями») Аристотель называет положения, которые принимаются в пределах данного научного рассуждения, но принимаются или при полном отсутствии у учащегося мнения по поводу исследуемого предмета, или даже при наличии несогласия учащегося с постулируемым положением. «…Если принимают [что-то], в то время, как [учащийся] не имеет никакого мнения [об этом] или имеет мнение, противное [этому], то постулируют это» [там же]. Метод установления исходных принципов наукиМы рассмотрели первые две части учения Аристотеля о научном познании: диалектику вероятного знания и метод достоверной науки. Третью часть его учение о познании составляет учение о методике установления исходных положений науки. Уже в аристотелевской «диалектике» показывается, каким образом ум может подготовляться — посредством отбрасывания заблуждений, ложных мнений — к достоверному созерцанию основных положений науки. Специальным методом подготовки к усмотрению общего — через частное — должна быть, по Аристотелю, «индукция» (epagwgh). Применение этого слова стало техническим термином логики, по-видимому, впервые у Аристотеля. Первоначально термин мог означать способ перехода от одних знаний, которыми ученики уже владели, к новым. Аристотелевская «индукция» уже есть путь от единичных случаев к общим положениям. Разъяснение термина в этом смысле дано в «Топике». Но в «Аналитике» в качестве отправного пункта индукции указано вместо «единичного» «частное», а индукция как метод противопоставлена дедукции, отправляющейся от всеобщего. Вся небольшая глава 1-й книги «Второй Аналитики» доказывает, что общее знание невозможно без индукции, а индукция — без чувственного восприятия. Если нет чувственного восприятия, рассуждает Аристотель, «то необходимо будет отсутствовать и какое-нибудь знание, которое невозможно [в таком случае] приобрести, поскольку мы научаемся [чему-нибудь] либо через индукцию, либо посредством доказательства» [5, I, 18, 81 а — 81 в]. Хотя доказательство исходит из общего, а индукция — из частного, однако и общее «нельзя рассматривать без посредства индукции, ибо и так называемое отвлеченное познается посредством индукции, [именно], если кто-либо хочет показать, что некоторые [признаки]… присущи каждому роду… Но индукция невозможна без чувственного восприятия, так как чувственным восприятием [познаются] отдельные [вещи], ибо [иначе] получить о них знание невозможно» [там же]. Таким образом, «как знание, [приобретаемое] из общего, невозможно без индукции, так и [знание] посредством индукции невозможно без чувственного восприятия» [там же, 81в]. «Индуктивные» умозаключения, как их понимает Аристотель, не составляют еще науку в собственном смысле, но образуют (наподобие аристотелевских «диалектических» аргументов) только подготовление к ней, или преддверие к ним. Характерно, что как на своего предшественника в обосновании метода науки Аристотель указывает не на Платона, с которым он в этой связи полемизирует, а на Сократа. Но тут же он подчеркивает, что даже у Сократа речь шла не о самой науке, а только о «начале знания»: «…две вещи надо было бы отнести на счет Сократа — индуктивные рассуждения и образование общих определений: в обоих этих случаях дело идет о начале знания» [7, XIII, 4,1078 в 27 и сл]. Напротив, платоновская «диалектика» как учение об «идеях», приписавшее общим сторонам вещей обособленное существование, не может быть истинным методом науки. Аристотель находит, что «диалектический» (в его, аристотелевском, смысле) силлогизм и «индукция» определяют формальный характер двух видов вывода, которые он назвал «энтимемой» и «примером». [26] «Энтимема»Исходной точкой «энтимемы» Аристотель считает предположение некоторого общего положения, которому должны быть подчинены частные случаи. Например: если война — причина бедствий, от которых мы страдаем, то мы можем исправить свое состояние только посредством мира [см. 13, I, 23] Рассуждение предполагает здесь вероятность не только для некоторых частных случаев, но и общего значения. Эта вероятность касается результатов войны и мира, которые могут быть сопоставлены. Но «энтимема» может иметь исходной точкой и другое, принятое в качестве общего или обычного, отношение «признака». Посредством такого умозаключения не получается объяснение, а только удостоверяется или отвергается существование. Оно не может ответить ни на вопрос «почему», ни на вопрос «что есть». Сходна познавательная функция и «примера». Но в то время как «энтимема» только предполагает общий принцип, на котором в ней основывается умозаключение, «пример» указывает его обоснование. Рассмотрим образец аристотелевского «примера». Дано некоторое общее утверждение: если первое должностное лицо государства требует лично для себя стражи, то это признак его тайного стремления к тирании. Таков случай с Писистратом. С этим случаем сопоставляется другой: Дионисий Сиракузский тоже требует для себя стражи. Следовательно, таково заключение — не приходится сомневаться, что и он, подобно Писистрату, замышляет тиранию. В этом умозаключении частные случаи не подводятся под общее, но вывод опирается на аналогию — сходство, или подобий некоторых частных случаев: по словам Аристотеля, «пример» «не показывает отношения ни части к целому, ни целого к части, но отношение части к части, когда они обе подходят под один и тот же [термин], но одна [из них] известна» [4, II, 24, 69 а]. Отличие «примера» от «индукции» в том, что индукция дает более дифференцированное рассмотрение частных случаев, а сходство в том, что и «пример» и «индукция» — выводы по аналогии. Индукция отправляется от единичных опытов и есть нечто, наилучшим образом известное, но лишь с точки зрения восприятия. Восприятие, или ощущение, — способ бытия и соответственно познания, общий у человека со всеми живыми существами: все они обладают прирожденной способностью «разбираться». При этом у одних существ от чувственно воспринятого остается нечто, у других — ничего не остается. Те, у кого ничего не остается, не могут иметь познания вне чувственного восприятия. Но есть и такие живые существа, которые, когда они чувственно воспринимают, удерживают в душе что-то из воспринятого. Если таких восприятий накапливается много, то между испытавшими восприятия возникают различия: у одних из воспринятого возникает некоторое понимание, у других же не возникает. Способность удерживать часть воспринятого есть память. Из часто повторяющегося воспоминания об одном и том же возникает опыт. Из опыта же, т. е. из всего общего, сохраняющегося в душе, берут свое начало навыки и наука. Навыки возникают, когда происходит процесс создания вещей; наука — «если дело касается существующего» [5, II, 19, 100 а]. Все эти способности познания «не обособлены и возникают не из других способностей, более известных, а из чувственного восприятия» [там же]. Способ их возникновения Аристотель сравнивает с тем, что бывает в сражении, когда строй обращается в бегство: «…когда один останавливается, останавливается другой, а затем и третий — пока [все] не придет в первоначальный порядок». Нечто подобное может испытать и душа. Как только из не отличающихся между собой вещей нечто удержится в памяти, впервые возникает в душе общее. Происходит это так: ощущаться может только единичное, но восприятие, если оно уже возникло, всегда «есть [восприятие] общего, например, человека, а не [единичного] человека Каллия». Затем на достигнутом результате задерживаются, «пока не удержится [нечто] неделимое и общее» [там же]. Отсюда Аристотель заключает, что первичное мы должны «необходимо познавать посредством индукции, ибо [именно] таким образом восприятие порождает общее» [там же]. Не следует недооценивать это утверждение Аристотеля. Если бы Ф. Бэкон внимательно прочитал 19-ю главу 2-й книги «Второй Аналитики», он вряд ли смог бы так односторонне характеризовать, как он это сделал, логику и теорию познания Аристотеля в качестве чисто дедуктивной. Аристотель не только признавал необходимость индукции для науки. Он даже полагал, как это верно отметил Робэн, что чем выше уровень науки, чем он более всеобщ и доказателен, тем больше наука испытывает нужду в опоре на индукцию [72, с. 57]. И в «Физике» и в «Метафизике» Аристотель нередко говорит об очевидности, которая есть результат именно индукции (примеры отмечены в «Индексе» Боница). И все же «индукция» Аристотеля ниже порога науки. Ни один из видов индукции Аристотель не рассматривает как метод науки в точном смысле понятия. «Индукция» Аристотеля, как хорошо показал тот же Робэн, не есть метод для познания законов природы. Поскольку Аристотель сопоставляет дедукцию с индукцией, он подчеркивает, что только дедукция может возвысить знание до сферы науки, ставши доказательством. Напротив, индукция не может вести дальше от вопроса о факте или о существовании. Только определение способно превратить простое свидетельство о факте в раскрытие сущности. И только доказательство способно превратить утверждение или отрицание существования в причинное объяснение. Оценка индукции не может быть изменена в силу указания, что посредством индукции могут быть обнаружены в опыте если не всеобщие, то по крайней мере устойчивые, стабильные свойства. Такое указание также не может дать научного объяснения. Факт сам по себе не может, по Аристотелю, стать предметом науки. Мысль эту он выражает очень резко. Даже созерцание воочию действия причины неспособно, отдельно взятое, доставить научное объяснение причины. Если бы даже. перенесенные на Луну, мы увидели, что Земля проходит между Луной и Солнцем» это доставило бы нам только удостоверение факта, но не дало бы никакого познания причины лунного затмения. «Ибо мы, [правда], чувственно воспринимали бы, что в данное время затмение [Луны] происходит, но мы не знали бы, почему оно вообще происходит, так как чувственное восприятие не есть [восприятие] общего» [5, I. 31, 87 в]. Только из наблюдения, что так бывает часто, мы, получили бы доказательство. «Ибо из многократности отдельного становится очевидным общее» [там же]. Общее же ценно потому, что оно раскрывает причину. Напротив, индукция лишь направляет мысль к сущности. Однако раскрыть эту сущность может только определение, для того же, чтобы выяснить связь сущности с ее действиями, требуется доказательство. Аристотель противопоставляет то, что в умозаключении более первично и ясно по существу, тому, что является таким для нас, т. е. лишь в порядке развития и хода нашего опыта, в порядке оказавшегося возможным для нас подхода к познанию порядка самой природы. «По существу, — разъясняет Аристотель, — более первичным и более известным является умозаключение, получаемое посредством среднего [термина]. Но для нас более ясным является умозаключение, получаемое посредством индукции» [4, II, 23. 68 в]. Научная база логики и теории познания АристотеляВ «Аналитиках» рассматриваются обобщенные и в известной мере формализованные виды умозаключения и доказательства. Характер этой формализации, ее значение, сильные и слабые стороны выясняются новейшими исследованиями, среди которых видное место принадлежит превосходной работе Яна Лукасевича [см. 32]. Но логика Аристотеля возникла не в безвоздушном пространстве логических абстракций. Она возникла как попытка логического исследования тех форм и видов логического мышления, которые действуют в умозаключениях и доказательствах науки. Она не предписывает науке ничего, что не было бы выведено из бытующих в самой науке форм, методов, приемов мысли. Для Аристотеля такой подход к нахождению форм логического мышления естествен: ведь сам Аристотель был не только крупнейшим философом своего века, но и его крупнейшим ученым поразительно широкого творческого охвата. Но именно эта широта и «универсальность», отмеченные как характерная черта Аристотеля Энгельсом [см. I, т. 20, с. 19], выдвигает важный вопрос: на каких именно науках основывался Аристотель в своих логических исследованиях? Из каких научных форм умозаключения и доказательства, из каких наук черпал он образцы, обобщением и формализацией которых оказались выведенные и объясненные Аристотелем логические формы мышления? В историко-философской и логической литературе выдвигалось предположение, будто научной базой логики Аристотеля были его наблюдения и исследования, посвященные вопросам морфологии и физиологии животных. Само собой, по-видимому, напрашивается соображение, что именно биология, в частности зоология, представляла в глазах Аристотеля образец систематики, классификации предметов на роды и виды. Отсюда столь же естествен вывод, что различение биологического рода и вида, выступающее в зоологической классификации, в логическом плане основывается на операции определения, на котором, в свою очередь, основывается в том же логическом плане доказательство. В этой связи, по-видимому, не случайным представляется тот факт, что пример, иллюстрирующий форму индуктивного умозаключения, Аристотель взял именно из области зоологии (вывод о связи между долголетием некоторых животных и отсутствием у них желчи). И все же, как ни естественно предположение о том, что «материальной» основой для логических анализов и логических схем Аристотеля стали формы научного мышления, встречающиеся в биологии, имеются серьезные соображения и даже прямые данные, говорящие о том, что такой «материальной» основой для Аристотеля оказалась не столько современная ему биология, сколько математика. Прежде всего заметим: не следует основывать решение вопроса о научной базе логики Аристотеля на тождестве терминов «род» и «вид» в биологии и в логике. Биологическая систематика и классификация представляют опыт распределения живых существ по группам — распределения, в основе которого лежат эмпирические сходства и аналогии, почерпнутые из наблюдения, т. е. из фактов, пассивно воспринятых чувственностью. Однако, по воззрению Аристотеля, уже нам известному, хотя эмпирические знания ведут к познанию всеобщего, это всеобщее может быть дано только в возможности. В определении, приводящем к различению рода и вида, речь идет не об эмпирической группировке фактов или предметов опыта, а об определении умопостигаемой сущности. Именно в ней различается как ее материальная часть ее род и как ее формальная часть — ее видоопределяющее различие. Для понимания логической функции определения единственно возможной наукой, в которой оно было уже реализовано и обосновывало ее доказательства, могла стать только математика, точнее геометрия. Ко времени Аристотеля в геометрии уже сложились условия для возможности систем магического построения и изложения. «Начала Евклида» предполагают задолго до них начавшуюся — в математических кругах последователей Платона — работу по изложению результатов, достигнутых в математике с ее дисциплинами — арифметикой, геометрией, теорией гармонии и астрономией. «Началам Евклида» предшествовали не дошедшие до нас, но, по всей видимости, подобные им своды математического знания: «Начала» Гиппократа, Леонта и Февдия, упоминаемые в каталоге Прокла. [27] Близость Евклида к Аристотелю по времени явствует из того, что Евклид родился меньше чем десятью годами позже смерти Аристотеля: при жизни Аристотеля работы по созданию сводов математических знаний шли уже полным ходом. Но кроме этих общих исторических соображений есть данные, относящиеся к существу вопроса. Имеется важный факт, состоящий в том, что в логических трактатах Аристотеля почти все иллюстрации, необходимые для обоснования и разъяснения логики, почерпнуты из геометрии. И действительно, предметы математики по Аристотелю, имеют несомненное преимущество сравнительно с органическими существами, известными из опыта. Объекты математики — результат абстракции от чувственных предметов опыта. Согласно разъяснению самого Аристотеля, «предметом… [изучения] математических наук являются понятия, а не какая-либо [материальная] основа. Ибо если геометрия и рассматривает некоторую [материальную] основу, то не как таковую» [5, I, 13, 79а]. А в другом месте он добавляет, что наука, «не имеющая дело с [материальной] основой, точнее и выше науки, имеющей с ней дело, как арифметика по сравнению с гармонией» [там же, I, 27, 87а]. Правда, основа этой науки и ее понятий — физическая реальность. Это тот материалистический базис математических абстракций, который отметил и высоко оценил в Аристотеле Ленин. Однако непосредственная реальность математических объектов для науки, как ее понимает Аристотель, уже не в их физической, а только, если можно так выразиться, в их логической материи: это умопостигаемое, а не чувственно постигаемое единство рода и видоопределяющего признака. Именно это единство лежит в основе дедукции произвольных свойств математических объектов. В связи с этим математические объекты в известном отношении Аристотель ставит ниже, чем собственно «формы», именно потому, что предметы математики — только абстракции и обладают индивидуальностью не в самой действительности, а только в мысли. Они не имеют длящегося бытия и воссоздаются всякий раз и как угодно часто посредством определения. Напротив, истинные «формы» отличаются каждая индивидуальной субстанциальностью, которая не возникает каждый раз вновь, когда дается их определение. Но, признавая умопостигаемую реальность объектов математики, благодаря которой математическое рассуждение — естественный «материал», в котором раскрывается природа логических операций и форм, Аристотель борется против платоновского — идеалистического — взгляда на математику. Имея в виду платоников, и прежде всего самого Платона, он неодобрительно отмечает, что математика «стала для теперешних [мыслителей] философией» [7, 991 а 32–33]. В концепции платонизма Аристотель осуждает учение Платона о срединном положении математики между умопостигаемым миром «идей» и чувственно воспринимаемым миром вещей: чтобы подвести многообразие и изменчивость чувственных вещей под единство и тождественность разума, Платон вводит посредствующую функцию математических объектов. Таким образом, математика становится для Платона средством или орудием знания. Напротив, для Аристотеля математика — не «органон», не орудие знания, а само знание в его явлении или обнаружении. Для Аристотеля «органон» знания — не математика, а «аналитика», т. е. логика. Не только математика, но и всякая наука — знание — есть сфера применения «органона». К тому же связи между понятиями науки, как ее понимает Аристотель, — связи логические. Наука направлена на постижение качеств, характеризующих индивидуальное или субстанциальное бытие. Но качества Аристотеля, так же как и его субстанции, в плане науки являются логическими сущностями, между которыми существуют отношения, или градация, подчинения. Между всеми этими понятиями должна быть выяснена их логическая связь. В конечном счете действительный мир познания — это мир, где действует ум. Ум, по Аристотелю, истиннее даже, чем сама наука. Поэтому ум может иметь своим предметом начала знания. Наука, как и ум, дает истину, и никакой другой род познания, кроме ума, «не является более точным, чем наука» [7, 99 la 32–33], «не может быть истиннее» [там же]. Но всякая наука обосновывается, а начала доказательств более известны, чем сами доказательства. Так как начало доказательства уже не есть доказательство, то наука не может быть началом науки. Таким началом может быть только ум — единственный, кроме науки, вид истинного познания. Теория познания Аристотеля, так же как и его теория «форм», — теория объективного идеализма. 8. Силлогистика Деятельность Аристотеля принадлежит не только истории философии, но и истории науки. В кругу наук, разработкой и даже созданием которых занимался Аристотель, первое место принадлежит логике. Аристотель — автор оригинальной, чрезвычайно тщательно разработанной логической системы, оказавшей через посредство переработки и истолкования ее послеаристотелевскими античными логиками, а также логиками феодального периода огромное влияние на развитие логической науки. Поскольку логика — специальная наука об умозаключении и доказательстве, в настоящей работе, предмет которой — очерк истории античной философии, — не может быть предложено сколько-нибудь подробное рассмотрение специальных логических учений Аристотеля. К тому же рассмотрение это должно было бы оказаться непропорционально пространным. В силу ряда исторически сложившихся причин даже специалистам-логикам нелегко восстановить точный, отражающий историческую действительность смысл логических учений Аристотеля. То, что в XIX в. (а также отчасти в XX в.) считалось логикой самого Аристотеля, было результатом недостаточно точного отличения этой логики от так называемой традиционной формальной логики. С другой стороны, характерный для XIX в. упадок логической теории, смешение теоретических учений логики с метафизическими спекуляциями идеалистической — чаще всего эклектической или позитивистской — философии крайне затрудняли верную историческую и теоретическую оценку великого логического деяния Аристотеля. Такая оценка может быть исторически обоснованной и точной только при условии ясного и точного понимания существа формальной логики. А это понимание возможно только на основе серьезного знакомства с теориями и учениями новейшей символической (математической) логики. Именно математическая логика дала возможность ответить на вопрос, что такое формальная логика, а следовательно, указала критерий для оценки выдающихся явлений в истории этой науки. К логике Аристотеля сказанное применимо в полной мере. В сущности, настоящее изучение и понимание логики Аристотеля только еще начинается. Выдающийся вклад в это изучение внес польский логик Я. Лукасевич, особенно в работе «Аристотелевская силлогистика с точки зрения современной формальной логики». Отправные идеиВажнейшая часть логики Аристотеля — теория силлогизма и доказательства. Но очень важно также его учение о понятии и о предложении (суждении). Теории понятия Аристотель не посвятил специального исследования. Данные для характеристики его учения о понятии имеются в «Аналитиках» и в «Топике». Так как логика Аристотеля есть главным образом логика терминов, то определения природы понятия и отношений между понятиями были предметом его внимания. Особенно важным для него было выяснение свойств общего. В учении об общем, как и в других частях философии Аристотеля, логическое поставлено в зависимость от онтологического. Общее определяется как то, что относится ко многим предметам в силу их природы. То, что во многом относится к существенному, дает понятие о роде. То, что стоит в связи с родом и может быть выведено из рода, есть свойство. Если свойство по природе отличает целую группу предметов рода от другой (других) группы, то такое свойство дает понятие о виде. Если к свойствам рода и вида присоединяется свойство единичного предмета, выделяющее его и отличающее его от всякого другого, то такое свойство дает понятие о том, что собственно принадлежит предмету, о его собственном признаке. Никакое понятие не может быть, согласно Аристотелю, полностью адекватно своему предмету. Во всяком отдельном предмете, кроме характеризующего его свойства, есть некий неопределенный субстрат, в котором коренится и на котором выступает свойство, отличающее этот предмет от других. Субстрат этот сам по себе уже неопределим, не может быть выражен в понятии. Именно поэтому единичный предмет не может быть исчерпан посредством понятия и адекватно отображен в нем. Одними и теми же свойствами могут обладать несколько субстратов. Поэтому, каким бы конкретным ни было понятие, под него возможно подвести, по крайней мере в мысли, несколько предметов. Свойства, которыми отличаются друг от друга чувственно воспринимаемые предметы, Аристотель называет случайными свойствами. От них он отличает особенные свойства, особенности. Хотя они принадлежат всем предметам, но они не входят в понятие вида, не характеризуют предметы как составляющие вид. Понятие, отдельно взятое, не образует предложения. Но и простое соединение понятий также еще не есть речь. Для того чтобы возникла речь, необходимо возникновение высказывания. Это происходит, когда соединение понятий содержит утверждение одного о другом или, напротив, отрицание. Там, где это произошло, имеется налицо предложение (суждение). Аристотель классифицирует предложения, разделяя их на четыре группы. Одну из них составляют утвердительные и отрицательные предложения; в первых понятия соединяются, во вторых отделяются друг от друга. Вторую группу составляют истинные и ложные предложения. Для логики Аристотеля, в частности и в особенности для его теории силлогизмов и доказательств, различение истинных и ложных предложений фундаментально. В обосновании этого различения сказывается первенство онтологического аспекта: истинными предложениями Аристотель называет те, в которых утверждается соединение понятий таково, каково соединение их предметов в действительности, или разделение понятий таково, каково разделение их предметов в действительности. Ложными он называет те предложения, в которых либо соединяется то, что разделено в действительности, либо разъединяется то, что в действительности соединено. Соединение обоих оснований классификации предложений дает четвероякое их разделение на: 1) утвердительные истинные; 2) отрицательные истинные; 3) утвердительные ложные; 4) отрицательные ложные. Третье основание для классификации предложений определяется характером их общности. То, что высказывается в предложении, может относиться к одному предмету или к их множеству. Предложение, в котором высказывание относится к одному предмету, — единичное. Предложение, в котором высказывание относится ко всем предметам известного вида, — общее. Предложение с высказыванием не о всех, а о нескольких предметах вида — частное. Кроме того, Аристотель выделяет предложения, называемые неопределенными. Это предложения, в которых неясно, указывается, к какой именно части класса предметов относится высказывание, например: «Удовольствие не есть добродетель». Четвертое основание для классификации предложений — способность их быть высказываниями о возможности, действительности и необходимости. При различении этих трех видов предложений имеется в виду не отношение мыслимого к нашей мысли, а способность предложения отображать реальное состояние, т. е. нечто, относящееся к самой сущности предметов. В этом смысле, например, возможным считается не то, что признается таковым, а то, что возможно само по себе. Аристотель выделяет три вида возможного. Перечислим эти виды, по Стагириту. Это, во-первых, возможное в обычном смысле, т. е. то, что, будучи одним, может перейти в другое. Все, что может стать иным, может быть определено, как это иное в возможности. Во-вторых, существует возможное, которое на деле всегда существует только в качестве действительного. Так как оно действительно, то тем самым оно и возможно, но оно никогда не встречается как возможное, а лишь как действительное. Таковы, например, небесные светила. Они вечны, не возникли ни из какого предшествующего им состояния, не могут перейти ни в какое иное состояние. Действительность — единственный присущий им вид существования. В-третьих, существует возможное, которое вечно остается только возможным и никогда не переходит в действительность. Такова, например, величина, большая всякой другой величины; нельзя не признать ее возможной, но она не может стать действительной: как бы велика она ни была, но как только ее обозначают известным числом, оказывается, что посредством прибавления к нему может быть получено еще большее число. Силлогизм как импликацияГлавная и наиболее оригинальная часть логики Аристотеля — его теория силлогизма и теория доказательства. В учении о силлогизме он сам сознавал себя пионером и признавался, что на создание этой теории он затратил большой труд. Аристотель — основатель формальной логики. Он мог стать им вследствие сделанного им фундаментального для всей логики открытия. Исследуя строение силлогизмов, он все термины в них представляет буквами, т. е. вводит в логику переменные. Уже древний комментатор Аристотеля Александр правильно указал на цель этого нововведения: Аристотель, говоря словами Я. Лукасевича, «представил свою теорию в буквенной форме, stoiceia, для того чтобы показать, что заключение получается нами не как следствие содержания посылок, а как следствие их формы и сочетания; буквы являются знаками общности и показывают, что такое заключение будет следовать всегда, какой бы термин мы ни избрали» [32, с. 42]. Например: «Если А высказывается о всяком В и В высказывается о всяком С, то А высказывается о всяком С». Очень точно эту функцию переменных характеризовал в логике Аристотеля другой древний комментатор — Иоанн Филопон: «Ты дашь общее правило, беря буквы вместо терминов… общую речь опровергает и один пример. Когда мы ищем общее правило, то требуется или обозреть все частные случаи (что является невозможной и бесконечной операцией), или же мы получаем уверенность благодаря общему правилу. Теперь это общее правило дается посредством букв: ими можно пользоваться, по произволу подставляя вместо букв любой материальный термин» [там же, с. 43, примечание]. Из этого взгляда на переменные вытекает весь характер логики Аристотеля. Логика эта не есть конкретное учение о конкретных вещах или терминах, не есть учение о «человеке», «смертности» и «Сократе» («все люди смертны», «Сократ — человек», «следовательно, Сократ смертен»). Логика — наука о законах силлогизмов, выраженных в переменных, а не наука о приложении этих законов к примерам или конкретным терминам. Силлогизм Аристотеля вовсе не есть вывод типа: «Всякое В есть Л; всякое С есть В; следовательно, всякое С есть Л». Только под влиянием логики стоиков силлогизм Аристотеля был истолкован как вывод, вроде указанного. У самого Аристотеля силлогизм — импликация указанного выше типа:
Это адекватный пример аристотелевского силлогизма. В нем две посылки, представляющие конъюнкцию, образуют антецедент импликации. Первая посылка: «Если А присуще всякому В», вторая «В присуще всякому С». Консеквент этой импликации: «А присуще всякому С». Общая формула всей импликации: «Если a и b, то g». В традиционной логической литературе до самых последних десятилетий этот характер аристотелевской теории силлогизма понимался неточно: силлогизм рассматривался как вывод, в то время как у самого Аристотеля нигде он не выступает в качестве вывода со словом «следовательно». Отличение силлогизма — импликации Аристотеля — от вывода традиционной логики имеет важное значение. Как импликация силлогизм Аристотеля есть предложением потому должен быть либо истинным, либо ложным. Напротив, традиционный силлогизм как вывод может быть правильным или неправильным, но не может быть истинным или ложным, так как он не предложение, а ряд предложений, не спаянных в форму единства. Поскольку указанное здесь различие между аристотелевским силлогизмом и его пониманием в традиционной логике как вывода не проводилось до самого последнего времени, прав Я. Лукасевич, говоря, что «и по сей день мы не имеем изложения подлинной аристотелевской логики» [32, с. 60]. Форма силлогизма характеризуется числом переменных, их расположением и, кроме того, так называемыми логическими константами (постоянными). Две из них не представляют специфических характеристик аристотелевской логики и входят как часть в более широкую и более основную логическую систему. Это соединения, выражаемые союзами «и» и «если». Кроме них, имеется еще четыре постоянных, специфически характерных для логической системы Аристотеля. Это отношения между общими терминами: 1) «быть присущим всякому», 2) «не быть присущим ни одному», 3) «быть присущим некоторому» и 4) «не быть присущим некоторому». В схоластической логике эти отношения обозначались соответственно латинскими символами А, Е, I и О. На этих четырех отношениях при посредстве соединений «и» и «если» построена вся теория силлогизма Аристотеля. Теория, эта есть система истинных предложений, или, согласно терминологии Лукасевича, «положений», касающихся констант А, Е, I, О, [см. там же, с. 57]. Аристотелевская логика предполагает свое применение только к общим терминам — вроде: «животное» или «млекопитающее». Но и эти термины собственно характеризуют не саму его логическую систему, а лишь сферу ее применения. Анализируя формы силлогизма, Аристотель выделил три основных вида (три «фигуры»), в которые могут быть сведены все отдельные его «модусы», т. е. случаи с их различиями в членах конъюнкции, образующей антецедент, а не в консеквенте. Принципом, на основе которого Аристотель разделил модусы силлогизма на фигуры, оказалось положение среднего термина в качестве субъекта или предиката посылок. «Мы узнаем фигуру, — говорит он, — по положению среднего термина» [4, I, 32, 47 в 13]. Цель силлогизма — обосновать отношение А к В. Для этого необходимо найти нечто общее как для Л, так и для В. Найти его возможно тремя способами: 1) посредством утверждения А относительно С, а С относительно В; 2) посредством утверждения С относительно их обоих; 3) посредством утверждения А и В относительно С. «Отсюда очевидно, — поясняет Аристотель, — что всякий силлогизм необходимо строится по какой-нибудь из этих фигур» [там же, I, 23, 41 а]. В этой схеме А — предикат силлогистического заключения, В — его субъект, а С — его средний термин. В первой фигуре средний термин — субъект по отношению к А (к «большему» термину) и предикат по отношению к В (к «меньшему» термину). Во второй фигуре средний термин — предикат, а в третьей — субъект по отношению к большему и меньшему терминам. Аристотель разделил все силлогизмы на «совершенные» и «несовершенные». «Совершенные» силлогизмы — это, по сути, аксиомы силлогистики: не требующие доказательства и недоказуемые самоочевидные утверждения. «Несовершенные» силлогизмы лишены очевидности и доказываются. Если не существует термина среднего по отношению к А и В, то предложение «А присуще В» будет «непосредственным». Недоказуемые непосредственные положения, или «начала», составляют фонд основных истин. Аристотель указывает способы, сведения всех модусов второй и третьей фигур силлогизма к модусам первой. В системе логики Аристотеля сведение есть не что иное, как доказательство модусов второй и третьей фигур в качестве теорем при помощи модусов первой фигуры. Для логической теории Аристотеля сведение — необходимая составная часть этой теории. Аристотель развил систематическое исследование силлогистических форм. В нем он, во-первых, доказывает истинность некоторых из них и, во-вторых, доказывает ложность остальных. Подробности этого исследования принадлежат не истории философии, а логике, где они и рассматриваются. Прочие идеи«Вторая Аналитика» Аристотеля посвящена учению о доказательстве. Основные черты и положения этого учения уже даны в анализе теории познания Аристотеля. Добавим немногое. Научное доказательство, по учению Аристотеля, — или силлогизм или ряд силлогизмов, связь которых опосредствована общим для них элементом. Возможность доказательства, состоящего из ряда силлогизмов, опирается на два условия. Согласно первому предполагают существование положений, которые не могут быть выведены из других посылок. Согласно второму звенья, или элементы, опосредствующие заключение и соединяющие исходные высшие начала знания с конечным заключением, не могут идти в бесконечность. Если бы это последнее условие не выполнялось, то не были бы возможны ни доказательство, ни основывающаяся на доказательствах наука. Аристотель тщательно обосновывает тезис о недоказуемости последних, высших посылок знания. Но если это так, то возникает вопрос: существует ли способ убедиться в том, что эти посылки истинны? Исследуя этот вопрос, Аристотель различает два класса невыводимых, недоказуемых истин: 1) наиболее общие положения, или начала; 2) начала, наиболее частные. Последние непосредственно относятся к единичному бытию. Так как положения от единичном даются восприятием, то восприятие, таким образом, рассматривается у Аристотеля как источник истины. Если бы в основе восприятия не коренились действительные факты, то само появление восприятия было бы непостижимо. Некоторые предшественники Аристотеля оспаривали достоверность чувственного восприятия, и их возражения были известны Аристотелю. В числе возражений были ссылки на возможность иллюзий, обмана чувственных восприятий. Однако, по разъяснению Аристотеля, в этом случае истинная причина обмана — не самые чувства как таковые. Причина обмана — в нашем суждении о воспринимаемом: суждение ошибочно относит к самому предмету то, что лишь кажется ему принадлежащим, Аристотель принимает и другие характеристики чувственного восприятия, на основании которых делались возражения против способности восприятия быть источником истинного знания. Так, указывали: 1) что свойства, воспринимаемые посредством чувств, противоположны, как, например, тепло и холод; 2) что эти противоположные свойства воспринимаются только оттого, что воспринимающий сам находится в некотором среднем состоянии, от которого эти противоположные состояния отличаются; поэтому с изменением состояния самого воспринимающего изменяются и его восприятия; 3) что восприятия в силу всего указанного относительны. Аристотель принимает все эти указания. Но он полагает, что ошибки, возникающие вследствие всех условий восприятия, исправляются, а по крайней мере, могут быть исправлены, суммарным опытом людей. Сверх того, восприятием обосновываются некоторые общие положения. Как таковые они подлежат, компетенции уже не восприятия, а ума, но ум располагает способностью исправлять и устранять проникшие в познание ошибки. По Аристотелю, восприятие обладает для познания важным свойством: оно не требует никакого особого доказательства своей истинности. Больше того. Факт восприятия как таковой убедительнее всякого доказательства, полученного посредством операций ума. Так решается вопрос о классе наиболее частных недоказуемых положений. Наиболее общие начала, образующие второй класс недоказуемых положений, выступают в доказательствах в качестве необходимых посылок выводов. Некоторые из этих начал имеют силу для всех наук. Таков, например, принцип противоречия. Другие общие положения играют роль основных начал в каждой специальной науке. Здесь Аристотель выступает против учения Платона, который, наоборот, утверждал, будто все отдельные или специальные науки в своих началах находятся в зависимости от положений философии. Каков же источник наивысших и самых общих положений науки? Будучи высшими посылками всех силлогизмов, они уже не могут быть получены из более общих, чем они, начал. Для получения их возможно предложить только путь опыта. Аристотель прямо заявляет в «Аналитиках», что для установления общих предложений необходимо обратиться к данным опыта — к единичным фактам. Но суть вопроса остается в том, какими именно средствами опыт может обосновать самые общие положения. Аристотель указывает средства обобщения единичных и частных положений. Это: 1) индукция; 2) умозаключение по аналогии (называемое у Аристотеля «примером»); 3) способы для сообщения всего лишь вероятным положениям максимума обоснованности. Индукцию, под которой Аристотель понимает то, что в настоящее время называют «полной индукцией», он сводит к силлогизму первой фигуры. Уже по одному этому основанию индукция сама предполагает общие принципы и не может обосновать положения, которые имели бы значение высших посылок знания. Но есть и еще более важное основание, препятствующее этому. Дело в том, что, согласно взгляду Аристотеля, началами (принципами) науки могут быть только самые общие положения. Таковы, например, аксиомы математики. Но чем более общим является положение, тем менее возможно учесть все частные случаи и получить уверенность, что ничто не осталось вне учета. Стало быть, если бы уверенность в достоверной истинности общих положений зависела от учета всех частных случаев, то ни одно из таких положений не могло бы быть обосновано в качестве истинного. «Пример» Аристотеля есть не что иное, как заключение по аналогии от одного частного случая к другому, тоже частному, случаю. «Пример» отличается от «неполной индукции» тем, что он есть заключение от одного-единственного частного случая, а не от многих, как это происходит в «неполной индукции», и еще тем, что дает в заключении не общее, а тоже только частное положение. Однако логический анализ «примера» показывает, что в нем предполагается в качестве условий его правомерности: 1) частный случай; 2) вывод из него общего положения; 3) вывод нового частного случая. Другими словами, «пример» Аристотеля есть сочетание «неполной индукции» с силлогизмом. Но применение неполной индукции также не может дать безусловно достоверных общих положений. Средства, повышающие степень вероятности не вполне достоверных положений, рассматриваются в «Топике». Анализ их основывается на различении достоверного знания и мнения. Знание может быть предметом изучения, мнение может быть оправдываемо на основе вероятности. «Топика» — трактат, в котором излагается искусство доказывать истину из вероятных положений и ограждать исследование от внутренних противоречий. «Топика» указывает «общие места» (topoi, отсюда название всего сочинения), или точки зрения, из которых возможно получить положения, опорные для доказательства мнения, которое само по себе лишь вероятно. Указываются в основном четыре такие точки зрения: 1) мнения сведущих людей и народа; 2) анализ слов и понятий; 3) усмотрение сходства; 4) усмотрение различий. Самая важная в логическом отношении часть «Топики» содержит указание методов, с помощью которых мнение, добытое из общего опыта, может приобрести максимальную вероятность. Однако все указанные таким путем методы не могут быть средством, достаточным для оправдания принципов науки. И обращение к мнениям народа и ученых, и сравнение разнообразных мнений, и сравнение полученных из них выводов, и сопоставление их с уже оправданными положениями науки оставляют нас все же в области мнения. Мнения, даже проверенные разнообразными способами, даже обладающие высокой степенью вероятности, не становятся оттого безусловно достоверными началами науки. Поэтому опыт, как его понимает Аристотель, есть всего лишь неизбежный путь для ознакомления с посылками знания, но сам по себе еще не есть последнее основание для принятия высших посылок. Усмотрение таких, последних или высших, принципов может быть, по Аристотелю, достигнуто только с помощью непосредственного усмотрения ума, умозрительного созерцания или, как это назвали впоследствии, в XVIII в., посредством «интеллектуальной интуиции». Для чего же необходим опыт, если он не может дать доказательства высших принципов? Он необходим не для их доказательства, а для того, чтобы ум имел повод осознать эти принципы. Дело в том, что, по Аристотелю, общие и высшие начала, или принципы знания, не врожденны человеческому уму: они находятся в нем лишь как возможность быть приобретенными. Чтобы эта возможность стала действительностью, необходимо собрать факты, поставить их в поле зрения мысли; необходимо побуждение, которое заставило бы вглядеться в них и возбудило бы в уме акт интеллектуального созерцания этих фактов. Безусловная уверенность в том, что известный предикат принадлежит известному субъекту, не может быть оправдана опытом: ее может дать только интеллектуальное созерцание связей, полученных из опыта. Поэтому научное знание предполагает как опыт, так и умозрение. Это видно, по Аристотелю, из анализа определения. Определение — цель науки; посредством него наука стремится исчерпать все, что относится к сущности познаваемого. Но определение не может быть получено ни только посредством дедукции, ни только посредством индукции. Одна лишь индукция не может дать определения, так как посредством опыта познаются не только существенные, но и случайные черты, но задача определения — только черты существенные. Если определение возникало бы на основе одного только опыта, не было бы никакой гарантии в том, что оно — подлинное определение. Но и дедукция, сама по себе взятая, недостаточна для определения. Дедуктивным путем добытое определение должно представить все существенное. Задача эта достижима только через соединение дедукции с опытом. Каждое отдельное свойство приобретается посредством наблюдения. Но усмотрение существенности свойства, добытого наблюдением, достигается посредством силлогизма. Из взгляда Аристотеля на системную связь понятий вытекает его постановка вопроса о категориях. Наука, обладающая собственными принципами и развивающая, опираясь на них, все частные истины, охватывает всю область относящихся к ней понятий. Взгляд Аристотеля на систему научного знания, отличается от соответствующего взгляда Платона. Для Платона знание представлялось совершенно единой системой понятий, образующих иерархию возвышения и подчинения. Наверху, превыше сущности, — единая идея блага, от которой берет начало всякая сущность и всякое знание. Все знания устремляются к единому источнику и от него исходят. Согласно воззрению Аристотеля, не существует и не может существовать понятия, которое могло бы быть предикатом всех других понятий. Различные понятия, принадлежащие различным сферам знания, настолько отличаются друг от друга, что не могут войти в один общий для всех них род. Поэтому для Аристотеля проблема определения высшего понятия оказалась более сложной, чем для Платона. У Платона задача состоит в том, чтобы найти единое понятие, точнее, единый род бытия, к которому сводятся все остальные его роды. Это и есть «идея» блага. Для Аристотеля вопрос состоит в том, чтобы определить не один род, а целую систему высших родов бытия, к которым относятся все понятия каждого из этих родов. Эти высшие роды Аристотель назвал «категориями», т. е. основными родами «оказывания» о сущем. 9. Категории Все, предстоящее чувствам и мышлению, знаменует для Аристотеля проблему бытия [см. 77, с. 63]. Но философия — «первая философия», как ее называет Аристотель, — исследует не отдельные области бытия, а начала и причины всего сущего, поскольку оно берется как сущее [см. 7, VI, I, 1025 в]. Наиболее полное знание вещи достигается, по Аристотелю, тогда, когда будет известно, в чем сущность этой вещи. Сущность — «первое со всех точек зрения: и по понятию, и по знанию, и по времени» [там же, VIII, I]. В вопросе о сущности Аристотель видит древнейшую и постоянную проблему философии. «И то, что издревле, и ныне, и всегда составляло предмет исканий и всегда рождало затруднения, — вопрос о том. что такое сущее, этот вопрос сводится к вопросу — что представляет собою сущность» [там же, VII, I]. Однако всеобъемлющий охват проблемы сущего и сущности выдвигает вопрос: каким должен быть первоначальный, вводящий в науку подход к этой проблеме? Ответ на этот вопрос Аристотель пытался дать в своем учении о категориях. Это, по верному выражению В. Татаркевича, «первый слой философских исследований» («die erste Schicht der philosophischen Untersuchungen») [77, с. III]. «Категории» — основные роды или разряды бытия и соответственно основные роды понятий о бытии, его свойствах и отношениях. Это определение категорий не есть, однако, определение самого Аристотеля. Больше того. Как верно заметил современный чешский исследователь К. Берка, у Аристотеля вообще нельзя найти ясного определения понятия категории: «er nirgends den Begriff «kategoria» explicite definiert» [см. 50]. По-видимому, предварительной задачей при разработке учения о бытии Аристотель считал выделение основных родов или разрядов бытия. В какой мере при этом Аристотель опирался на труды своих предшественников, сказать трудно. Предшественниками его здесь могли быть пифагорейцы со своей таблицей десяти парных начал и Платон, в «Софисте» которого мы уже находим термины, которыми Аристотель обозначил впоследствии некоторые из своих категорий: количества, качества, страдания, действия и отношения [см. Софист, 245 Д, 248 А, 248 С, 260 А; 50. с. 35]. Неразработанность вопроса об отношениях и о связях категорий, логических и лингвистических, привела к тому, что найденные Аристотелем категории выступают у него то как категории бытия и познания, то как категории языка. Исследуя языковые разряды, Аристотель выделяет две группы выражений: 1) изолированные слова и 2) связи слов в предложении, представляющие в формах языка класс понятий и класс высказываний. В основе учения о категориях лежат, по-видимому, исследования понятий, выступающих попеременно то в языковом, то в предметно-онтологическом разрезе [см. 50, с. 36]. Впрочем, ни по вопросу о числе основных категорий, ни по вопросу об их последовательности или порядке в их системе Аристотель за все долгое время разработки своей философии не пришел к твердо установившимся выводам. Сочинение Аристотеля, в котором рассматривается система категорий, поражает своей изолированностью: в нем нет указаний на связь учения о категориях с другими воззрениями Аристотеля. Для учения о категориях, как, впрочем, и для всей философии Аристотеля, характерен двоякий аспект: в онтологическом плане категории — высшие роды бытия, к которым восходят все его частные стороны и обнаружения; в гносеологическом плане категории — различные точки зрения, под которыми могут быть рассматриваемы предметы и которые не могут быть возведены к единой для всех них, возвышающейся над ними точке зрения. В сочинении «О категориях» таких аспектов указано десять. Это: 1) сущность; 2) количество; 3) качество; 4) отношение; 5) место; 6) время; 7) положение; 8) обладание; 9) действование; 10) страдание. Из таблицы не видно, каким принципом и каким планом руководствовался Аристотель, развивая эту свою систему категорий. Было выдвинуто предположение, согласно которому происхождение и порядок категорий в таблице эмпирические: Аристотель, исследуя отдельный предмет, ставил вопрос, какие различные определения могут быть ему приписаны, а затем сводил добытые таким образом определения в известные рубрики. В итоге таких рубрик (категорий) набралось десять. Впрочем, их десять лишь в «Категориях». В других сочинениях Аристотель указывает всего восемь первых категорий, или шесть, или даже четыре, не выделяя остальных. Даже по вопросу о составе категорий окончательного результата Аристотель не фиксирует: в «Метафизике» вслед за категорией места идет категория движения, нигде больше не встречающаяся в качестве категории. Трудно обосновать в подробностях и порядок, в котором выступают у Аристотеля его десять категорий: и здесь в различных сочинениях различные перечни дают неодинаковую последовательность. Все же в отношении первых категорий порядок их следования, как он изложен в сочинении «О категориях», представляется естественным. Категория сущности первая открывает собой всю таблицу, и это вполне понятно: сущность Аристотеля — то, под условием чего единственно возможно все, что относится ко всем остальным категориям. Если категории — наиболее общие роды или типы «оказывания» о каждой единичной вещи, то условием возможности всех таких оказываний должно быть отдельное бытие самой этой вещи, ее субстанциальное существование. И в «Физике» Аристотель говорит: «Ни одна из прочих категорий не существует в отдельности, кроме сущности: все они высказываются о подлежащем «сущность». Но именно поэтому «субстанция» — самобытное, независимое единичное бытие вещи — только определяется посредством категорий, но сама по себе, по сути, не есть категориям. Аристотель сам разъясняет, что среди многих значений того, что говорится о сущем, «на первом месте стоит суть вещи, которая указывает на сущность» [7, VII, I, 1028 а 14–15]. Хотя о сущем говорится с различных точек зрения, но всегда в отношении к одному началу; в одних случаях это название применяется потому, что мы имеем перед собой сущности, в других-потому, что это состояния-сущности, иногда потому, что это путь к сущности (ousia) [см. там же, IV, I, 1003 в 6 и сл.]. Хотя таблица категорий открывается категорией «сущность», но при первом своем появлении эта категория еще не наполнена всем своим понятийным содержанием, которое она приобретет с развитием всей системы категорий. В своем первоначальном смысле сущность есть предмет, способный иметь самостоятельное бытие, не нуждающееся для своего существования в существовании другого, всегда частное, единичное, например: этот единичный человек. Особенность «сущности» в том, что она может внутри себя самой совмещать противоположные друг другу свойства, но вне себя не может иметь ничего, что было бы ей противоположно. Так, единичный человек может быть вместе и добрым и отчасти злым, но отдельный человек, вне себя самого, не имеет ничего, что было бы противоположно ему как отдельному человеку. Субстанция, или единичное бытие, может выступать в суждении только как мысль о его предмете, только как субъект этого суждения. Предикат может высказывать нечто о таком субъекте, но сам субъект как понятие о единичном бытии ни о чем высказываться не может. Субстанции в этом, первом смысле Аристотель называет «первыми сущностями». Первая сущность есть «вот это нечто», вещь, еще неопределенная для знания в своих признаках, но вполне индивидуальная в себе самой. Но развитие знания о предмете приводит к возникновению понятия о предмете: для знания предмет открывается как обладающий некоторыми определениями. Понятия о таких не указываемых только, но уже раскрывшихся для знания предметах Аристотель называет «вторыми сущностями». Первичная сущность, или субстанция, есть не что иное, как указание средствами языка на отдельно существующий предмет. «Сущностью, о которой бывает… речь главным образом, прежде всего и чаще всего является такая, которая не сказывается ни о каком подлежащем, как, например, отдельный человек или отдельная лошадь» [6, V, 2а]. Вторыми, или вторичными, сущностями Аристотель называет уже не указанные посредством знаков или имен отдельные предметы, а понятия, которые по отношению к этим предметам являются или видовыми понятиями о них, или родовыми: «…вторичными сущностями называются те, в которых, как видах, заключаются сущности, называемые [так] в первую очередь…», то есть первичные сущности [там же, 2а]. Таковы как виды, так и обнимающие их роды. Например, отдельный человек «заключается, как в виде, в человеке, а родом для этого вида является живое существо» [там же, V, 2а]. В качестве родовых и видовых понятий «вторичные сущности» отличаются от «субстанции», или «первых сущностей»: они могут иметь противоположное себе. Так, огонь как «субстанция», или «первая сущность», не имеет в природе ничего, что было бы противоположно ему как огню. Но понятие о горячем как «вторая сущность» имеет противоположное себе в понятии о холодном. В этом учении о различии «первых сущностей» («субстанций») и «вторых сущностей» (понятий о родах и видах, или о родовых и видовых свойствах) хорошо отразилось убeждeниe Аристотеля в первичности единичных вещей природы и вторичности знания о них, выражаемого в общих понятиях. В одном месте «Физики» Аристотель прямо утверждает: «Подлежащее есть начало и, по-видимому, первое сказуемого» [14, I, 6, 189а]. Именно поэтому он утверждает, что начало «не должно быть сказуемым какого-либо подлежащего» [там же, 189а]. Но и общие понятия могут быть «сущностями»: «Сущностями» понятия о предметах называются по очевидному основанию. В отличие от «первой сущности» понятие может быть предикатом суждения. Но для знания совершенно необходимо понятие о предмете: оно раскрывает существенную черту субъекта, и в этом смысле родовые и видовые понятия также суть «сущности». За «сущностью» следуют категории «количества», «качества» и «отношения». В системе аристотелевских категорий они образуют «подсистему» с ясно определяемым логическим порядком. Так, «количество» предшествует «качеству», так как представляет необходимое условие «Качества»: в предмете и качество его формы, и качество цвета, и другие качественные определенности предполагают некоторую количественную характеристику, относящуюся к протяженности. В свою очередь, категории «количества» и «качества» предшествуют категории «отношения»: всякое отношение предполагает» по Аристотелю, определенные количества (или качества) одних предметов, сравниваемые с количеством (или качеством) других. Колеблющееся положение в системе категорий принадлежит категориям «места» и «времени» по отношению к так называемым «глагольным» категориям: «положению» (от глагола «находиться»), «обладанию» (от «иметь»), «действованию» (от «действовать») и «страданию» (от «страдать»). В колебании этом сказалась недостаточно определенная точка зрения, которой руководствовался Аристотель при исследовании системы категорий. Там, где на первый план выступала лингвистическая, точнее, синтаксическая точка зрения, категории «места» и «времени» могли быть поставлены раньше «глагольных» категорий, так как в строении предложения обстоятельства места и времени могут предшествовать сказуемому-глаголу… Там же, где главной была не синтаксическая, а логическая точка зрения, «глагольные» категории должны были идти раньше категорий «места» и «времени», так как в логическом строе предложения логический предикат предшествует пространственным и временным характеристикам. В учении о категории «количества» рассматриваются величины и характеристики предметов по величине. Аристотель выдвигает два принципа для их классификации: по признаку непрерывности или прерывистости (дискретности) и по признаку сосуществования в пространстве или последовательности во времени. Первое деление — на непрерывные и дискретные величины — отличается тем, что оба эти класса величин не представляют видов одного и того же рода. Первичными и вместе с тем более общими понятиями Аристотель считает величины дискретные. Всякая величина, по Аристотелю, дискретна, так как всякая величина слагается из единиц: измерению подлежит всякая величина; мера ее — единица, и всегда имеется возможность узнать, сколько единиц содержится в этой величине. То, что называют непрерывной величиной, есть лишь частный случай величины дискретной; различие между ними только в том, что в случае непрерывной величины единицы следуют одна за другой непрерывно. Примеры второго различения величин — по сосуществованию и последовательности — пространство и время. Результаты разделения величин по признакам непрерывности (и дискретности), сосуществования (и последовательности) не налагаются друг на друга, не совпадают: различные члены одного деления могут совместиться с одним и тем же членом другого. Например, по признаку сосуществования и последовательности пространство — протяженная величина, а время — последовательная. Однако в то же время оба они — и пространство и время — непрерывные величины. В учении о «качестве» развивается классификация различных видов «качеств». При разработке теории «качеств» Аристотель руководствуется одним из основных в его метафизике различий — между возможностью и действительностью. Условием всякой деятельности и всего действительного считается возможность этой деятельности, или способность к ней. Если способность применяется в определенном направлении, то она переходит в свойство. Так, упражнение способности к познанию порождает знание, упражнение нравственной способности — добродетель. Особый частный случай свойства — состояние. И свойство, и состояние — виды качества, возникновению которых предшествует данная от природы, еще не составляющая качества физическая возможность. Третий вид качества — «страдательные свойства». По сути, это тоже свойства, и они также приобретаются посредством упражнения. Но в «свойствах» главное — способность деятельности; напротив, в «страдательных» свойствах главное — способность восприимчивости. Первые активны, вторые — пассивны. Четвертый вид качества — «форма» (образ, очертание, фигура) предмета. Характеристика «формы» в указанном здесь смысле — важная характеристика качественной определенности. И онтология, и физика Аристотеля — онтология качественная, физика качества. Это та черта, которая из философии Аристотеля перешла в философию и в науку (физику) схоластики средневековой эпохи. Как особенность качественной определенности Аристотель отмечает, что в отношении нее «бывает и противоположность: так, справедливость есть противоположное несправедливости, белый цвет — черному, и все остальное подобным же образом» [6, VIII, 10 в]. Однако наличие противоположного имеет место не во всех случаях качественных определенностей: так, огненно-красное — качественное определение, но оно не имеет противоположного себе [см. там же, VIII, 10 в]. Другая важная особенность качественных определений в том, что им присуще быть одновременно и отношениями. Одно белое называется в большей и в меньшей степени белым, чем другое, и одно справедливое — более и менее справедливым, чем другое. Да и само качество относительно в своей определенности: будучи белым, предмет имеет возможность стать еще более белым. Впрочем, эту особенность Аристотель считает применимой не ко всем, а только к значительному большинству качественных определений [см. там же, 10 в]. Аристотель заранее отклоняет возможный упрек в том, что, поставив задачей говорить о качестве, он рассматривает вместе с тем и отношения: возможность совмещения качеств и отношений он считает вполне естественной: «…если бы даже одно и то же и оказалось и отношением и качеством, то нисколько не было бы странно причислять его к обоим [этим] родам» [там же, VIII, 11 а]. Категория «отношения» есть также родовое понятие. Оно обнимает в себе четыре вида отношений. Это, во-первых, математические отношения; во-вторых, отношения производящего (мастера) к производимому (или к изделию); в-третьих, отношение меры к измеряемому; в-четвертых, отношение познания к предмету познания. При этом отличие отношения познания к познаваемому от отношения производящего к производимому — только в активности: в отношении производящего к производимому второй член отношения (производимое) вполне пассивен; напротив, в отношении познания к предмету познания оба члена отношения активны — действует не только познающий, но и предмет познания: воздействуя на познающего, он порождает в нем деятельность познания. Математические отношения, а также отношения производящего к производимому образуют первый класс отношений. В обоих отношениях этого класса с исчезновением или уничтожением одного члена отношения необходимо исчезает или уничтожается также и другой. Отношение меры к измеряемому, а также познания к предмету познания дает второй класс отношений. Об обоих отношениях этого класса уже нельзя сказать, что в них с уничтожением одного члена отношения необходимо исчезает и другой: с исчезновением познания предмет познания вовсе не исчезает. Из десяти названных категорий Аристотель более или менее обстоятельно рассматривает в дошедших до нас сочинениях только первые четыре: сущность, количество, качество и отношение. Имеется сообщение, будто Аристотель написал специальный, не дошедший до нас трактат о категориях «действования» и «страдания». Кроме того, действование предметов друг на друга рассматривается, но только в разрезе физики, а не логики и не учения о категориях — в «физике». Здесь обосновывается положение, что условием возможности действия одних предметов на другие является их родовая общность и наличие между ними видовых различий: ни предметы, вполне сходные, ни предметы, вполне различные, не могут действовать друг на друга. 10. Психология Аристотель — основоположник не только логики, но и психологии. Ему принадлежит специальный трактат «О душе» — одно из знаменитейших его произведений. В нем рассматриваются природа души, явления восприятия и памяти. Душа — организующая форма. В душе Аристотель видит высшую деятельность человеческого тела. Это его действительность, его «энтелехия», его осуществление. Поэтому между душой и телом имеется, согласно Аристотелю, тесная связь. Но связь эта распространяется не на все психические функции. В душе человека существует часть, присущая определенной ступени человеческого развития, но тем не менее часть, не возникающая и не подлежащая гибели. Часть эта — ум. На ум уже нельзя смотреть как на органическую функцию. В известный момент развития ум оказывается для человека чем-то непосредственно данным. Как таковой ум не прирожден телу, но приходит извне. Именно поэтому ум, в отличие от тела, неразрушим, а его существование не ограничено длительностью человеческой жизни. За исключением ума все остальные (низшие), т. е. «растительная» и «животная», части души подлежат разрушению так же, как и тело. Впрочем, на прямой и открыто выраженный разрыв с традиционной верой в бессмертие души Аристотель не отважился. В его суждениях о природе души осталась недоговоренность, и в схоластике возникли споры, как надо понимать неясное учение Аристотеля о бессмертий «активной» части ума, а значит души. Много раз воспроизводилось впоследствии и учение Аристотеля о восприятии. Согласно его взгляду, восприятие может возникнуть только при существовании различия между свойством воспринимаемого предмета и свойством воспринимающего этот предмет органа. Если и предмет, и орган, например, одинаково теплы, то восприятие не может состояться. С поразительной ясностью высказывает Аристотель мысль о независимости предмета от восприятия. Соответствующие места в трактате «О душе» принадлежат к наиболее ярким обнаружениям материалистической тенденции Аристотеля [см. 9, II, 5, 417 а2 — а6, в18 — в 211. Утверждая объективность и независимость предмета восприятия, Аристотель отрицает пассивный характер его существования. Воспринимаемый предмет словно движется навстречу нашему восприятию. Предмет, находящийся на самом коротком расстоянии, воспринимается при посредстве обоняния. При восприятии более удаленных предметов необходимо, чтобы воспринимаемое свойство прошло через пространственную среду, отделяющую человека от предмета восприятия. Так, например, звук проходит через эту среду, прежде чем дойдет до воспринимающего органа слуха. Именно поэтому звук, производимый отдаленным предметом, слышится не одновременно, а после удара, которым был произведен звук. Этим же Аристотель объясняет, почему с увеличением расстояния звуки, произведенные удаляющимися или удаленными предметами, становятся все менее слышимыми: им предстоит пройти гораздо более протяженную, среду, а кроме того, проходя через нее, они смешиваются, и человеческое ухо становится уже не способным к их дифференцированному восприятию. По своей природе чувственное восприятие — не тело, а движение, или аффицирование телом посредством среды, через которую оно достигает органа чувств. Особое место среди восприятий принадлежит зрительным восприятиям. Свет, посредством которого передаются эти восприятия, не есть движение. Свет — бытие особого рода. Производя изменение в воспринимающем, свет не требует времени и совершается в предмете мгновенно. Специальное исследование Аристотель посвятил объяснению явлений памяти. Воспоминание, согласно его учению, есть воспроизведение представлений, существовавших ранее. Условие воспоминания — связи, посредством которых вместе с появлением одного предмета возникает представление о другом. Самые связи, обусловливающие характер или род воспоминания, могут быть связями по порядку, по сходству, по противоположности и по смежности. Это догадка об ассоциациях. 11. Этика Аристотель выделяет этику в особую и притом значительную проблему философии. Вопросам этики посвящены в собрании сочинений Аристотеля три, специальных сочинения: «Этика Никомаха», предназначенная для Никомаха, сына Аристотеля; «Этика Евдема», составленная, по-видимому, на основании записей его друга и ученика Евдема; «Большая этика» — извлечение из обеих предыдущих. Учение о нравственной деятельности и о нравственных доблестях строится у Аристотеля на основе его объективной телеологии, охватывающей весь мир и всю деятельность в нем человека. В человеке, как и во всякой вещи, заложено внутреннее стремление к благой цели, однако это стремление встречается с препятствиями, которые также таятся в природе самого человека. То, к чему все стремится, есть благо, и всякая деятельность стремится к некоторому благу. Некоторые цели при этом лишены самодовлеющего значения и остаются только средствами, подчиненными другим целям. Но есть цель, которой люди желают только ради нее самой. Такая цель — высшее благо, и раскрывает ее высшая руководящая наука — политика. И хотя благо отдельного лица совпадает с благом государства, достигнуть блага для всего государства и удержать это благо — наиболее высокая и совершенная задача. Согласно первоначальному определению, высшее благо есть блаженство, т. е. хорошая жизнь и деятельность. Это блаженство не может состоять ни в материальном богатстве, ни в наслаждении, ни даже в одной добродетели. Например, богатство не может быть высшей целью жизни, так как оно всегда есть средство для другой цели, в то время, как «совершенное благо — самодовлеющее» [Ник. этика, I, 5, 1097 в 8]. Как самодовлеющее, благо жизни, согласно формальному определению, — само себе цель и ни в чем не нуждается. Но по содержанию высшее благо определяется особенностью и назначением человека. Из сравнения с другими живыми существами ясно, что человек только один обладает не только способностью питания и чувствования, но также и разумом. Поэтому дело человека — разумная деятельность, а назначение совершенного человека — в прекрасном выполнении разумной, деятельности, в согласии каждого дела со специальной, характеризующей его добродетелью. Благо человека — в достижении согласия с самой совершенной из добродетелей. Но жизнь, стремящаяся к высшему благу, может быть только деятельной. Бытие наше заключается в энергии, в жизни и в деятельности: существующее в возможности проявляет свою деятельность только на деле. Добрые качества, остающиеся необнаруженными, не дают блаженства. Здесь как на олимпийских состязаниях: награда достается не тому, кто сильнее и красивее всех, а тому, кто победил в состязании [см. Ник. этика, I, 8, 1099 а 3–7]. ДобродетелиБудучи наилучшим и прекраснейшим, высшее благо вместе с тем и самое приятное [см. там же, I, 9, 1099 а 24–25]. Однако достижение высшего блага предполагает, кроме высшей цели, известное число подчиненных ему низших целей. Для определения их необходимо исходить из определения совершенного человека. Совершенный, или искусный, человек направляет свою деятельность на достижение нравственного совершенства, условием же его достижения является добродетель; или доблесть. Именно обладание добродетельно делает человека способным достигать преследуемую цель. Так, человек хорошо видит добродетелью глаза, а то, что лошадь оказывается искусной лошадью, есть плод добродетели лошади. Человеческая добродетель есть умение, — прежде всего умение верно ориентироваться, выбрать надлежащий поступок, определить местонахождение добра. Это умение Аристотель выражает посредством понятия «середины». Ставшее впоследствии знаменитым, это понятие часто толковалось в плоском и пошловатом смысле, как античный аспект «умеренности и аккуратности». Но это толкование ниже действительной мысли Аристотеля. «Каждый знающий избегает излишества и недостатка, ищет среднего пункта и стремится к нему, и именно среднего не по отношению к делу, а к себе самому. И если всякая наука хорошо достигает своих целей, устремляет взор к среднему пункту и направляет к нему свою работу… если хорошие искусники… также работают, имея в виду средний пункт, то и добродетель, которая точнее и лучше всякого искусства, должна стремиться, подобно природе, к среднему» [там же, II, 5, 1106 в 5 — 16]. Так, добродетель выбирает среднее между излишеством и недостатком. Однако Аристотель тут же предупреждает против плоского понимания этой «срединности»: он разъясняет, что в хорошем нельзя видеть середину. Выбору подлежит не среднее из хорошего, а наилучшее из всего хорошего. Средняя «точка» будет найдена не в пределах дурного, а только в пределах хорошего. Однако и в этих пределах она указывает всегда на высшее, на крайнее место: «Не может быть в умеренности или мужестве избытка или недостатка, ибо здесь именно середина и есть в известном смысле крайнее совершенство, точно так же и в указанных пороках не может быть избытка или недостатка, но всякое, порочное действие ошибочно» [там же, II, 6, 1107 а 20–25]. [28] Человек должен стремиться к совершенству, так как совершенный человек обо всем судит правильно и во всем ему открывается истина: он во всех отдельных случаях видит истину, будучи как бы мерилом и нормой ее. Так как в действиях есть избыток, недостаток в середина, а добродетель касается действий, то добродетель также есть известного рода «середина»: ошибаться можно различно, но правильно поступать — только одним путем; промахнуться легко, но трудно попасть в цель. Именно поэтому «середина» — принадлежность добродетели. Но если — по сущности и по понятию — добродетель должна называться «серединой», то по ее совершенству и значению следует называть ее крайностью [см. Ник. этика, II, 6, 1107 а 5–7]. Добродетели, как и искусство, всегда имеют дело с тем, что трудно, и совершенство в этой области — выше. Условия добродетельных действий следующие: лицо, поступающее добродетельным образом, должно: 1) иметь сознание о своем действии; 2) поступать с таким намерением, чтобы действия были не средством, а составляли самоцель; 3) твердо и неизменно придерживаться определенных принципов. Чтобы все условия эти возникли, необходимо частое повторение справедливых действий. Одной теории для этого недостаточно: кто думает, будто может стать нравственным, только философствуя, так же не станет нравственным, как не станет здоровым больной, который внимательно выслушивает врачей, но ни в чем не следует их предписаниям. Добродетели Аристотель разделил на два класса: этические и дианоэтические. Первые из них — добродетели характера, вторые — интеллектуальные [см. там же]. Так, щедрость и сдерживающая мера принадлежат к этическим добродетелям, а мудрость, разумность и благоразумие — к дианоэтическим. Этические добродетели возникают из привычек и от привычек получили само свое название — слегка измененное слово «нрав» (hqoV); дианоэтические развиваются главным образом путем обучения, нуждаются в опыте и во времени. Для большей ясности анализа дианоэтических добродетелей Аристотель сжато излагает в 6-й книге «Этики Никомаха» учение о душе. Разделив душу на части — разумную и неразумную, он, в свою очередь, делит разумную на две части: посредством первой созерцаются неизменные принципы бытия, посредством второй — принципы, способные к изменению. Так как познание состоит в известном подобии субъекта с объектом, то относительно объектов различного рода должно существовать соответственно каждому из них родовое различие частей души. Разум будет истинным, если этическая добродетель состоит в привычке, сопряженной с намерением, а намерение — в стремлении со взвешиванием мотивов. Стремление будет правильным, когда намерение хорошо и когда стремление тождественно с намерением. При этих условиях мышление и его истина называются практическими. В то время как предмет науки — вечное и необходимое, деятельность относится к тому, что может быть иным, т. е. не необходимым. Деятельность должна быть отличаема и от творчества или искусства. Цель творчества — вне его, но в деятельности правильное действование совпадает с целью. Практичность не есть ни наука, ни искусство: наукой она не может быть, ибо все, что осуществляется на практике, может быть и иным; искусством же не может быть потому, что творчество и деятельность различны по роду. В отличие от них практичность есть верное и разумное приобретенное душевное свойство, касающееся людского блага и зла. Средства, которыми мы достигаем истины, и благодаря которым никогда не ошибаемся относительно того, что необходимо и что изменчиво, — наука, практичность, мудрость и разум. Но относительно высшего принципа знания не может быть ни науки, ни искусства, ни практичности: науки — потому что всякое научное знание требует доказательств, а искусство и практичность касаются того, что изменчиво. Но так как мудрому, как и ученому, свойственно доказывать некоторые вещи, то и мудрость не может касаться высших принципов. Таким образом, остается отнести эти принципы только к разуму. Добродетели — не аффекты (страсти, гнева, страха, отваги и т. д.) и не способности: за способности не хвалят и не порицают. Добродетели — приобретенные свойства, возникающие при действии, направленном на отыскание середины. Добродетель — середина между двумя пороками: избытком и недостатком — как таковая трудна, ибо найти середину в чем бы то ни было трудно: так, центр круга в состоянии определить не всякий, а только математик. Поэтому нравственное совершенство — достижение редкое, похвальное и прекрасное. Воля имеет дело с целью, намерение — со средствами; действия, касающиеся средств, ведущих к цели, будут намеренными и произвольными. Так как деятельность добродетелей проявляется именно в этой области, то, согласно Аристотелю, в нашей власти и добродетельность, и порочность, и воздержание. Если верно, что никто не блажен против воли, то порочность произвольна и человек — принцип и родитель не только своих детей, но и поступков. Однако стремление к истинной цели не подчиняется личному выбору, и человек должен родиться с этим стремлением, как должен родиться зрячим, чтобы хорошо судить и выбрать истинное благо. Кто от природы имеет это качество в совершенстве, тот — благородный человек, и такой человек будет владеть прекраснейшим и совершеннейшим, чего нельзя ни получить от другого, ни научиться, но можно лишь иметь от природы. Степень произвольности действий и приобретенных свойств души не одна и та же: действия с самого начала и до конца в нашей власти, но приобретенные свойства души произвольны лишь сначала, и мы не замечаем, как постепенно складывается наш характер. На этих идеях построен в «Этике Никомаха» анализ отдельных добродетелей (конец 3-й книги и 4-я книга). В этих книгах, в особенности в 5-й, из состава этических проблем выделяется в тесной связи с ними важная экономическая проблема стоимости. СправедливостьВведение в «Этику» вопроса о стоимости обусловлено не только тесной связью ее с «Политикой», исследующей общественные отношения, но и тем, что проблема стоимости есть для Аристотеля частный вопрос проблемы «справедливости». Обмен хозяйственных благ должен руководствоваться принципом справедливости, которая есть общее начало воздаяния. Частным случаем справедливости является равное отношение к материальным благам. Соответственно частным случаем несправедливости будет неравное отношение к материальным благам. Частная форма справедливости делится на два вида. Это распределяющая справедливость и справедливость уравнивающая. При распределяющей справедливости принципом распределения всей суммы предметов оказывается достоинство лиц, между которыми производится распределение. Это принцип пропорционального распределения, устанавливающий некоторое отношение к качествам лиц, не имеющим хозяйственного значения (их заслуги, моральные доблести и т. д.). Напротив, при уравнивающей справедливости переход предметов из одних рук в другие (как это бывает в отношениях купли-продажи, рыночного обмена и т. д.) определяется не учетом достоинства лиц, обменивающихся продуктами, а другими, экономическими соображениями и основами. Здесь справедливое есть равное (а несправедливое — неравное) не в силу пропорциональности, как это бывает в случае распределяющей справедливости, а на основе прямого сравнения согласно арифметической пропорциональности. Здесь неравенство материального порядка и состоит в противоположности между материальным ущербом и материальной выгодой, а справедливое есть равное, занимающее середину между ними. Но равное в этом случае — непростое тождество. Вопреки мнению пифагорейцев, возмездие тем же самым несправедливо. Если начальник ударит подчиненного, то подчиненный не может ответить ему тем же самым, а если все же решится на это, то будет наказан. В меновых отношениях справедливость достигается посредством пропорциональности: «Общество держится тем, что каждому воздается пропорционально его деятельности» (Ник. Этика, V, 8). Принцип пропорциональности осуществляется в рыночном обмене. У Аристотеля приводится графическая иллюстрация такого обмена. Обозначим посредством А архитектора, В — сапожника, Г — дом, выстроенный архитектором, и Д — сшитые сапожником сандалии. Обозначим буквами Л, В, Г, Д вершины четырехугольника и соединим диагоналями АД и ВГ. 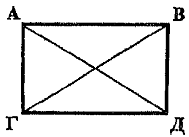 Пользуясь чертежом, будем рассуждать следующим образом. Обмен дома и обуви будет правильным, если мы приравняем их друг к другу и отнесем каждый из двух предметов по диагонали к владельцу другого предмета. «Архитектор должен принять от сапожника его работу и передать ему взамен свою работу» [Ник. этика, I, 13, 1103 а 4 и сл.]. Но чтобы обмен состоялся, должно быть ранее найдено, пропорциональное равенство, а затем, основываясь на нем, и должен быть произведен обмен благами. Поэтому необходимо предварительно приравнять друг к другу продукты труда как в этом случае, так и вообще при обмене продуктами всяких других ремесел и искусств: «Они взаимно уничтожались бы, если бы работник не производил чего-либо, имеющего количественную и качественную ценность, и если бы принимающий работу не принимал ее, как определенную количественную и качественную ценность» [там же, V, 8]. Уравнение необходимо в силу потребности. Все предметы должны измеряться чем-либо одним, но этим одним «в действительности служит потребность, которая все соединяет» [там же]. Что именно потребности связывают людей воедино, следует, по Аристотелю, «из того, что если бы двое не нуждались друг в друге, или один из двух не нуждался бы в другом, то не было бы и обмена, который имеет место в случае, когда кто-либо нуждается в том, что другой имеет: например, вино, взамен которого другой дозволяет вывоз хлеба. Итак, в таком случае необходимо уравнение» [там же]. Согласно Аристотелю, строго говоря, невозможно, чтобы столь различные предметы стали сравнимыми. Все же для удовлетворения потребности человека уравнение оказывается возможным в достаточной степени. Для этого должна существовать, по общему соглашению, единая мера оценки. Такой мерой являются деньги. Деньги делают все сравнимым, благодаря тому что все измеряется деньгами. Будучи мерой, деньги делают сравнимыми все предметы, приравнивают их; и как невозможно общение без обмена, так невозможен обмен без уравнения ценностей. Монета возникла в качестве репрезентанта потребности по соглашению как условно признанная представительница этой потребности. Само название монеты (nomisma — от слова nomoV — «закон») показывает, по Аристотелю, что свою функцию монета исполняет не в силу своей природы, а по закону. Люди властны заменить существующую монету другим меновым знаком; тем самым старая монета становится бесполезной. Рассматривая учение Аристотеля о деньгах, К. Маркс оценивает его очень высоко. «Аристотель, — говорит К. Маркс, — понял деньги несравненно многостороннее и глубже, чем Платон» [1, т. 13, с. 100. примечание]. Особенно отмечает К. Маркс проницательность, с которой — Аристотель «объясняет, как из меновой торговли между различными общинами возникает необходимость придать характер денег какому-нибудь специфическому товару, т. е. субстанции, которая сама по себе имеет стоимость» [там же]. В связи с этим К. Маркс энергично подчеркивает мысль Аристотеля о том, что деньги в качестве простого средства обращения «существуют, по-видимому, только в силу соглашения или закона. Это доказывается уже их названием nomisma, а также тем, что деньги в действительности получают свою потребительную стоимость в качестве монеты только от своей функции, а не от какой-нибудь потребительской стоимости, присущей им самим» [там же]. При всех замечательных достоинствах аристотелевской теории экономического обмена и тесно связанной с ней теорией денег на учении Аристотеля лежит печать исторической ограниченности. Это учение теоретика рабовладельческого общества и рабовладельческих отношении в сфере труда. Аристотель исходит не из производственной деятельности работников, а из потребностей лиц, вступающих между собой в обмен. Если бы обмен стоял в зависимости от относительных затрат труда на производство обмениваемых предметов, то пропорциональное отношение лиц к продуктам труда было бы прямым. В этом случае работа, например, сапожника относилась бы к работе земледельца, как затраченный сапожником труд к труду земледельца. Но Аристотель признает в качестве регулятора обмена лишь потребность в вещи у лица, намеренного обменять ее на свою вещь. Поэтому пропорция у него оказывается обратной: пара сандалий будет так относиться к мере хлеба, как потребность земледельца в сандалиях относится к потребности сапожника в хлебе. И, как было уже отмечено, именно потребность связывает как бы в единое целое отношение обмена. Сама возможность для предметов, по существу несоизмеримых, стать соизмеримыми объясняется тем, что соизмеримость их устанавливается только по отношению к потребности. Здесь это уравнение достаточно достижимо. Такая точка зрения естественна для идеолога общества, основным социальным отношением которого является отношение рабовладельца к рабу и в котором труд не имеет большой цены в глазах верхушки рабовладельческих классов. Именно с этой точки зрения Аристотель ищет отношение равенства не в равенстве различных количеств труда, а в равенстве потребностей свободных членов рабовладельческого общества, обменивающихся различными вещами или товарами. К. Маркс отметил историческую ограниченность классового мышления Аристотеля. «Аристотель не скрывает от себя, — пишет К. Маркс, — что… различные вещи, измеряемые деньгами, представляют собой совершенно несоизмеримые величины. Он ищет, в чем заключается единство товаров как меновых стоимостей, но, как античный грек, он этого найти не мог. Он выходит из этого затруднения, предполагая, что предметы, сами по себе несоизмеримые, становятся через посредство денег соизмеримыми, поскольку это необходимо для практических потребностей» [1, т. 13, с. 53, примечание]. Анализ этической доблести «справедливости» развернулся у Аристотеля в обстоятельный и ценный разбор одного из крупнейших, вопросов политической экономии. Разбор этот — свидетельство гениальности аристотелевской аналитической мысли. В выражении стоимости товаров Аристотель открыл непосредственно не видное отношение равенства. Этический идеалДеятельность, сообразная с важнейшей добродетелью и присущая лучшей части души, есть блаженство. В каждом случае деятельность бывает прекраснейшей, когда она исходит из того, что находится в лучшем состоянии, и когда она направлена на значительнейший предмет. Такая деятельность самая совершенная и приятная, она доставляет наслаждение как всем чувствам, так и мышлению и созерцанию: будучи самой приятной, она вместе с тем и самая совершенная, ведь таковой является та, которая, будучи в нормальном состоянии, направлена на лучший предмет. Необходимо оставить в стороне вопрос, желаем ли мы жизни ради наслаждения или ради жизни желаем наслаждения. Одно сопряжено с другим и не может быть разделено: без деятельности не бывает наслаждения, наслаждение заканчивает собой всякую деятельность. Для этики важно другое: каждое наслаждение свойственно той деятельности, которую оно завершает; соответственно наслаждение усиливает деятельность; люди, совершающие свою работу с наслаждением, точнее эту работу выполняют: например, геометрами становятся те, кто наслаждается геометрическими задачами, они же лучше вникают в каждую подробность. Все считают блаженную жизнь приятной и основательно вплетают наслаждение в блаженство. Наслаждение придает законченность деятельности, а следовательно, и жизни, к которой люди стремятся. Однако наслаждение не может быть целью жизни. Наслаждения, чуждые деятельности данного рода, делают почти то же, что и страдание, а присущие деятельности страдания уничтожают самое деятельность. К тому же одни наслаждения, свойственные нравственной деятельности, хороши, другие же, соответствующие дурной деятельности, дурны. Но ясно, что наслаждения, всеми признанные дурными, не следует называть наслаждениями. Настоящая цель человеческой жизни — не наслаждения, а «блаженство» [см. Ник. этика, X, 6, 1176 а 30–32]. Ни в чем не нуждаясь, блаженство принадлежит к деятельностям, которые желательны сами по себе, а не ради чего-нибудь иного. Это деятельности, в которых человек не стремится ни к чему иному, помимо самой своей деятельности. Блаженство не может состоять в развлечениях: за исключением блаженства, мы все другое избираем ради другого, и только блаженство есть цель. Блаженная жизнь сообразна с добродетелью и притом с важнейшей, которая присуща лучшей части души. Деятельность этой части созерцательная. Такая деятельность — самая важная и самая непрерывная. Деятельность созерцания не только дает блаженство, к ней примешивается и наслаждение, так как созерцание истины есть самая приятная из всех деятельностей, сообразных с добродетелью. Кроме того, созерцанию наиболее свойственна «самодостаточность»: мудрец может предаться созерцанию и один сам с собой, и тем лучше, чем он мудрее. Может быть даже лучше, если у него есть сотрудники, но во всяком случае он самый «самодостаточный». Созерцание — единственная вещь, которую любят лишь ради него самого, ибо от него, кроме созерцания, ничего не происходит: напротив, действиями мы всегда достигаем чего-либо сверх самого действия. Наконец, блаженство состоит в досуге, ибо мы не знаем досуга ради приобретения досуга, тогда как мы ведем войну ради мира [см. там же, X, 1177 в 4–6]. Совершенство, присущее созерцанию, делается, по Аристотелю, особенно ясным, если сопоставить созерцание с практическими добродетелями. Деятельность этих добродетелей заключается в политике или в войне, но такая деятельность, особенно военная, лишена досуга. Деятельность политика тоже лишена досуга и всегда имеет в виду, помимо самого управления, власть и почести. Даже если она имеет в виду собственное блаженство или блаженство граждан, то все же очевидно, что это иное блаженство, чем искомое нами. «Хотя нельзя отрицать, — заключает Аристотель, — что добродетельная деятельность политическая и военная выдается над другими по красоте и величию, но все же она лишена досуга, стремится всегда к известной цели и желательна не ради самой себя. Напротив, созерцательная деятельность разума отличается значительностью, существует ради себя самой, не стремится ни к какой внешней для нее цели и заключает в себе ей одной присущее наслаждение, которое усиливает энергию» [Ник. этика, X, 7, 1177 в 16–21]. Впрочем, такая жизнь, по Аристотелю, более значительна, чем это возможно человеку. Если бы даже какой человек и прожил ее, то не потому, что он человек, а потому, что в нем есть нечто божественное. И все же именно к такой жизни, сообразной с разумом, должен стремиться человек. И не следует внимать тем, кто увещевает нас заботиться лишь о близких людях, так как мы сами люди, и лишь о бренных вещах, ибо мы сами смертны. Напротив, необходимо как можно больше стремиться к бессмертию, делать все возможное, чтобы жить сообразно с тем, что в нас всего сильнее и значительнее. Ибо хотя оно по объему и невелико, однако по значению и силе превышает все остальное. Можно даже сказать, что каждый человек, в сущности, есть только это, так как именно оно в нем лучшее и властвующее. Разумная жизнь естественна для человека, так как она-то и делает его человеком по преимуществу [см. там же, X, 7, 1178 а 7]. Изображенный Аристотелем этический идеал запечатлен яркими чертами общества, в котором он сложился и был осознан. Высшей доблестью провозглашается теоретическое созерцание истины: самодовлеющее, отрешенное от волнений и тревог практической деятельности. Предпосылки философской жизни — досуг, порождаемый рабским трудом и достатком, созданным на основе этого труда. В характерной для этики Аристотеля норме «середины» явно проступают социальные черты носителя и осуществителя этой нормы — изящного, хорошо воспитанного, во всем руководствующегося законом красоты гражданина полиса. По верному замечанию А. Гранта, «закон mesothV, обнаруживаемый в храбрости, умеренности, щедрости и великодушии, образует благородный, свободный и блестящий человеческий тип. Распространите его так же, как это делает Аристотель, на некоторые качества темперамента, речи, манер, и вы будете иметь перед собой портрет греческого гражданина» [59, vol. I, p. 261]. В еще большей степени, чем метафизика, этическое учение Аристотеля — явление общественной мысли в рабовладельческой Греции середины и начала второй половины 4 в. до н. э. Еще более резко эта обусловленность теории классовой структурой и отношениями классов рабовладельческого античного общества обнаружится в «Политике». 12. Учение об обществе и государстве В этике Аристотель развил как образец и как цель блаженной жизни идеал созерцательного постижения истины. Аристотель признал этот идеал трудно достижимым, доступным в полной мере лишь для божества. Человек может и должен стремиться к нему, так как в человеке также есть нечто божественное. И все же учение Аристотеля далеко от мистического идеализма Платона. Достижение высшей цели жизни вовсе не означает для него бегства от действительности. Аристотель — не Плотин, который, спустя свыше полтысячи лет, имея в виду мир умопостигаемый, бросит клич: «Бежим в милую отчизну!» Хотя высшая цель — созерцательное постижение, интеллектуальная интуиция, однако человеческая природа, по Аристотелю, несовершенна. В силу ее несовершенства жизнь нуждается в ряде благ, которые по отношению к главной цели — низшие и подчиненные. Необходимы и телесное здоровье, и пища, и определенные условия жизни. В числе этих благ как на необходимое условие жизни Аристотель указывает на богатство. Он сравнивает его с орудиями, которые мы избираем в качестве средств для преследуемой цели. Под богатством в точном смысле слова Аристотель понимает «накопление хозяйственных благ, необходимых для жизни и полезных для государственного и домашнего общения» [11, I. 3, 1256 в 29–30]. Для Аристотеля как теоретика античного рабовладельческого общества весьма характерно, что на богатство он смотрит исключительно с потребительской точки зрения рабовладельца. Для него быть богатым означает скорее пользоваться, чем владеть: богатство — действительное осуществление владения, или пользование тем, что составляет имущество [см. 13, I, 5, 1361 а 23–24]. Но именно поэтому истинное, самодостаточное для благой жизни имущество не беспредельно. Ценно этически только то, что необходимо для цели, которой подчинено богатство, и благо есть то, что оказывается не в избытке; то же, чего оказывается больше, чем нужно, дурно [см. там же, I, 6, 1363 а 2–3]. Между крайностями расточительности, т. е. недостаточной заботы о хозяйственных благах, и скупости, или излишнего старания о них, лежит средняя мера в распоряжении имуществом. Это «щедрость» — доблесть свободного и благородного человека. Щедрый наилучшим способом использует вещь, раздает хозяйственные блага ради прекрасного и притом правильным образом. Расточителя еще могут научить время и опыт, и он может из мота превратиться в щедрого человека, но скупость неизлечима. Для достижения высшего блаженства достаточны небольшие имущественные средства. Не следует думать, будто блаженный нуждается во многих и великих материальных благах, хотя без них нельзя быть благополучным, ибо самодостаточность и нравственная деятельность не требуют материального избытка и можно совершать прекрасные действия, не будучи повелителем земли и моря. Среди различных форм скупости Аристотель особенно сурово осуждает тот ее вид, который состоит в чрезмерном приобретении. Отношение Аристотеля к нему определяется установленным им различием двух противоположных видов, или типов, хозяйства. Это «экономика» и «хрематистика». «Экономика» — правильный тип хозяйственной деятельности. Ее цель — разумное удовлетворение хозяйственных потребностей «дома» или семьи — первичной единицы общества и государства. «Экономика» доставляет семье все, что необходимо для того, чтобы ее члены могли достигать высшей цели — блаженства. Приобретение, осуществляемое экономикой, — «приобретение, согласное с природой». Напротив, «хрематистика» — отрицательный и осуждаемый Аристотелем тип хозяйственной деятельности. Цель «хрематистики» — служение не высшим задачам человеческой жизни, а неограниченной наживе, беспредельному приобретению и накоплению. Здесь стяжание — самоцель, осуществляется оно ради самих хозяйственных благ. Противоположность «экономики» «хрематистике» выясняется из анализа войны как явления общественной жизни. По Аристотелю, война также есть род хозяйственной деятельности, искусство приобретения, так как часть войны составляет охота: охотиться необходимо не только на зверей, но и на тех людей, которые по природе предназначены, к подчинению, но не желают подчиняться. «Экономика» распространяется на все виды приобретения богатства, соответствующего природе. Ни в одном из видов искусства орудие не может быть беспредельным — ни по величине, ни по количеству. Так как богатство — это тоже совокупность орудий, полезных для домашней и для государственной жизни, то оно не беспредельно. С «экономикой» совпадает только такое приобретение государственных благ, которое сообразно с природой. Напротив, «хрематистика» есть приобретение хозяйственных благ, противоречащее природе, не знающее предела стремление к владению. Родилась «хрематистика» из обмена. Первоначально обмен возник ради целей жизни и был согласован с природой и необходим, так как имел целью восполнение недостающего для самодостаточности. Однако с появлением денег, ставших средством менового обращения и сбережения ценностей, обмен утратил непосредственную связь с удовлетворением потребностей и стал орудием беспредельного обогащения. Из этого нового менового оборота естественно развилась «хрематистика». Она больше всего имеет дело с деньгами, и ее задача — беспредельное порождение богатства и хозяйственных благ. Так, в лечебном деле никто не стремится ни изготовлять, ни накоплять больше лекарств, чем их нужно для излечения болезни. Напротив, в «хрематистике» цель и средства совпадают, нет предела для самой цели, и эта цель — богатство. Естественное стремление к увеличению хозяйственных благ перерождается в противоестественное и безграничное стяжательство оттого, что люди начинают заботиться только о жизни, а не о высшем благе. С возникновением денежного обмена хозяйственными благами начинают называть все, «ценность чего измеряется деньгами» [Ник. этика, IV, 1, 1119 в 26–27]. Такая оценка, впрочем, не относится к измерению цели, для которой хозяйство служит средством: ценность имущества определяется величиной его хозяйственного значения, а ценность дела — его величием и красотой. Поэтому взгляд Аристотеля на хозяйственные ценности обусловливается его этическими и социально-политическими воззрениями. Раскрываются эти воззрения в восьми книгах замечательного обширного трактата Аристотеля «Политика», который остался незаконченным. В «Политике» рассматриваются различные общественные отношения и оцениваются различные формы государственного устройства. Сущность государстваГосударство — это «некий вид общения». Государство — только одна, высшая форма общения между людьми. В пределах государства существует целая система других социальных отношений со своими особыми целями и особыми путями развития. Каждый частный вид общения возникает в целях какого-либо блага [см. 11, I. 1. 1252a 2]. В экономических отношениях Аристотель видит только социальные формы общения и выделяет из них три вида: 1) общение в границах отдельной семьи, или «дома» (oikoV); 2) общение в смысле ведения хозяйственных дел; 3) общение для обмена благами. Все экономические отношения имеют целью только выгоду, и к ней сводятся в них все расчеты. Напротив, в общении, называемом дружбой, и тем более в общении, образующем государство, мотивы, определяющие поведение людей, совершенно другие. Положить в основу государства имущественную выгоду граждан значило бы принизить государственное общение до общения только хозяйственного. Государство существует «не просто ради существования, но скорее ради благой жизни» [там же, III, 9, 1280 а 32–33]. [29] Противопоставляя государство другим видам общения, Аристотель заканчивает свой анализ следующим выводом. «Ясно, — говорит он, — что государство не есть ни топографическое общение, ни охранительный союз против несправедливостей, ни общение ради хозяйственного обмена. Все это необходимо должно быть, чтобы создалось государство, но пока есть только это, государство еще не возникает. Оно возникает только тогда, когда создается общение ради благой жизни между семействами и родами, ради совершенной и достаточной для самой себя жизни» [11, III, 13, 1280 в 29–35]. Человек по природе — существо государственное [см. там же, I, 2, 1253 а 2–3], и если кто-либо в силу своей природы, а не в силу случайных обстоятельств живет вне государства, тот или выше человека, или недоразвит в нравственном отношении. Совершенством человека предполагается совершенный гражданин, а совершенством гражданина, в свою очередь» — совершенность его государства. Взгляд этот в высокой мере типичен для наблюдателя и исследователя жизни греческих полисов, каким был Аристотель. Природа государства, согласно Аристотелю, стоит «впереди» природы семьи и индивида: необходимо, чтобы целое предшествовало своей части. И действительно, всякий предмет определяется совершаемым им актом и возможностью совершить этот акт; раз эти свойства у предмета утрачены, нельзя уже говорить о нем как о таковом: останется только его обозначение. Поэтому, если отдельный человек «не способен вступить в общение или, считая себя существом самодостаточным, не чувствует потребности ни в чем, он уже не составляет элемента государства, но становится либо животным, либо богом» [11, I, 1. 12. 1253 а 26–29]. Эту черту античного мировоззрения классического периода хорошо выразил Виламовиц-Мёллендорф, автор исследования «Аристотель и Афины»: «Совершенство гражданина, polithV, обусловливается качеством общества, poliV, к которому он принадлежит. Следовательно, кто желает создать совершенных людей, должен создать совершенных граждан, а кто хочет создать совершенных граждан, должен создать совершенное государство» [80, с. 343]. В состав государства входят отдельные лица, «ойкосы» (семьи) и селения. Однако далеко не все отдельные лица принадлежат к составу государства. К нему не принадлежат, согласно учению Аристотеля, рабы. Институт рабства привлекает пристальнейшее внимание Аристотеля. Сама пристальность этого внимания доказывает, что в эпоху Аристотеля отношения рабовладения становятся большим вопросом общественной мысли. Уже некоторые софисты, как было указано выше, не только высказали сомнение в правомерности отношений рабовладения, но прямо утверждали, что по природе все люди рождаются равно свободными. Аристотель — решительный противник этого взгляда и сторонник рабовладельческой системы. Он сознательно противопоставляет свое учение о рабовладении взглядам тех, кто отрицал естественное происхождение и согласный с природой характер рабовладения. «По мнению других, — пишет он, — сама идея о власти господина над рабом — идея противоестественная» [11. I, 3, 1253 в 20–21]. По их утверждению, «лишь установлением обусловливается различие между свободным человеком и рабом, по самой же природе такого различия не существует. Поэтому-то и власть господина над рабом, как обоснованная на насилии, не имеет ничего общего по природе со справедливостью» [там же, 1.3. 1253 в 21–22]. Для Аристотеля очень характерно, что вопрос о рабстве он рассматривает не столько в пределах вопроса о государстве, сколько, в пределах вопроса об экономике семьи (ойкоса). Рабство тесно связано у Аристотеля с вопросом о собственности. Собственность — часть семейной организации: без предметов первой необходимости не только нельзя жить хорошо, но вообще нельзя жить. Для домохозяина приобретение собственности — орудие для существования. Если бы каждый инструмент мог выполнять свойственную ему работу сам, или по данному ему приказанию, либо даже его предвосхищая, если бы, например, ткацкие челноки сами ткали, а плектры сами играли на кифаре, то тогда архитекторы не нуждались бы в «рабочих», а господам не были бы нужны рабы. Действительность, однако, не такова. Приобретение собственности, необходимой для существования ойкосного (домашнего) хозяйства, требует для себя массу орудий, а раб — некая одушевленная часть собственности [см. 11, I, 2, 1254 в 34]. К тому же в самой сути вещей коренится порядок, в силу которого уже с момента рождения некоторые существа предназначены к подчинению, другие — к властвованию. В обществе, во всех его элементах, связанных между собой и составляющих некоторое целое, элемент властвования и элемент подчинения сказываются во всем. Это «общий закон природы, и как таковому ему и подчинены одушевленные существа» [там же, I, 9, 1254 а 31–32]. Отсюда Аристотель выводит и природу и назначение рабства. Согласно его разъяснению, «кто, по природе, принадлежит не самому себе, а другому, и при этом все-таки человек, тот по своей природе раб» [там же, 1,7,125 а 14–15]. Деятельность рабов состоит в применении их физических сил, это наилучшее, что они могут дать. Они в такой сильной степени отличаются от других людей, в какой душа отличается от тела, а человек — от животного. Именно такие люди по своей природе — рабы, и для них лучший удел быть в подчинении у господина. И Аристотель поясняет, что рабом по природе бывает тот, кто может принадлежать другому и кто одарен рассудком лишь настолько, что воспринимает приказания другого лица, но сам рассудка не имеет [см. там же, I, 5, 1254 в 16–23]. По Аристотелю, природа устроена так, что сама физическая организация людей свободных отличается от физической организации рабской части общества: у рабов тело мощное, пригодное для выполнения необходимых физических работ; напротив, люди свободные не способны для выполнения подобного рода работ, зато пригодны для политической жизни. Впрочем, высказав это утверждение, Аристотель делает оговорку: часто бывает и так, что свободные люди свободны не по физической, а только по интеллектуальной своей организации [см. там же, I, 2, 1254 в 27–33]. И хотя красоту души не так легко охватить взором как красоту тела, во всяком случае остается очевидным, что одни люди по своей природе свободны, другие же — рабы, и этим последним быть рабами и полезно, и справедливо [11, I, 2, 1254 в 37 — 1255 а 2]. От проницательного взгляда Аристотеля не укрылась трудность, заключающаяся в таком понимании природы рабства и свободного состояния. Исторически кадры рабов пополнялись и создавались в Греции путем захвата пленных на войне. Если эти пленные были не греки, или, как их называли, «варвары», то выход был относительно прост: «варвары» рассматривались как худшая порода людей, а отсюда было уже недалеко до мысли, что обращение пленных «варваров» в рабство согласуется с природой вещей, с природой самих «варваров» и потому справедливо. Аристотель отмечает существование такой точки зрения в греческой политической литературе. Представители этой точки зрения утверждают, что рабство как результат войны покоится на основах права. Однако в этом утверждении, по Аристотелю, таится противоречие. Самый принцип войн, говорит он, «можно считать противным идее права» [там же, I, 2, 1255 а 24–25]. Никоим образом нельзя было бы утверждать, что человек, недостойный быть рабом, все-таки должен стать таковым. Иначе окажется, что люди заведомо очень высокого происхождения могут стать рабами и потомками рабов только потому, что они, будучи взяты в плен на войне, были проданы в рабство. Именно поэтому и было выдвинуто требование, чтобы рабами назывались не греки, а только варвары. Завершая рассмотрение этого вопроса, Аристотель находит, что колебание во взглядах на природу рабства имеет некоторое основание, что природа не создает одних людей рабами, других свободными. Впрочем, он тут же, даже в продолжении той же фразы, соглашается и с тем, что «для некоторых классов людей такое разделение на рабов и свободных вполне естественно, причем для одного человека полезно и справедливо быть рабом, для другого — господином, — так же, как необходимо, чтобы один элемент подчинялся, другой властвовал…» [там же, I, 2, 1255 в 4–8]. К отношению рабовладения, которое принадлежит к отношениям собственности, вполне приложимо, по Аристотелю, то отношение, которое существует между частью и целым. Часть есть не только часть чего-либо другого, она немыслима вообще без этого другого. Таково же отношение между господином, и рабом: «Господин есть только господин раба, но не принадлежит ему; раб же — не только раб господина, но и целиком принадлежит ему» [там же, I, 2, 1253 в 10–13]. Так как раб — своего рода часть господина, одушевленная и отделенная часть его тела, и так как полезное для части полезно и для целого, а полезное для тела полезно и для души, то между рабом и господином, согласно Аристотелю, существует известная общность интересов и взаимное дружелюбие, если только отношения между ними покоятся на естественных началах. Однако дружба и справедливость возможны по отношению к рабу не как к рабу, так же как они невозможны по отношению к неодушевленным предметам или к быку и лошади. «Раб — одушевленный инструмент, а инструмент — раб без души; поэтому к рабу, поскольку он раб, нельзя питать дружбы…» [Ник. этика, VIII, 13. 1161 в 4–5]. Все же Аристотель не сводит существо раба к одной лишь технической функции одушевленного инструмента. Инструменты — орудия технической деятельности, но рабство относится к сфере имущественных отношений, а имущество — не простое техническое орудие, а орудие жизненной деятельности вообще. «Жизнь, — говорит Аристотель, — есть деятельность, а не определенное техническое дело. Отсюда и служение раба — в том, что имеет отношение к общей жизненной деятельности» [11, I, 2, 1253 в 23 — 1254а 8]. Рабство для Аристотеля — институт, необходимый для правильной деятельности семьи, предпосылка правильного государственного строя, который возникает из семьи и из соединения семейств в селения. Как и Платон, Аристотель набрасывает проект наилучшего государства, в пределах которого развиваются соответствующие природе вещей хозяйственные отношения. Проект свой Аристотель построил, изучая реальные, существовавшие в его время экономические структуры и типы государственной власти. Его политическая мысль самостоятельна и сложилась, во-первых, в ходе критики государств, существовавших в его время, во-вторых, — критики теорий государственного права. [30] В школе Аристотеля велось систематическое исследование конституций множества греческих полисов (есть указание, что их было собрано 158). Из всей этой литературы дошло только найденное в 1890 г. в Египте описание конституции Афин — так называемая «Афинская полития». Из политических устройств современных ему государств критика Аристотеля особо выделяет государственный строй афинской демократии, государства Спарты и македонской монархии. Из политических теорий Аристотель подвергает критике прежде всего теорию своего учителя Платона, но уделяет внимание, гораздо менее пристальное, и другим теориям, например уравнительной утопии Фалея Халкедонского. Структура обществаВразрез с Платоном, который оспаривал право на личное владение для стражей-воинов и даже выдвинул проект общности для них жен и детей, Аристотель выступает как сторонник индивидуальной частной собственности. Обычно спокойный и уравновешенный, он, говоря о собственности, поднимается до настоящего воодушевления. «Трудно выразить словами, — говорит он, — сколько наслаждения в сознании, что нечто тебе принадлежит…» [11, II, 2, 1263 а 40–41]. И хотя приятно оказывать услуги и помощь друзьям, знакомым и товарищам, «осуществление всего этого мыслимо, однако лишь при условии существования личной собственности» [там же, 1263 в 2 — З]. Природа вложила в каждого человека естественное чувство любви к самому себе. Правда, эгоизм — по справедливому признанию — заслуживает порицания. Но эгоизм есть, по Аристотелю, не любовь к себе, а лишь чрезмерная степень этой любви [см. там же]. Кто, как Платон, стремится провести единение государства в чрезвычайных размерах, для того все это (т. е. возможность помощи друзьям и товарищам) отпадает. Необходимо держаться того способа пользования собственностью, который сочетает в себе систему собственности общей и частной. «Собственность должна быть общей только в относительном смысле, в абсолютном же она должна быть частной» [там же, 1263 а 26–27]. И Аристотель восхваляет результаты такого разделения: когда пользование собственностью будет поделено между отдельными лицами, утверждает он, исчезнут среди них взаимные нарекания, и наоборот, получится большой выигрыш, «так как каждый будет с усердием относиться к тому, что ему принадлежит, добродетель же послужит своего рода регулятором в использовании, согласно пословице «у друзей все общее» [11, 1263 а 27–30]. Аристотелевская теория «эгоизма», не превышающего меру, нисколько не похожа на буржуазный индивидуализм, развившийся на основе капиталистического способа производства. Это воззрение, возможное только для грека — гражданина античного полиса, в котором право ведения хозяйства, право участия в политической жизни и в судебной деятельности было привилегией свободных членов общества. Не удивительно поэтому, что свое понимание сдерживаемого мерой эгоизма Аристотель развил в той главе «Этики», где рассматривается добродетель дружбы [см. Ник. этика, VIII и IX]. Предвосхищая Ларошфуко, Аристотель полагает, что даже в основе дружбы лежит себялюбие: «Любя друга, мы любим собственное благо, ибо хороший человек, став нашим другом, становится благом — поскольку мы его любим. Таким образом, каждый в дружбе любит собственное благо…» [там же, VIII, 6, 1157 в 33–35]. Он знает, что существует взгляд, согласно которому человека, который себя любит больше всего, называют эгоистом в дурном смысле слова. Сторонники этого взгляда говорят, что нравственный человек действует по мотивам любви к прекрасному и дружбы и потому забывает о самом себе. Но Аристотель находит, что факты не согласуются с этой теорией. Все отношения дружбы возникают из отношения человека к самому себе, перенесенного на других. Каждый человек «сам себе более всего друг, и следует любить больше всего самого себя» [там же, IX, 8, 1168 в 9 — 10]. Значение слова «эгоизм» зависит от поведения людей. У большинства это поведение дурно. «Эгоизм» в этом значении понятия порицается с полным правом. Но того, кто, вообще, говоря, всегда будет присваивать себе все прекрасное, никто не назовет эгоистом и не будет бранить. Но именно таков, по-видимому, и есть по преимуществу эгоист: он присваивает себе все прекраснейшее и преимущественные блага, он служит тому, что в нем есть наиболее сильного, и во всем повинуется этому. В этом отношении человек похож на государство: сущность государства и всякого сложного целого состоит в том, что в нем господствует и что наиболее сильно. В этом же состоит и сущность человека. В духе собственной высокой оценки разума Аристотель разъясняет, что «тот человек больше всего любит себя; который любит разум и служит ему» [там же, IX, 8, 1168 в 33–34]. А так как нравственный человек больше всего любит разум, то такой человек по преимуществу может быть назван эгоистом, однако в ином смысле слова, чем тот, который означает нечто постыдное. И разница здесь настолько велика, насколько жизнь разумная отлична от жизни, подверженной страстям, и насколько стремление к прекрасному отлично от стремления к кажущейся пользе. Итак, хороший человек «должен любить самого себя, и таким образом он и сам останется в выгоде, осуществляя прекрасное, и другим принесет пользу» [Ник. этика, IX, 8, 1169 а 11–12]. «Себялюбие» нравственного человека не исключает ни отказа от благ, ни самопожертвования ради других и ради отечества. Нравственный человек, будучи эгоистом в указанном смысле, отбросит и деньги, и почет, и вообще все блага, из-за которых борются люди, чтобы сохранить себе прекрасное. Он предпочтет непродолжительное, но сильное ощущение долгой, но пустой жизни и скорее захочет жить прекрасно один год, чем многие годы бесцельно; он предпочтет одно прекрасное действие многим незначительным. Так происходит с людьми, жертвующими своей жизнью. Они выбирают великое и прекрасное для себя [см. там же, IX, 8, 1169 а 20–26]. В связи с таким пониманием «себялюбия» стоит аристотелевская критика взглядов Платона, Фалея Халкедонского, а также критика спартанского государственного строя. Аристотель стоит на общей у него с Платоном почве идеологии рабовладения. Как и Платон, он в своем проекте наилучшего государства предусматривает возложение всей непосредственно производительной работы на плечи бесправного рабства Но в отношении свободных граждан рабовладельческого государства он отклоняет взгляд Платона на землевладение как слишком аскетический, умаляющий неотъемлемые права граждан. Платон полагал, что землевладение должно обеспечить гражданам «образ жизни, сдерживаемый мерой». Аристотель предлагает другую формулу: «Жить согласно мере щедро» [11, II, 6, 1265 а 30–33]. [31] He согласен Аристотель и с проектом Фалея Халкедонского. Этот писатель предложил полное уравнение в области землевладения. Согласно оценке Аристотеля, проект Фалея, во-первых, неясен. Для приведения его в исполнение необходимо указать должную меру земельной собственности, доведенной до уравнения. Во-вторых, осуществление проекта Фалея не дало бы результата. Даже если бы была установлена средняя мера земельного имущества, это установление не решило бы главного вопроса. Уравнивать необходимо не столько земельные владения, сколько «вожделения», а для этого требуется не уравнение, а воспитание людей посредством законов. Фалей должен был указать, в чем должно заключаться это воспитание, но если воспитание будет для всех одно, от него не выйдет никакой пользы. Люди поступают несправедливо не только из-за неравенства в предметах первой необходимости, что имел в виду Фалей, но также и потому, что они хотят жить в радости и удовлетворять свои желания. Величайшие преступления совершаются людьми в силу стремления к преизбытку, и люди становятся тиранами не для того, чтобы таким образом избегнуть холода. Вожделения людей по природе беспредельны, и в удовлетворении этих вожделений проходит жизнь большинства людей. Поэтому существует принцип более важный, чем уравнение собственности: следует наладить дело так, чтобы люди, интеллектуальные по своей природе, не желали иметь больше, а люди, мало развитые, не имели и возможности желать этого… Несостоятельность предложенной Фалеем реформы, согласно Аристотелю, состоит и в том, что Фалей в своем проекте ограничил уравнение одной лишь земельной собственностью. Однако богатство, как разъясняет Аристотель, заключается и в обладании рабами, стадами, деньгами, а также в разнообразных предметах домашнего обихода [см. 11, II, 4, 1267 в 9 — 13]. Все это проект Фалея оставил без внимания. Основной порок спартанского строя Аристотель видит в том, что спартанская система и ее законодательство рассчитаны только на доблесть, имеющую отношение к войне: именно эта доблесть полезна для приобретения господства. Пока лакедемоняне (спартанцы) вели войны, они держались, но, достигнув господства, стали гибнуть, так как не умели пользоваться досугом и не могли заняться каким-либо другим делом, которое представлялось бы им важнее военного [см. там же, II, 6, 1271 в 2–6]. И не только Спарта, но большинство государств, обращающих внимание лишь на военную подготовку, держатся, пока они ведут войны, и гибнут, лишь только достигли господства. Подобно стали, они теряют свой закал во время мира. Но в государстве должны быть налицо добродетели, способствующие достижению досуга, и конечной целью войны служит мир, а целью работы — досуг [см. там же, VII, 15, 1333 в 11–16]. И Аристотель называет просто абсурдным взгляд, по которому хорошие люди — только те, кто не имеет досуга, кто ведет войны, а те, кто наслаждается миром и досугом, — рабы [см. там же. VII, 15, 1334 а 36–40]. Отвергнутым теориям государственного устройства, а также осужденным формам реально существовавших в его время государств Аристотель противопоставляет свой собственный проект идеального государства. По Аристотелю, для построения государства идеального не требуется революционного разрушения существующего государства и переделки существующего реального человека. Задача политика и законодателя — не строить на месте разрушенного. Политика не создает людей, а берет их такими, какими их создала природа [см. 11, I, 3, 1258 а 21–23]. Необходимо ввести такой государственный строй, который при наличии данных обстоятельств оказался бы легче всего приемлемым и гибким: улучшить государственный строй — задача менее сложная, чем изначала установить его [см. там же, IV, 1, 1289 а]; и хороший законодатель, и истинный политический деятель не должны упускать из виду не только абсолютной наилучшей формы, но и формы, относительно наилучшей при соответствующих обстоятельствах [см. там же, IV, 1, 1288 в]. Но помочь усовершенствовать существующие формы государственного строя возможно только при условии, если политический деятель знает, сколько вообще имеется возможных видов государственного устроения. Поэтому предлагаемому Аристотелем проекту наилучшего государства у него предшествует и в этот проект постоянно внедряется рассмотрение всех главных типов государственной организации, известных Древней Греции. Эта классификация и этот анализ покоятся, как на незыблемой основе, на разделении всех людей, составляющих государство, на два основных класса: рабовладельцев и рабов. Каковы бы ни были формы государственной власти и управления, они уже предполагают как нечто естественное и необходимое деление членов общества на господствующий класс рабовладельцев и лишенный всех политических и гражданских прав класс рабов. Различия между формами монархической и тиранической, — аристократической и олигархической, политией и демократическим устройством (о них речь впереди) — только различия между способами господства рабовладельцев. Политическая борьба между сторонниками всех этих видов управления государством не отражается на рабах. Грань между «свободнорожденными», имеющими право на власть и на «досуг», и рабами не колеблется, в чью бы пользу ни решался спор сторонников различных политических систем. В «Политике» Аристотель уже во 2-й главе 1-й книги выясняет вопрос, центральный для античной общественной системы, — об отношении господина к рабу. Рабы нацело исключаются из числа членов общества, обладающих политическими правами, т. е. правом на участие в государственных делах. Собственно говоря, рабы даже не входят в состав аристотелевского государства. Они — его экономическая и социальная предпосылка, но не его признанный политический элемент. Государство, состоящее из рабов, представляется Аристотелю нелепостью. «Мы имели бы дело с одной из невозможностей, — говорит он, — если бы допустили, что государство заслуживает называться по своей природе рабским: государство есть нечто самодовлеющее, рабство же не самодовлеющее» [там же, IV, 3, 1290 в 8 — 10]. Различие в господстве над свободными людьми и над рабами не менее существенно, разъясняет «Политика», чем различие между существом, по своей природе свободным, и существом, по своей природе рабским [см. 11, VII, 3, 1325 а 28–31]. Как бы от имени класса рабовладельцев Аристотель заявляет, будто сама природа «стремится доставить нам возможность не только надлежащим образом направлять нашу деятельность, но и прекрасно пользоваться нашим досугом. А досуг, мы снова подчеркиваем это, служит основным принципом всей нашей деятельности» [там же, VIII, 2, 1337 в 30–33]. Понятие «досуг» — важное понятие социологии, педагогики и эстетики Аристотеля. Здесь нас интересует его социальный смысл. В этом значении досуг — основанное на рабовладении и на рабском труде освобождение рабовладельца от каких бы то ни было работ, необходимых для практической жизни и совершаемых или рабами, или наемными рабочими и ремесленниками. В глазах Аристотеля право на досуг — первый и основной признак принадлежности человека к классу, которому принадлежит власть в обществе. Именно досуг открывает возможность для истинной добродетели и для тех видов деятельности, которые совместимы с добродетелью. Правда, для умения пользоваться досугом в жизни нужно кое-чему научиться, кое в чем воспитаться. Но и это воспитание и это обучение заключают цель в самих себе, в то время как обучение, необходимое для применения к деловой жизни, имеет в в иду другие цели. Досуг заключает уже в самом себе и наслаждение, и блаженство, и счастливую жизнь, и все это выпадает на долю незанятых людей [см. там же, VIII, 2, 1336 в 1–3]. Но в свете этого понятия о досуге Аристотель сближает в известной мере с рабами даже класс свободных ремесленников! Порой он даже рассматривает занятия ремесленников как свойственные несвободным. Он указывает ряд условий, отделяющих свободнорожденного не только от рабов, но и от ремесленников, хотя последние формально не принадлежали к классу рабов. Все занятия людей, поясняет он, разделяются на такие, которые приличны для свободнорожденных людей, и на такие, которые свойственны несвободным. Из первого рода занятий должно участвовать лишь в тех, которые не обратят человека, занимающегося ими, в ремесленника. Ремесленными же, согласно его взгляду, нужно считать такие занятия, такие искусства и такие предметы обучения, которые делают физические, психические и интеллектуальные силы свободнорожденных людей непригодными для применения их к добродетели. Ремесленными будут занятия и искусства, которые исполняются за плату. Они ослабляют физические силы, отнимают время от развития интеллектуальных сил человека и принижают их. Но и из числа «свободных» наук свободнорожденному человеку дозволительно изучать лишь некоторые и только до известных пределов, чрезмерно же налегать на них, с тем чтобы изучить их во всех подробностях, вредно [см. 11, VIII, 2, 1337 в 5 — 17]. Возвышая досуг, Аристотель принижает значение деятельности и пользы. Желательны сами по себе только те виды деятельности, в которых, как в философском созерцании, человек ни к чему иному не стремится, помимо, самой своей деятельности. Только такие действия сообразны с добродетелью. Таков прекрасный и нравственный образ действий: он принадлежит к тому, что ценно само по себе [см. Ник. этика, X, 6, 1176 в 6–9]. Напротив, польза как мотив действования не подобает свободному члену общества. «Искать повсюду лишь одной пользы всего меньше прилично для людей высоких душевных качеств и для свободнорожденных» [11, VIII, 3, 1138 в 2–4]. Даже учить детей грамоте необходимо не только ради получаемой оттого пользы, а потому, что благодаря этому обучению возможно сообщить им ряд других сведений. Так и рисование изучают не для того, чтобы избежать обмана при покупке и продаже домашней утвари, а потому, что оно развивает глаз при определении физической красоты. Ни хороший человек, ни политический деятель, ни добрый гражданин не должны обучаться таким работам, которые умеют исполнять люди, предназначенные к подчинению, за исключением разве случаев, когда этим лицам приходится исполнять эти работы для себя лично; только в таком случае отпадает различие между господином и рабом [см. там же, III, 2, 1277 а 3–7]. Существует разряд рабов, труд которых отделяется от труда ремесленников почти незаметной гранью. «Рабы, по нашему разъяснению, — пишет Аристотель, — распадаются на несколько категорий, так как существует и несколько сортов, работ. Одну часть этих работ исполняют мастеровые, именно такие рабы, которые, как показывает и само наименование их, живут «от своих рук»; к их числу принадлежат и ремесленники» [там же, III, 2, 1277 а 37 — в I]. И Аристотель, по-видимому, с полным сочувствием вспоминает, что в древние времена в некоторых государствах, пока демократия не получила в них крайнего развития, ремесленники не имели доступа к государственным должностям. Состав государства, по Аристотелю, сложен. Государство — понятие сложное; оно, как и всякое другое понятие, представляя собой нечто целое, состоит из многих составных частей [см. там же, III, 1, 1274 в 39–40]. Одна из них — народная масса, работающая над продуктами питания; это земледельцы. Вторая составная часть государства — класс так называемых ремесленников, занимающийся ремеслами, без которых невозможно само существование государства; из этих ремесел одни должны, существовать в силу необходимости, другие служат для удовлетворения роскоши или для того, чтобы скрасить жизнь. Третья часть — торговый класс, именно тот, который занимается куплей и продажей, оптовой и розничной торговлей. Четвертая часть — наемные рабочие, пятая — военное сословие [см. 11, IV, 3, 1290 в 39 — 1290 а 7]. Необходимые для существования государства классы эти, однако, имеют совершенно различное значение и достоинство. В сущности два главных «класса», согласно мысли Аристотеля, составляют государство-город (полис) в точном смысле слова: это военное сословие и лица, из числа которых выделяется законосовещательный орган, заботящийся об общих интересах государства. В руках обоих этих классов должно быть сосредоточено и владение собственностью, а гражданами могут быть только лица, принадлежащие к этим классам. Ремесленники не имеют прав гражданства, как и всякий другой класс населения, деятельность которого не направлена на служение добродетели. Граждане не должны вести не только такую жизнь, какую ведут ремесленники, но и такую, какую ведут торговцы, — такого рода жизнь неблагородна и идет вразрез с добродетелью; не должны быть граждане и землепашцами, так как они будут нуждаться в досуге и для развития своей добродетели, и для занятия политической деятельностью [см. там же, VII, 8, 1328 в 38 — 1329 а 2]. И хотя землепашцы, ремесленники и всякого рода поденщики необходимо должны быть налицо в государстве, но собственно элементами, составляющими государство, являются военное сословие и те, кто облечен законосовещательной властью [см. там же, VII, 8, 1329 а 35–38]. И если считать душу человека частью более существенной, чем тело, то и в государственном организме душу государства должно признать более важным элементом, чем все, относящееся только к удовлетворению его необходимых потребностей. А этой «душой» государства и являются, по Аристотелю, военное сословие и то сословие, на обязанности которого лежит отправление правосудия при судебном разбирательстве, и сверх того, сословие с законосовещательными функциями, в чем и находит свое выражение политическая мудрость [см. там же, IV. 3, 1291 а 24–28]. Формы государстваУтвердив свой город-государство на рабском труде, Аристотель рассматривает возможные формы государственного устройства рабовладельческого общества. Свой проект наилучшего государственного строя он намечает, исследуя реальные, исторически известные или современные формы государства. При обсуждении достоинств и недостатков этих форм и при составлении их классификации уже заранее как незыблемая предпосылка принимается, что все эти формы возможны, существовали и существуют только как формы именно рабовладельческого, а не иного государства. Эта предпосылка не исключает, однако, анализа социальных — классовых и имущественных — различий между свободными классами полиса, принимающими и не принимающими участие в государственной власти. Всматриваясь в отношения этих классов, Аристотель выделяет как существенное и основное различие между «классами» богатых и бедных. Общепризнано, что главных форм государственного устроения две: демократия и олигархия, подобно тому как главными ветрами признают северный и южный. Демократией называют строй, при котором верховная власть находится в руках большинства, а олигархией — строй, при котором эта власть принадлежит меньшинству. Но, по разъяснению Аристотеля, повсюду зажиточных бывает меньшинство, а неимущих — большинство. Поэтому формальный признак принадлежности к большинству или меньшинству не может, согласно Аристотелю, быть основой для различения олигархии и демократии. Настоящим признаком отличия олигархии и демократии служит богатство и бедность. Там, где власть основана — безразлично, у меньшинства или большинства — на богатстве, мы имеем дело с олигархией, а где правят неимущие, там перед нами демократия. Другими словами, демократией нужно считать такой строй, когда свободнорожденные и неимущие, составляя большинство, будут иметь верховную власть в своих руках, олигархией — строй, при котором власть находится в руках лиц богатых, обличающихся благородным происхождением и образующих меньшинство [см. 11, IV, 3, 1290 в 17–20]. Олигархия и демократия основывают свои притязания на власть в государстве на том, что имущественное благосостояние — удел немногих, а свободой пользуются все граждане [см. там же, III, 5, 1279 в 30 — 1280 а б]. Олигархия блюдет интересы зажиточных классов, демократия — интересы неимущих классов; общей же пользы ни одна из этих форм государственного устройства в виду не имеет. Отношение между бедными и богатыми — отношение не только различия, но и противоположности. А так как одни из них в большей части случаев фактически составляют меньшинство, а другие — большинство, то богатые и бедные, по мысли и по словам Аристотеля, «оказываются в государстве элементами, диаметрально противоположными друг другу» [там же, IV, 3. 1291 в 10 — II]. Теперь мы располагаем предпосылками для того, чтобы понять смысл учения Аристотеля о «среднем элементе» общества и о лучшем государственном строе. Аристотель утверждает, что наилучшее государственное общение — то общение, которое достигается через посредство среднего элемента, и что те государства имеют наилучший строй, где средний элемент представлен в большем количестве, где он «пользуется большим значением сравнительно с обоими крайними элементами» [11, IV, 9, 1295 в 34–38]. В буржуазной экономической науке учение Аристотеля о «среднем элементе» не раз толковалось чуть ли не как прообраз учения новейших буржуазных экономистов и политиков о роли буржуазии в капиталистическом обществе. Известный зарубежный ученый Август Онкен, для которого, по-видимому, не существует никакого другого нормального общества, кроме капиталистического, провозгласил Аристотеля «пророком того воззрения, которое в настоящее время написало на своем знамени лозунг: политика среднего сословия» [65, с. 38]. Принцип этот, приписанный Аристотелю, Онкен считает «путеводной звездой его социального учения» [там же, с. 41]. Суждение Онкена — разительный образец буржуазной партийности в исторической науке, отхода от всякого историзма и крайнего интеллектуального убожества. Что понимал Аристотель под «средним элементом»? Конечно, не класс общества, «средний» между рабовладельцами и рабами. Между ними не должно быть ничего «среднего»: общество Аристотеля резко делится на классы свободных и рабов. Землепашцев и ремесленников Аристотель не только не выдвигал как нечто «среднее» между рабовладельцами и рабами, но склонен был и их причислить к рабам. «Идеальное государство, — утверждает Аристотель, — не даст ремесленнику гражданских прав» [11, III, 3, 1278 а 8–9]. Ремесленники, как мы уже видели, скорее должны принадлежать к разряду рабов, живущих «от своих рук» [там же, III, 2, 1277 а 36 — 1277 в I]. И точно так же, если говорить об идеале, то, по Аристотелю, «землепашцами должны быть преимущественно рабы» [там же, VII, 9, 1330 в 25–26]. Желая во что бы то ни стало сыскать в учениях античных писателей предвосхищение теорий социализма и коммунизма, Пёльман приписал Аристотелю взгляд, согласно которому, занимаясь трудом своих рук, человек «всецело» сам себя «содержит, а не живет благодаря другим, т. е. эксплуатируя чужой труд, за счет чужих жизней». [32] Железнов решительно возражает против пёльмановского толкования, основывающегося на одном, недостаточно ясном месте- «Риторики» [см. 13, II, 4, 1381 а 22–24] и противоречащего ясным оценкам труда, которые сложились у Аристотеля ко времени написания «Этики» и «Политики». Таким образом, говоря о «среднем элементе» как о наилучшем классе общества, Аристотель может иметь в виду только один из господствующих рабовладельческих классов, властвующих над рабами. Термин «средний» означает в устах Аристотеля только средний размер имущественного — состояния по отношению к богатейшей и беднейшей частям рабовладельцев. Именно среднее состояние, и только оно одно, может благоприятствовать цели государства, каковое есть общение родов и селений ради достижения совершенно самодостаточного существования, состоящего в счастливой и прекрасной жизни и деятельности [см. 11, III, 5, 1280 в 39 — 1281 в 2]. Ни самые богатые из свободных, ни самые бедные не способны вести государство к этой цели. И это «среднее» состояние ни в коем случае не может быть достигнуто путем экспроприации богатых бедными и посредством разделения имущества богачей. «Разве справедливо будет, — спрашивает Аристотель, — если бедные, опираясь на то, что их большинство, начнут делить между собой состояние богатых?… Что же в таком случае подойдет под понятие крайней несправедливости?» [там же. III, 6, 1281 в 14–16]. «Средний» элемент Аристотель ищет среди тех классов граждан, которые принадлежат к свободным и которые одни образуют государство в аристотелевском смысле слова. «В каждом государстве, — поясняет Аристотель, — мы встречаем три части граждан; очень зажиточные, крайне неимущие и третьи, стоящие в середине между теми и другими… очевидно… средний достаток из всех благ всего лучше» [там же, IV, 9, 1295 в 1–5]. И Аристотель находит, что государство, состоящее из «средних» людей, будет иметь и наилучший государственный строй, а составляющие его граждане будут в наибольшей безопасности. Они не стремятся к чужому добру, как бедняки, а другие люди не посягают на то, что этим «средним» принадлежит [см. там же, IV, 9, 1295 в 29–33]. Так как признак «среднего» элемента — не род труда, а только степень состоятельности, то термин не раскрывает мысль Аристотеля до полной ее классовой (в социальном смысле) определенности. Имеется, однако, намек, судя по которому Аристотель под «средним элементом» склонен был понимать средний по богатству слой землевладельцев. По крайней мере, в одном месте «Политики» он прямо говорит, что «наилучшим видом демоса является демос земледельческий» [там же, VI, 2, 1318 в 9 — 10]: не обладающий значительной собственностью, этот вид демоса не в состоянии отдаваться исключительно политической деятельности; с другой стороны, благодаря своим занятиям, он имеет в своем распоряжении все необходимое, занимается своим делом и не стремится к делам посторонним; ему приятнее личный труд, чем занятия политикой и вопросы государственного управления. Как ни ясны эти утверждения Аристотеля, их необходимо принимать с оговоркой. Дело в том, что о «земледельческом» демосе [33] как о лучшем классе в государстве Аристотель говорит не в безусловном смысле, не по отношению ко всякому государству, а лишь по отношению к государству с демократическим строем: для этого типа государства лучший класс — землевладельческий. Однако полностью своих мыслей по этому вопросу — безотносительно к государствам демократического типа — Аристотель не раскрыл, и остается не ясным, считал ли он «земледельческий» демос лучшим классом также и для государств недемократического типа. Незаконченность и эскизность аристотелевского проекта идеального государствам отмечалась в специальной литературе. «Эскиз лучшего государства, — пишет, например, Виламовиц-Мёллендорф, — написан дельно, понятно и гладко, частью превосходно и явно для опубликования, но, конечно, совершенно не закончен» [80, с. 356]. Критерием для определения правильных форм государственного строя Аристотель признает способность формы правления служить делу общественной пользы. Если правители руководствуются общественной пользой, то, согласно Аристотелю, такие формы государственного устроения, независимо от того, правит ли один, или немногие, или большинство, — формы правильные, а те формы, при которых правящие имеют в виду личные интересы — или одного лица, или немногих, или большинства, — являются формами, отклоняющимися от нормальных. Поэтому, согласно теории Аристотеля, возможны всего шесть форм государственного строя: три правильные и три неправильные. Из форм правления, имеющих в виду общую пользу, правильны: 1) монархия (или царская власть) — правление одного, 2) аристократия — правление немногих, но более одного, и 3) политая — правление большинства. Монархия — тот вид единодержавия, который имеет целью общую пользу. Аристократия — правление немногих, при котором правящие (aristoii — «лучшие») также имеют в виду высшее благо государства и входящих в него элементов. Наконец, полития — правление, когда в интересах общей пользы правит большинство. Но высшая степень добродетели для большинства может проявляться в народной массе в отношении к военной доблести. Поэтому в политии высшей верховной властью пользуются лица, имеющие право владеет оружием [см. 11, III, 5, 1279 а 25 — 1279 в 4]. Согласно Аристотелю, монархия — первоначальная и самая божественная из всех форм государственного строя [см. 11, IV, 1, 1289 а 40]. Если она не звук пустой, а существует реально, то она может основываться только на высоком превосходстве монарха. По-видимому, однако, наибольшие симпатии Аристотеля склонялись на сторону политии. Именно в политии достижим тот строй, при котором власть находится в руках «среднего элемента» общества, так как в политии руководящей силой общества может стать и становится элемент, находящийся между противоположными полюсами чрезмерного богатства и крайней бедности. Люди, принадлежащие обоим этим полюсам, не способны повиноваться доводам разума: трудно следовать за этими доводами человеку сверхпрекрасному, сверхсильному, сверхзнатному, сверхбогатому, или, наоборот, человеку сверхбедному, сверхслабому, сверхнизкому по своему политическому положению. Люди первой категории чаще всего становятся наглецами и крупными мерзавцами; люди второй категории — подлецами и мелкими мерзавцами. Люди сверхбогатые не способны и не желают подчиняться; люди слишком бедные живут униженно, не способны властвовать, а подчиняться умеют только той власти, которая проявляется у господ над рабами. В результате вместо государства из свободных людей получается государство, состоящее из господ и рабов, [34] или государство, где одни полны зависти, другие — презрения [см. 11, IV, 9, 1295 в 5 — 10; 12–23]. Напротив, в правильно устроенном государстве, кроме власти господствующих классов над рабами, должно существовать правильное господство одних свободных над другими и правильное подчинение вторых первым. Поэтому человек свободный сам должен научиться повиновению, прежде чем он научится повелевать и властвовать. Проявлять государственную власть правитель должен научиться, пройдя сам школу подчинения; нельзя хорошо начальствовать, не научившись повиноваться [см. там же, III, 2, 1277 в 7 — 13]. Именно в политии это двойное умение повелевать и повиноваться достигается всего лучше. Но все правильные формы государственного устройства могут при известных условиях отклоняться и вырождаться в неправильные. Таких — неправильных — форм существует три: 1) тирания, 2) олигархия и 3) демократия. При этом тирания — в сущности та же монархическая власть, но имеющая в виду интересы одного лишь правителя; олигархия отстаивает и соблюдает интересы зажиточных «классов», а демократия — интересы неимущих «классов» Одинаковой чертой всех форм Аристотель считает то, что ни одна из них не имеет в виду общей пользы [см. там же, III, 5, 1279 в 4 — 10]. Тирания — наихудшая из форм государственного строя и всего дальше отстоит от его сущности. Тирания — безответственная власть монарха, не направленная на защиту интересов подданных; она всегда возникает против их желания; никто из свободных людей не согласится добровольно подчиняться такого рода власти. Тираны — враги всех нравственно-благородных людей, опасных для их господства: люди нравственно-благородные, поскольку они не претендуют на деспотическую власть и в силу этого пользуются доверием как в своей среде, так и среди других, не станут заниматься доносами ни на своих, ни на чужих. Тиран стремится вселить малодушное настроение в своих подданных, поселить среди них взаимное недоверие и лишить их политической энергии [см. 11, V, 9, 8–9]. Олигархия — вырожденная форма аристократии. Это своекорыстное господство меньшинства, состоящего из богатых. Демократия — такая же своекорыстная форма господства большинства, состоящего из бедных. По мнению Аристотеля, все эти три формы государственного строения, вообще говоря, ошибочны. Все же Аристотель подробно рассматривает возможные виды и монархии, и олигархии, и демократий. Но в настоящей книге, которая представляет сжатый очерк истории античной философии, а не монографию об Аристотеле, нет возможности проследить за Аристотелем в этом его рассмотрении. [35] Отметим только, что согласно его убеждению, демократический строй «представляет большую безопасность и реже влечет за собой внутренние возмущения, чем строй олигархический» [11,V, I, 1302 а 8–9]. Политическое учение Аристотеля имеет чрезвычайно большую теоретическую и еще большую историческую ценность. Сжатый проект идеального государства, намеченный Аристотелем, как и всякая утопия, есть по сути смесь черт вымышленных, надуманных в отличие от существующих форм государственности, с чертами, отражающими реальные исторические отношения общества, в котором этот проект был разработан. Особенность «Политики» в том, что в ней черты реальные, исторические явно преобладают над утопическими. Путь к наилучшему государству лежит, по Аристотелю, через область познания того, что существует в действительности. Именно поэтому «Политика» Аристотеля — ценнейший документ как для изучения политических взглядов самого Аристотеля, так и для изучения древнегреческого общества классического периода и имевших в нем свою опору политических теорий. 13. Ликей, или перипатетическая школа после Аристотеля Преемником Аристотеля по руководству школой стал его ученик и друг Теофраст, скончавшийся в возрасте 85 лет в 288 г. до н. э. Еще при Аристотеле учеников Ликея прозвали перипатетиками, т. е. «прохаживающимися», за то, что они имели обыкновение прохаживаться вслед за Аристотелем в саду Ликея во время занятий или лекций. Теофраст развил в Ликее успешную преподавательскую деятельность, а в своих многочисленных работах охватил все отрасли философии. Он был не только крупный философ, но и ученый. Аристотель положил своими работами начало научному изучению животного мира, Теофраст положил такое же начало изучению мира растений. В философии он занимался самостоятельным исследованием некоторых проблем логики… Он обогатил теорию силлогизма учением о гипотетических умозаключениях, введя в их состав также умозаключения разделительные. Он не соглашался с некоторыми частностями в определениях метафизики и физики Аристотеля, но обычно следовал за ним, несмотря на разногласия. В деятельности мышления он видел движение души; в учении Аристотеля о различии между страдательным и активным разумом он находил известные трудности, однако в целом признавал само это различие. В трактовке вопросов этики, которую он развивал во многих работах с большим знанием людей, и в учении о характерах он также незначительно расходился с Аристотелем. Серьезно он отклонялся от Аристотеля в своем отрицании брака, который, согласно его мнению, мешает научному исследованию, а равно своим отрицанием кровавых жертв и употребления мясной пищи. Отрицание это он обосновывал мыслью о сродстве всех живых существ. Из личных учеников Аристотеля выделились Евдем из Родоса и Аристоксен из Тарента. Первый из них выдвинулся своими учеными работами в области истории, оставаясь в них верным взглядам учителя. За это он получил прозвище «вернейшего» (gnhsiwtatoV) ученика Аристотеля. В логике он принял новшества Теофраста, а в физике точно следовал Аристотелю. В этике он определил созерцание, в котором Аристотель находил высшее счастье, как богопознание, и вообще гораздо теснее, чем Аристотель, связывал этику с богословием. Аристоксен известен своим учением о музыкальной гармонии. Не только в теории музыки, но и в этике он соединил аристотелизм с пифагореизмом. Ряд последующих перипатетиков были больше учеными специалистами и литераторами, чем философами. Зато крупным философом Ликея был Стратон из Лампсака, стоявший в Афинах во главе Ликея в течение 18 лет (287–269). В его лице в Ликее возобладало натуралистическое направление, переходящее в ряде случаев в прямой материализм. Он не только находил необходимым вносить поправки в учение Аристотеля по отдельным вопросам, но выступил против основных дуалистических и идеалистических элементов его учения. Он отождествил бога, который у Аристотеля был «мышлением о мышлении» и «неподвижным перводвигателем мира», с бессознательно действующей силой природы; на место аристотелевской телеологии он поставил чисто физическое объяснение явлений природы; ее последние основания он находил в тепле и в холоде. Он рассматривал все душевные функции — ощущения мышление — как движение единой разумной сущности, которую он локализовал, поместив ее в голове между бровями, и утверждал, что именно отсюда она распространяется по различным частям тела вместе с «пневмой», или дыханием, которая служит ее материальным субстратом. Примечания:1 В скобках первое число означает порядковый номер литературного источника в списке цитируемой литературы, который помещен в конце книги. В случае ссылки на несколько источников их номера разделены точкой с запятой. — Ред. 2 Не следует смешивать с другими греческими философами, носившими это имя, например со стоиком Зеноном из Китиона на Кипре. 3 Имеется в виду не знаменитый историк Фукидид, а аттический государственный деятель, вождь аристократической партии, носивший также имя Фукидида. 4 Текст дошел в передаче Симплиция. От него же мы узнаем, что приведенная фраза находилась в начале 1-й книги «Физики» Анаксагора [37, т. III, с. 153]. 5 Греческие драматурги, когда им трудно было естественно развязать драматургический конфликт, иногда вводили для его разрешения в конце трагедии бога. Внезапно явившись на театральной машине, бог своим вмешательством резко направлял драматургическое развитие к тому его исходу, который соответствовал плану или идейному замыслу писателя. Отсюда выражение: «Deus ex machina» — «Бог из машины» (лат)». 6 Прекрасный анализ всех свидетельств дан в работе проф. С. Я. Лурье «Теория бесконечно малых у древних атомистов» (М, — Л., 1935, гл. 2 и 3). 7 Условно принятого, так как, по воззрению Зенона и всех элейцев, единое целое мира неделимо на части. Существует только целое. 8 Из сочинения Демокрита «Об идеях». Цитируется у Секста [см. 74, VII, 137; 38. с. 235]. 9 Из сочинения Демокрита «Подтверждения». Цитируется у Секста [см. там же, VII, 135J; русск. перев. А. О. Маковельского [см. 38, стр. 236]. 10 Не математик, автор знаменитых «Начал», а его соименник. 11 Это положение учения Платона отражает, возможно, влияние на него философии Левкиппа и Демокрита, утверждавших, как было показано, будто небытие существует «ничуть не меньше», чем бытие. 12 См. особенно: Paul Natorp Platos Ideenlehre, изд. 1-е, 1903. В добавлении ко 2-му изданию этого труда (Metaknttscher Anhang), опубликованном в 1920 г, Наторп уже существенно изменяет свою точку зрения на Платона. 13 В философии средневековой схоластики все эти вопросы и точки зрения возродились в так называемом споре об «универсалиях» (общих родах). 14 Я согласен с профессором А. Ф. Лосевым, который находит, что принятый способ переводить греческое слово «swfrosunh» русским «благоразумие» не дает смыслового эквивалента и что в применении его Платоном оно почти непереводимо. Не надеясь на удачу, пытаюсь передать этот смысл словами «сдерживающая мера», довольно далекими от буквального значения. 15 Предложенный В. Я. Железновым перевод термина stasiV «домашний спор» (назв. соч., стр. 107) лучше передает мысль Платона чем «возмущение» в переводе Карпова (см. Сочинения Платона. Ч. 3. Политика, или Государство. СПб… 1863, стр. 279). Ф. Шлейермахер переводит stasiV посредством «Fehde» («вражда», «распря») (см. Schleiermacher F. In: Platens Werke, III. Th.. I Band. Berlin, 1862); Виктор Кузен — посредством «discorde» («раздор») в отличие от «guerre», при помощи которого у него передается polemoV (см. Oeuvres de Platon, tonie neuvieme, Paris. 1833, p. 298); сходным образом английский переводчик Б. Джоуетт передает stasiV посредством «discord» («раздор»), а polemoV — посредством «war» («война») (см. fowett В. In: The Works of Plato. N. Y., vol. 2, p. 207). 16 См.: Gomperz Theodor. Griechische Denker. Eine Geschichte der antiken Philosophie, II. Loz., 1903, S. 403: «Ja von einer Emancipation dieses [dritten. — B. A.] Standes ist so wenig die Rede, dass er vielmehr den hoheren Classen die Subsistenzmittel zu liefern verpflichtet wird und in ein Verhaltnis strengster Abhangigkeit zu ihnen tritt — ein Verhaltnis, bei dessen Bezeichnung selbst das Wort «Knechtschaft» nicht gemieden wird, wenngleich damit nur eine der Masse selbst zum Heil gereichende Bevormundung gemeint ist». 17 Разбор критических аргументов Аристотеля против платоновской теории «идей» дан проф. А. Ф. Лосевым в книге «Критика платонизма у Аристотеля» (М„1929, изд. автора, стр. 26–32). 18 Пер. А. Ф. Лосева, ук. соч., стр. 143–144. 19 Нет необходимости доказывать, что эти доводы Аристотеля физически ошибочны. Аристотель прав, отрицая платоновское сведение элементов к равнобедренным треугольникам, но он ошибается, когда утверждает как нечто самоочевидное, будто большой объем воздуха не может быть тяжелее небольшого объема воды. 20 Впоследствии схоластики назвали его «пятой сущностью» (quinta essentia). 21 Превосходное рассмотрение этой космологии и ее дальнейшей разработки в античной астрономии развил Пьер Дюан (Pierre Duhem) в своем огромном труде «Le systeme du monde» — в его первых трех томах; связь космологии Аристотеля с его философской системой исследовал А. Ф. Лосев в работе «Античный космос и современная наука» (М, 1927). 22 В этом своем утверждении Аристотель — родоначальник тезиса, принятого впоследствии схоластиками, а в XVII в эмпириками: nihil est in intellectu quod non pnus fuerit in sensu. 23 Слово qewria значит в греческом (в философском смысле) «созерцание», в частности «умозрение». 24 Превосходный анализ этой двоякой точки зрения дан в монографии Робэна, содержащей один из лучших анализов теории познания Аристотеля [см 72. с. 44–46]. 25 «Первая Аналитика», 1, 31, 46 а 31 и сл.; о невозможности получить заключение и определение посредством деления говорит также 5-я глава 2-й книги «Второй Аналитики». 26 «Энтимема», «пример» и другие термины логика Аристотеля рассматриваются в этой главе не по существу своего логического содержания, а лишь в своей теоретико-познавательной функции. 27 Прекрасный исторический очерк развития этой традиции в истории греческой науки написал известный алгебраист и историк древней науки Ван дер Варден [см. 18, гл. VI, с. 205–275, особенно с 269 и сл.]. 28 Очень хорошо понял и разъяснил нетривиальный смысл аристотелевского понятия о «середине» В. Я. Железнов в уже указанной мной работе «Экономичеекое мировоззрение древних греков» (с. 163). В этой работе экономические взгляды Аристотеля рассматриваются во внутренней связи с его этическими и даже метафизическими взглядами (см. гл. V, с, 153–184; гл. VI, с. 185–253). Точно и с тонким пониманием философского существа дела характеризовано отношение Аристотеля к Платону: как их различие, так и сходство. 29 С. А. Жебелев переводит tou eu Zhn eneken — «чтобы жить счастливо» — менее адекватно, чем В. Я. Железнов, — «ради благой жизни» (см. «Политика» Аристотеля, пер. С. А. Жебелёва. М., 1911, с. 115; В. Я. Железнов. Цит. соч., с. 187). 30 Компетентный и содержательный анализ этой критики имеется в труде советского исследователя С. Ф Кечекьяна «Учение Аристотеля о государстве и праве» (М. — Л, 1947). 31 С. А. Жебелев переводит «Жить скромно, но так, как это свойственно благородно-щедрому человеку» («Политика Аристотеля», с. 55). 32 Цит. у В. Я. Железнова (Указ. соч., с. 216, примечание). 33 Там, где у Аристотеля речь идет о «земледельческом демосе», С. А. Жебелев переводит: «земледельческий класс», стушевывая тем самым конкретность аристотелевского термина (см. «Политика Аристотеля», с, 277). 34 То есть, кроме рабов, над которыми, как над своей основой, возвышается государство свободных, часть свободных также оказываются рабами. 35 Подробности эти можно найти в весьма содержательной монографии С. Ф. Кечекьяна, уже указанной выше. |
|
||
|
Главная | В избранное | Наш E-MAIL | Добавить материал | Нашёл ошибку | Другие сайты | Наверх |
||||
|
|
||||