|
||||
|
|
СЕДЬМОЙ ПЕРИОДИюнь-июль 1944 года: от Тегерана до вторжения через Ла-Манш; несмотря на серьезные разногласия из-за Польши, военное сотрудничество продолжается Снова Польша и регион вокруг нееВыяснив во время Московской конференции, как отрицательно относится советское правительство к польскому правительству в изгнании, официальные лица США были разочарованы. Польское же правительство в Лондоне обескураживало явное нежелание Хэлла бороться за его судьбу и его непонимание того, чего заслуживает Польша. В ожидании встречи глав государств в Тегеране это польское правительство 19 ноября заявило о своих целях. В меморандуме президенту, который посол Польши в Вашингтоне передал Хэллу, содержалась просьба убедить Сталина возобновить отношения и позволить правительству в изгнании вернуться в Польшу, когда советские войска пересекут ее прежние границы. Если советское правительство откажется выполнить эту просьбу, предупреждалось в нем, польское правительство сочтет вступление советских войск на территорию Польши вторжением и будет вынуждено оказать политическое сопротивление, а его сторонники в Польше останутся в подполье. Что касается границ, в меморандуме утверждалось, что польское правительство в изгнании не желает и думать о том, чтобы уступить «свои восточные территории Советскому Союзу, даже если в качестве компенсации получит Восточную Пруссию, Данциг, Оппельн и Силезию». Меморандум, представленный британскому правительству для Черчилля, имел то же содержание. Но в нем более полно объяснялись операции, осуществляемые нелегальными организациями в Польше, и содержались инструкции, направленные этим силам правительством в Лондоне. Вот как выглядят инструкции, изложенные в ноте Миколайчика Черчиллю от 16 ноября 1943 года. В одном из параграфов читаем: «Вступление советских войск на территорию Польши без предварительного возобновления отношений заставит правительство Польши принять политические меры против насилия над суверенитетом Польши, в то время как местной администрации и армии Польши придется продолжать работать в подполье. Правительство предупреждает, что в таком случае террористические методы Советского Союза по уничтожению польских граждан вынудят его принять меры самообороны». Чтобы подтвердить письменное изложение своей точки зрения. Миколайчик несколько раз просил Рузвельта и Черчилля о личной встрече (где-нибудь в Северной Африке или Каире) до того, как они встретятся со Сталиным. Рузвельт ответил, что это невозможно, но он надеется увидеться с Миколайчиком в Вашингтоне немного позже. Черчилль, отвечая через Идена, объяснил свой отказ опасением, что, если он встретится с Миколайчиком первым, Сталин может отменить всю конференцию. В Тегеране Рузвельт уступил Черчиллю лидирующую роль. Премьер-министр взял бразды правления после обеда 28 ноября, в первый день конференции. Он, казалось, скорее обращался к Сталину с просьбой, а не спорил с ним. По его манере общения угадывалась готовность принять решения Советского Союза. Он признал, что нет ничего важнее, чем безопасность западных границ России, и предположил, что Польша могла бы отодвинуться западнее, как солдаты, делающие два шага «строго влево». Если это будет означать, что поляки больно задевают чувства немцев, то тогда тут ничего не поделаешь, потому что Польша должна быть сильной. Намекая таким образом, что позиция британцев не будет слишком жесткой, он спрашивал Сталина, попытаются ли они отодвинуть границы. Сталин ответил утвердительно. Тогда Черчилль добавил, что парламент не уполномочил его сделать это, как и конгресс не уполномочил президента, но, по его мнению, они все трое могли бы попытаться неофициально договориться в Тегеране о политике, которую можно было бы рекомендовать полякам. Сталин осведомился, следует ли делать это без участия поляков. Черчилль ответил, что. по его мнению, следует, и этот вопрос можно обсудить с польскими лидерами после того, как они трое договорятся между собой. Идеи. присоединившийся к ним во время беседы, заметил, что ему нравится заявление Сталина о западной границе Польши по Одеру. Сталин повернулся к нему и спросил, не считает ли он, что советское правительство собирается проглотить Польшу. Идеи ответил, что не знает, сколько собираются съесть русские, а сколько оставят непереваренным. На это Сталин заявил, что русские не хотят ничего принадлежащего другому народу, хотя могли бы откусить кусок от Германии. Идеи возразил, что свой проигрыш на Востоке Польша может наверстать на Западе. Сталин ответил: «Возможно». В своей книге Черчилль так говорит о завершении этой беседы: «Затем я с помощью трех спичек продемонстрировал свою идею продвижения Польши на запад. Это понравилось Сталину, и на этой ноте наша группа на время рассталась». Рузвельт не присутствовал при этом разговоре. А когда два дня спустя за завтраком Идеи и Молотов вернулись к этому вопросу, Гопкинс предпочел промолчать. Но президент не хотел, чтобы у Сталина сложилось впечатление о его отчужденности, равнодушии или несогласии. Поэтому 1 декабря после завтрака, на котором присутствовали все трое, Рузвельт предложил Сталину продолжить разговор наедине. Когда Сталин пригласил его к себе в тот же день незадолго до новой встречи всех троих, президент начал с того, что выразил желание откровенно поговорить на тему, напрямую касающуюся внутренней политики Америки, – о Польше. Если верить американской (Болена) записи этого разговора, сделанной весьма корявым языком, президент далее объяснил, что в 1944 году в Соединенных Штатах должны состояться национальные выборы, и, хотя он предпочел бы не выставлять свою кандидатуру, ему, может быть, придется это сделать, если будет продолжаться война. В Соединенных Штатах живут шесть-семь миллионов американцев польского происхождения, и ему не хотелось бы потерять их голоса. Потом он добавил, что «…лично он согласен с точкой зрения маршала Сталина относительно необходимости восстановления Польского государства, но хотел бы, чтобы восточная граница была отодвинута дальше на запад, а западная к Одеру. Он выразил надежду на понимание маршала, что по описанным выше политическим причинам он не может участвовать ни в каком решении по этому вопросу здесь, в Тегеране, или даже следующей зимой и что сейчас он не может публично участвовать в подобных соглашениях». Сказав Сталину, что он не против общей мысли переноса границ Польши на запад, Рузвельт, как он сам позже заявил, не имел в виду какую-либо определенную границу, особенно линию Керзона. Но Сталин и Молотов поняли именно так. Во всяком случае, так они заявили в октябре, когда Черчилль посетил Москву, хотя до того Гарриман сказал Сталину (наиболее ясно в июне 1944 года, по возвращении из Вашингтона), что президент по-прежнему озадачен и озабочен ситуацией со Львовом и нефтяным регионом. Когда обнаружилось это непонимание, посол задумался, не были ли слова президента, произнесенные во время неофициальной частной беседы в Тегеране, случайно искажены при переводе. Как бы то ни было, уклонившись от этого вопроса в Тегеране, Рузвельт позволил Черчиллю и Сталину беспрепятственно отодвинуть границы новой Польши. Рузвельт не информировал Черчилля о содержании своей конфиденциальной беседы со Сталиным. А когда через несколько минут все трое собрались вместе, именно он, несмотря на желание не вмешиваться, первым заговорил о Польше, выразив надежду, что вскоре начнутся переговоры, после которых возобновятся отношения между польским и советским правительствами. Сталин грубовато спросил, с каким польским правительством должны быть проведены эти переговоры – ведь то, которое находится в Лондоне, контактирует с немцами, вместе с нацистами поносит советское правительство и убивает партизан, сражающихся с оккупантами. Он заявил, что ему хотелось бы иметь гарантии, что все эти действия прекратятся, но он не уверен, что польское правительство в изгнании когда-либо их остановит и станет тем правительством, которое нужно Польше. После критики в адрес польского правительства в Лондоне он, однако, сказал, что, если оно изменит свою политику и начнет бороться с немцами, русские будут готовы вести с ним переговоры. Дело в том, заключил он, что советское правительство является сторонником воссоздания и расширения Польши за счет Германии. Резкие слова Сталина не разрушили радостного эффекта, произведенного его заключительным заявлением. Черчилль, понимая, что он должен получить шанс стать посредником, пребывал в раздумьях, какую позицию занять по обсуждаемому вопросу о границе. Он пригласил Сталина, чтобы уточнить его мнение о будущих границах Польши. Сталин пошел ему навстречу. Полякам, заявил он, нельзя позволять захватить то, что он назвал территориями Украины и Белоруссии, – земли, возвращенные Советскому Союзу в 1939 году; советское правительство намерено придерживаться границ 1939 года, поскольку считает их справедливыми и этнографически правильными. Идеи спросил, совпадают ли они с линией Молотова – Риббентропа. Сталин ответил: называйте ее как угодно, все равно он считает ее справедливой и правильной. У Молотова нашлось еще одно возражение: граница 1939 года в основном и есть линия Керзона. Идеи возразил, что между ними есть важные различия. Молотов отрицал этот факт. Справедливости ради уточним, что в центральной части линия Керзона и та граница, о которой 8 сентября 1939 года договорились Молотов и Риббентроп, совпадают: вдоль Буга к границе Галиции. Но по линии Керзона на севере большой округ Белостока отходил к Польше, тогда как по соглашению 1939 года он отходил к Советскому Союзу. На юге (в Галиции) по договору 1939 года также уступалось еще немного территории. Достали карты, и участники конференции разделились на две самостоятельные группы, каждая из которых напряженно обдумывала свою позицию. Я не буду водить читателя по запутанным лабиринтам этой непростой дискуссии. Когда Идеи намекнул, что линия Керзона должна проходить восточнее Львова, Сталин возразил: Львов по-прежнему будет принадлежать России, а линия отодвинется на запад, к Перемышлю. Сталин был прав. Идеи, вероятно, имел в виду альтернативную пограничную линию (между Польшей и подмандатной Галицией), которая обсуждалась на Парижской мирной конференции в 1919 году. Вероятно, не выяснив до конца этот пункт, группа приступила к обсуждению западной границы Польши, начав с изучения обозначенной на карте линии Одера. Участие Рузвельта в этом разговоре ограничилось вопросом о размере территорий, затронутых изменениями границ. Когда ему ответили, он спросил Сталина, возможно ли, по его мнению, перемещение населения на добровольной основе, и Сталин ответил, что это именно так и будет. Черчилль, твердо решивший получить определенные соглашения, которые он мог бы передать полякам в Лондоне, подготовил для Сталина резюме результатов их переговоров. Новое польское государство должно было располагаться между линией Керзона (подлежащей подробному истолкованию) и Одером на западе, включая Восточную Пруссию и Оппельн. Должна ли граница на западе проходить по восточной или западной Нейсе, определено не было. Сталин сказал, что примет линию Керзона как советско-польскую границу при условии, что русские получат северную часть Восточной Пруссии, ограниченную левым (южным) берегом Немана, включая Тильзит и Кенигсберг. Это приобретение, объяснил он, даст Советскому Союзу незамерзающий порт на Балтике, а также небольшую часть немецкой территории, которую, по его мнению, он заслуживает. Черчилль в своем более позднем отчете, похоже, сказал Сталину, что это «…посадит Россию на шею Германии». Черчилль не возражал против этого дополнительного требования. Но он снова спросил: как же Львов? Сталин лишь повторил, что примет линию Керзона. Несмотря на это, Черчилль сказал, что воспринимает эту формулу как основу предложения, которое он сделает полякам в Лондоне, настоятельно посоветовав его принять. На инициативу британцев влияла тревога, что, если польское правительство в изгнании не станет участником переговоров, советское правительство может создать для него соперника-марионетку и даже расстаться с идеей восстановления независимой Польши. Президент, в соответствии с тем, что он сказал Сталину, предоставил решение проблемы русским и британцам. Это предоставило ему свободу бороться в другое время, но к этому времени, увы, борьба будет окончена. Советские войска стремительно приближались к польской границе. Слухи о намерениях Советского Союза способствовать возникновению конкурирующего правительства Польши, в котором будут преобладать коммунисты, становились все более определенными. Поэтому Черчилль, заболевший на пути из Тегерана, не стал ждать выздоровления, чтобы начать работать с польским правительством в Лондоне и заставить его установить отношения с Россией на условиях, выработанных в Тегеране. Он привлек к этой работе Идена. 20 декабря Черчилль попросил Идена завести с поляками разговор о границах на основе формулы, о которой договорились со Сталиным, и посоветовать им принять это предложение. Это, по оценкам премьер-министра, даст полякам от 300 до 400 миль в каждую сторону и 150 миль морской границы. Одна фраза из меморандума, отправленного Черчиллем Идену в качестве руководства, подошла к самой сути спорных вопросов: «Вам следует дать им понять, что, завладев нынешними немецкими территориями до Одера и твердо удерживая их, они окажут услугу Европе: ведь тогда будет создан базис дружественной политики по отношению к России и тесного сотрудничества с Чехословакией». Со временем эта позиция станет понятна. Лондонские министры в изгнании должны были превратиться в правительство, чьей потребностью и правилом было бы ладить с Советским Союзом. Польское государство существовало бы в пределах границ, охватывающих территорию, которая давно была частью Германии и с которой оно было бы вынуждено изгнать миллионы немцев. Советский Союз приобрел бы не только восточные территории, которые Польша удерживала до 1939 года (и которые, как утверждало советское правительство, на самом деле принадлежали России), но еще и немецкую территорию на севере. Таким образом, обе страны (Советский Союз и Польша) оказались бы связанными друг с другом необходимостью остерегаться попыток немцев получить обратно утраченные территории и вновь стать могущественной державой. С одной стороны, Польшу приглашали быть защитницей мира и твердо противостоять усилению власти Германии в будущем. Именно такое предложение Черчилль посоветовал Сталину сделать полякам. С другой стороны, поляки, нравится им это или нет, должны были продолжать сотрудничество с Советским Союзом, поскольку Германия, если и когда она восстановится, будет чувствовать себя оскорбленной обоими. Польша, как и в период между двумя войнами, зажатая между Германией и Советским Союзом, не любя и боясь их обоих и готовая вступить в заговор против кого-нибудь из них, никогда не будет в состоянии сохранять нейтралитет. Советское правительство полагало, что военный опыт его страны доказывает необходимость предложенного соглашения. Но если бы оно было достигнуто, Советский Союз мог бы завоевать доминирующее положение в Европе. Это бы означало, что Британскому Содружеству и Соединенным Штатам пришлось бы бороться с ним, если бы он начал злоупотреблять своей властью. Но как запретить Советскому Союзу сделать Польшу своим придатком, не повредив военному сотрудничеству? А после Тегерана не будет ли разумным отбросить страх перед Советским Союзом, надеясь, что он будет действовать в духе дружбы и сотрудничества? 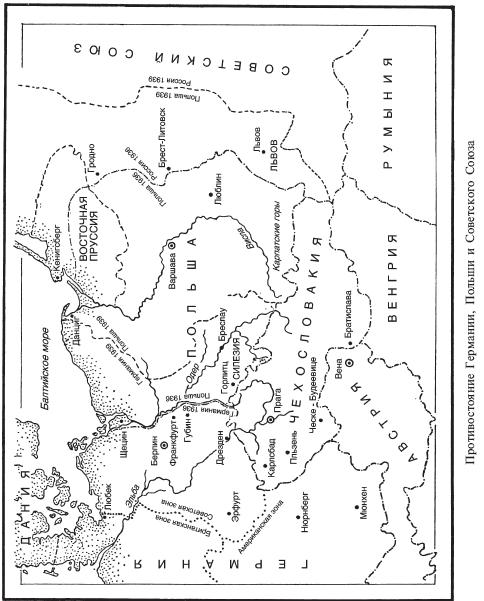 Партнером в новом объединении в Центральной Европе должна была стать Чехословакия, и ее президент, Бенеш, уверял американское и британское правительства, что Советскому Союзу можно доверять. В декабре, сразу после Тегеранской конференции, он отправился в Москву и 12 декабря подписал чешско-советский договор о союзе. Бенеш считал, что все проблемы между его страной и Советским Союзом улажены. Сталин и Молотов снова и снова уверяли его, что, какие бы вопросы ни возникли, они не станут вмешиваться во внутренние дела Чехословакии. Они предложили помощь в расширении и оснащении чешских частей, находившихся тогда в России. Бенеш докладывал своим коллегам в Лондоне о достижении договоренности с Советским Союзом о том, что «…наши части всегда будут вступать на нашу территорию вместе с Красной армией; что занятие нашей территории должно быть всегда оставлено за нашей армией при условии, что ее численность окажется достаточной; что наш внутренний порядок будут уважать, а наша территория будет постепенно передаваться под управление нашей гражданской администрацией». Сталин и Молотов пообещали поддержать требования Чехословакии о границах, существовавших до войны; русская территория будет по другую сторону Карпат. Эти обещания относительно восстановления вооруженных сил Чехословакии, их возвращения в страну, сотрудничества с Красной армией, прихода к власти гражданской администрации и границ были официально выражены в дополнительном советско-чехословацком договоре относительно возможного вступления советских войск на территорию Чехословакии, подписанном 8 мая 1944 года. Случилось так, что 20 декабря, в тот самый день, когда Черчилль попросил Идена убедить поляков согласиться с договором, в общих чертах намеченным в Тегеране, Бенеш имел еще одну беседу со Сталиным. После нее он сказал Гарриману и, вероятно, Кларку Керру, что еще больше, чем раньше, уверен в готовности советского правительства начать переговоры с польским правительством в Лондоне, если оно выполнит требования Советского Союза. По словам Бенеша, оно должно устранить своих «непримиримых реакционеров», найти новых демократических лидеров и принять границу, требуемую Россией. Бенеш полагал, что, если польское правительство в Лондоне пойдет на эти уступки, советское правительство охотно заключит соглашение с Польшей, подобное тому, что оно заключило с Чехословакией. Он полагал также, что оба соглашения станут основой трехсторонней системы, которая бы защитила их всех от немецкого «Дранг нах Остен». Оно также обеспечит Польше защиту от вмешательства Советского Союза во внутренние дела Польши, так как Москве это будет не нужно. Эта оценка возможных ценных результатов советско-польского соглашения перекликалась с общим впечатлением от политики Советского Союза, которое создалось у Бенеша после бесед со Сталиным и Молотовым. До отъезда из Москвы он сказал Гарриману, что, по его мнению, советские лидеры теперь чувствуют себя в безопасности и спокойны; они верят, что революция осуществлена, а Советский Союз силен и сплочен. Поэтому у них больше нет желания «большевизировать» другие страны, и они готовы участвовать в мировых делах. Возвращаясь в Лондон, Бенеш заехал в Марракеш, где восстанавливал силы Черчилль, и рассказал ему о своем пребывании в Москве. В более позднем отчете об этой беседе Бенеш писал: «Его [Черчилля] реакция была бурной. Он считал, что поляки должны принять требования Москвы; что, приехав в Лондон, я должен сначала информировать Идена, а потом Миколайчика, а затем вместе с Иденом уговорить поляков на правах их друга тотчас же принять решение вступить в переговоры с Москвой и согласиться на предложение Сталина». Такова была следующая стадия решения польской проблемы. Разногласия из-за Польши продолжаютсяВосстановив свои силы, Черчилль вновь занял лидирующее положение. В послании Рузвельту от 6 января 1944 года он подтвердил свое намерение следовать курсу, намеченному в Тегеране. Он сказал, что собирается, вернувшись в Лондон, сделать все возможное, чтобы заставить польское правительство «…принять территориальные предложения Советского Союза, выработанные в Тегеране, а потом заявить о своей готовности защищать границу, проходящую по Одеру, как бастион, от любой агрессии Германии против России, а также всемерно поддержать урегулирование территориальных вопросов. Это будет их долгом перед европейскими державами, которые дважды их спасали». Но в течение следующих нескольких недель напряжение возросло настолько, что менее решительный человек, чем Черчилль, был бы обескуражен. Польское правительство в Лондоне менее всего думало о своем долге перед Европой, а поглощено было проблемой своего выживания и положением в Европе. Оно по-прежнему было полно решимости вернуть себе большую часть, если не всю территорию, которой Польша обладала в период между войнами, и часть Германии на западе. Оно считало, что Польша вправе выйти из войны более крупной и свободной державой, и твердо решило не менять своей политической окраски и не связываться с Советским Союзом. Не посоветовавшись ни с британцами, ни с американцами, 5 января польское правительство в Лондоне обратилось к полякам, напомнив им об их правах и обязанностях, и в то же время опубликовало заявление Объединенным Нациям, затрагивающее большую часть вопросов, поднятых в обращении. В этом заявлении утверждалось, что соглашение с Советским Союзом крайне желательно, но не упоминалось о цене. В нем утверждалось, что в ближайшее время Польша будет господствовать на освобожденной территории, и от Советского Союза ожидается уважение к правам и интересам Польской Республики и ее граждан. В нем говорилось и о том, что польским подпольщикам 27 октября уже приказано более интенсивно вести борьбу против немцев и избегать каких-либо конфликтов с советскими войсками, входящими в Польшу, и напротив – сотрудничать с советскими командующими «…в случае возобновления польско-советских отношений». Бенеш, поинтересовавшись мнением Идена по этому вопросу, 10 января попытался убедить Миколайчика, что, опубликовав такое заявление, его группа совершила неверный шаг и что лучше принять требования Сталина. Из ответа Миколайчика стало ясно: он не разделяет мнения некоторых членов своей группы, будто Россия в конце войны будет обессилена, и признает необходимость скорейшего заключения какого-либо соглашения с Советским Союзом. Но он добавил, что не уверен, удастся ли ему преодолеть возражения своих коллег, даже если он, наступив себе на горло, согласится с предлагаемыми границами послевоенной Польши. Советские власти только через неделю удостоили вниманием вызывающее заявление польского правительства в Лондоне. В течение этой недели войска Красной армии пересекли бывшую границу Польши. В полночь 11 ноября Молотов пригласил к себе Гарримана и Балфура (дежурившего в британском посольстве в Москве в отсутствие Кларка Керра). Он вручил им копии заявления Советского Союза, заметив, что, «поскольку кто-то еще говорит о Польше, с нашей стороны было бы ошибкой промолчать». Советский Союз ответил на заявление Польши гневной отповедью. Он обвинял польское правительство в неверной трактовке вопроса о границах. Правильная точка зрения, утверждалось в его заявлении, заключается в том, что границы 1941 года установлены в соответствии с желаниями людей, живущих на Западной Украине и в Западной Белоруссии. Утверждалось, что более ранняя граница была навязана силой и несправедлива по отношению к этим народам и к Советскому Союзу. Советское правительство, говорилось в нем далее, хочет видеть сильную и независимую Польшу, с которой у него могли бы сложиться дружеские отношения; и если польский народ захочет войти в союз для взаимной помощи в борьбе против немцев, это можно сделать, если Польша присоединится к советско-чешскому соглашению. Но эта новая Польша должна быть возрождена не захватом украинских и белорусских земель, а стремлением к возвращению польских земель, находящихся под управлением Германии. Вот точный текст советского предложения:
В остальных параграфах заявления утверждалось, что «эмигрантское» правительство Польши неспособно установить дружеские отношения с Советским Союзом и вести активную борьбу против немцев на родине. По мнению советского правительства, заявление лондонского правительства играет на руку немецким оккупантам. в то время как Союз польских патриотов в СССР и корпуса Войска польского при его содействии рука об руку сотрудничают с Красной армией в борьбе за освобождение. Тотчас же возник страшный вопрос: означает ли этот обмен заявлениями настолько серьезные разногласия между советским правительством и польским правительством в Лондоне, что любые дальнейшие попытки заставить их установить отношения на основе тегеранской формулы бесполезны? А если так, что еще остается делать британскому и американскому правительствам? Начать отрицать территориальные притязания Советского Союза. рискуя порушить весь военный союз? Сдержать польское правительство в Лондоне, если им это удастся, даже если его солдаты и летчики сражаются бок о бок с американцами и британцами? Им потребовались мужество и оптимизм, чтобы сохранять веру в возможность достижения компромисса. У Гарримана в Москве складывалось впечатление, что советское правительство, несмотря на данный им публично суровый отпор, все же не прочь заключить с польским правительством в Лондоне соглашение, подобное тому, что оно заключило с Бенешем, при условии выполнения им двух основных требований. Одно подразумевало, чтобы нераскаявшиеся, антисоветски настроенные члены этого правительства были выведены из его состава. Второе заключалось в том, что польское правительство безоговорочно признает советскую позицию по границам. Гарриман предсказал, что, так как советские войска вошли в Польшу, шансы на приемлемое урегулирование будут уменьшаться и, вероятно, полякам лучше действовать, а не ждать в надежде, что британцы и американцы все сделают за них. Черчилль и Идеи изо всех сил старались убедить в этом польское правительство. В результате их посреднических усилий 14 января появилось второе заявление польского правительства, более мягкое. чем первое. В нем говорилось, что, хотя польское правительство не может принять навязываемые ему решения как свершившиеся факты, оно искренне хочет достичь соглашения с советским правительством на справедливых и приемлемых для обоих условиях, и выражалось желание, чтобы британское и американское правительства были посредниками при достижении этого соглашения. Президент по-прежнему не хотел ввязываться в польский конфликт. Но в беседе с Хэллом он согласился: Гарримана надо попросить намекнуть советскому правительству, что мы очень надеемся на его дружелюбный ответ на последнее предложение поляков о возобновлении переговоров. Более того, Гарриман должен сказать, что, несмотря на нежелание принимать активное участие в этом споре, американское правительство будет радо добросовестно исполнить свои обязанности. Передача послу этой инструкции случайно была отложена на несколько дней. Прежде чем Гарриман смог воспользоваться ею, конфликт обострился более чем когда-либо. Советское правительство не оценило попытку примиренческих элементов в польском правительстве залатать прореху в отношениях с Советским Союзом. Короче, 17 января был опубликован ответ на второе заявление поляков, в котором заявление интерпретировалось как отклонение предложений Советского Союза и снова бросалось обвинение польскому правительству во враждебности. Черчилль решил, что полякам надо намекнуть: продолжая упорствовать, они только проиграют. Поэтому 20 января он коротко и зловеще представил Миколайчику альтернативу. Впавший в отчаяние глава польского правительства рассказывал, как премьер-министр давил на него, стараясь заставить принять тегеранскую формулу. Сначала премьер-министр сказал: «Британское правительство считает, что Польша должна быть сильной, независимой и свободной». Но потом добавил: «От линии Керзона до Одера». Он предупредил Миколайчика, что Великобритания и Соединенные Штаты не станут воевать с Советским Союзом из-за польских границ. Он объяснил, что британское и советское правительства гарантируют эти границы, если Польша их примет, но объяснил, что Рузвельт этого сделать не может. Миколайчик рассказывает об этом в книге «The Rape of Poland». Однако Хэлл в своих мемуарах представляет несколько иное содержание записки Миколайчика от 26 января, в которой польский премьер-министр сообщает ему о предложении Черчилля, один из пунктов которого, в изложении Хэлла, гласил: «Британия, Россия и Соединенные Штаты гарантируют это урегулирование». Затем он рассказал Миколайчику об изменениях в составе лондонского правительства, которых потребовал Молотов, заметив, однако, что в этом отношении он может не беспокоиться о вмешательстве Сталина во внутренние дела Польши. Миколайчик ответил, что ему придется посоветоваться как со своими коллегами в Лондоне, так и с политическими лидерами. нелегально живущими в Польше. Ожидая связи с этой второй группой, он продолжал добиваться более позитивной помощи британцев и американцев в своем сопротивлении требованиям Советского Союза. Описывая жестокие порядки, которые Красная армия установит в Польше, Миколайчик попросил союзников найти способ ввести в Польшу войска с целью помочь польской администрации на освобожденных территориях и предоставить населению защиту от советских войск. Записка британскому правительству, в которой содержалась эта просьба, вероятно, была написана раньше, сразу после публичной просьбы о вмешательстве от 14 января. В том виде, в каком она напечатана в книге Миколайчика, она датирована 16 января, но он рассказывает, что передал ее после беседы с Черчиллем 20 января. Рузвельту Миколайчик задал три вопроса. Во-первых, считает ли он уместным теперь урегулировать европейские территориальные проблемы? Рузвельт ответил, что в основном мы против этого, но это не мешает прямому урегулированию по взаимному согласию. Во-вторых, будет ли американское правительство участвовать в осуществлении и гарантии урегулирования? Рузвельт ответил, что мы готовы добросовестно помочь урегулировать спорные вопросы, но не в состоянии этого гарантировать. В-третьих, поддерживает ли президент предложения Черчилля? На этот вопрос был дан уклончивый ответ, мол, американское правительство готово поддерживать «усилия» Черчилля. Это были неубедительные ответы. И все же, забегая вперед в рассказе о коалиции, скажем, что для правительства, которому так не хотелось быть вовлеченным в этот болезненный вопрос, американские власти в течение следующих недель проявили слишком большой интерес к тому, что может произойти в будущем. Совместно с англичанами они сильнее, чем когда-либо, пытались положить конец разногласиям. Действуя в соответствии с указаниями, полученными из дома, и Гарриман, и Кларк Керр так усердно вовлекали Молотова и Сталина в эту ссору, что Сталину это надоело. В беседе Гарримана со Сталиным, состоявшейся 2 февраля, Сталин положил на стол копию журнала, напечатанного, как он сказал, польским подпольем в Вильно. Он обратил внимание посла на заголовок «Гитлер и Сталин – два аспекта одного зла». Тот факт, что эта статья была напечатана в июле предыдущего года, для него не имел никакого значения, как и то, что это почти неизвестный журнал. Он утверждал, что иметь дело с такими людьми сложно; что они вполне способны провести Идена и в этой истории проявляется их истинный характер. По его мнению, правительство находится под влиянием генерала Соснковского и иже с ним, по-настоящему желающих сотрудничать с Германией против Советского Союза. Поляки хотят думать, сказал Сталин к концу беседы, что русские хорошие, но глупые бойцы и что на русских можно взвалить бремя войны, а затем заставить поделиться трофеями. Они поймут, кто из нас глуп, многозначительно заключил он. Беседа британского посла со Сталиным, состоявшаяся в тот же день, прошла в том же духе. Но Сталин, похоже, намекнул, что, если польское правительство в Лондоне избавится от тех, кому он фактически не доверял, и введет в свой состав людей, настроенных «демократически, антифашистски и лояльно к союзникам», он готов иметь с ним дело. На прямой вопрос Кларка Керра Сталин дал прямой ответ: советское правительство после освобождения Польши позволит провести в стране демократические выборы. Совет, который Гарриман получил из Вашингтона в течение следующей недели, был искренним, но вряд ли способным повлиять на упорных антагонистов. Хэлл советовал послу поразить и советское, и польское правительства мудростью и не делать ничего, что могло бы повлиять на успешное военное сотрудничество, повредить возможностям международного сотрудничества после войны или неблагоприятно сказаться на перспективах президента на выборах. Американская трактовка ситуации была вызвана целесообразностью и здравым смыслом. Рузвельт полагал, и отчеты Гарримана и Уинанта давали почву для подобной точки зрения, что у Советского Союза есть причины для отказа иметь дело с польским правительством до тех пор, пока то не выведет из своего состава некоторых членов, даже не скрывающих своей ненависти и полного недоверия к Советскому Союзу. Они считали, что все надежды Польши могут быть связаны с продолжением борьбы между западом и Советским Союзом за установление границ Польши. Поэтому Рузвельт через Громыко, нового советского посла в Вашингтоне, и через Гарримана пытался убедить Сталина не запрашивать слишком много и не действовать слишком резко и одновременно просил Черчилля не быть непреклонным в отношении предложенных изменений в польском правительстве. Ответы, которые Миколайчик получил от группы нелегально действующих политических партийных лидеров в Польше (Совета национального единства, учрежденного правительством в изгнании) и его кабинета в Лондоне, не улучшили перспективы. Они, если говорить вкратце, были готовы принять обговоренную западную территорию, но отказывались уступить восточную, предложив вместо этого временную демаркационную линию, проходящую к востоку от Львова и Вильно, и отклонив претензию Советского Союза на часть Восточной Пруссии. Они также гордо заявили, что изменения в польском правительстве и командовании не могут производиться по требованию иностранных держав. Такой же упорной была позиция сражающихся польских формирований, продолжавших борьбу против Германии с непоколебимым мужеством и стойкостью. Например, генерал Андерс, который командовал 2-м польским корпусом и находился в самом центре ожесточенной борьбы в Италии, 25 февраля 1944 года направил послание своему главнокомандующему Соснковскому, в котором говорилось, что «…все солдаты польской армии на востоке откажутся обсуждать любую возможность отдать большевикам хоть частичку польской территории…». Тон записки, которой польское правительство информировало Черчилля о сущности этих решений, привел его в уныние. Закончив беседу с Миколайчиком, уходя, он грустно заметил: «В ближайшее время я сделаю публичное заявление по этому вопросу». Заявление он сделал 22 февраля в палате общин. Сославшись на заверения Сталина о его желании видеть сильную, единую и независимую Польшу, премьер-министр продолжил: «Я не могу не признать, что требования русских о гарантиях относительно их западных границ разумны и справедливы. Мы поговорили с маршалом Сталиным и пришли к соглашению о необходимости для Польши получить компенсацию за счет Германии как на севере, так и на западе». В последний день февраля Кларк Керр, имея на руках новую аналитическую записку Черчилля, снова попытался выяснить, сможет ли Сталин предоставить польскому правительству помощь и передышку, хотя бы из уважения к глубокой близости между тремя союзниками. Его доклад в изложении начинался так: «Сегодня я виделся со Сталиным. Беседа была не из приятных. Он со смешком пытался отклонить позицию польского правительства, описанную в послании премьер-министра». Заканчивался доклад следующим замечанием: «Этот безрадостный и раздражающий разговор продолжался более часа. Все аргументы были бесполезны». В ходе последующей беседы со Сталиным, состоявшейся 3 марта, обнаружилось то же враждебное пренебрежение к польскому правительству в Лондоне. Когда посол объяснил Сталину цель встречи. тот раздраженно спросил: «Снова поляки? Это что, самый важный вопрос?» Он заметил, что слишком занят поляками и на военные вопросы у него не хватает времени, а потом снова подтвердил позицию Советского Союза, но с еще более заметной неприязнью к польскому правительству в Лондоне, чем в беседе с Кларком Керром. На предположение, что, если решение не будет найдено, в Польше может начаться гражданская война, он ответил вопросом: война с кем? между кем? где? Как это может случиться? Ведь у польского правительства нет вооруженных сил внутри Польши, а лишь немногочисленное подполье, всего несколько агентов лондонского правительства? Он предположил, что, в то время как Красная армия продолжит освобождение Польши, Миколайчик будет повторять свои банальности; а к тому времени, как Польша будет освобождена, внутри страны возникнет еще одно правительство. Что же касается стараний Черчилля осуществить преобразование польского правительства в Лондоне, Сталин считал, что его обманут и ничего не выполнят. Когда Гарриман рассказал об опасениях президента, что на основании предложений Советского Союза Польша «получит специально отобранное правительство, за которым не будет стоять ни одно народное движение», Сталин возразил, что для подобных сомнений нет причин. Польша не нуждается в элементах, представленных в Лондоне, – ей нужны демократы, которые будут защищать интересы народа и предотвратят хаос и анархию. Гарриман ознакомил Кларка Керра с копией своего доклада президенту об этой беседе. В замечаниях, которые Кларк Керр написал на полях, прочитав его, выражалась боль многих дипломатов, которые в течение столетия и дольше пытались прийти к соглашению по вопросу о Польше: «Боже мой! Кто будет послом?» Сталин в послании к Черчиллю от 23 марта упрекнул того за недостаточную твердость по отношению к полякам. «Я не сомневаюсь, – писал он, – что, если бы Вы продолжали по-прежнему твердо стоять на Вашей тегеранской позиции, конфликт с польским эмигрантским правительством был бы уже разрешен». Узнав, что Черчилль собирается доложить палате общин о возможности отложить до мирной конференции решение по всем территориальным изменениям и что до тех пор он не может признать никакую передачу территорий силой, Сталин грубо сказал: «Конечно, вы вольны в палате общин делать любые заявления. Это ваше дело. Но если вы сделаете такое заявление, я буду считать, что вы совершили акт несправедливости и недружелюбия по отношению к Советскому Союзу». Миколайчик в это время снова добивался встречи с президентом. Президент по-прежнему откладывал встречу. Расхождение по территориальному вопросу между поляками и русскими было настолько велико, что он не видел возможности прийти к соглашению, пока кто-нибудь из них не уступит. Он боялся, что если его встреча с Миколайчиком станет достоянием гласности, то создастся впечатление, будто американское правительство выступает на стороне Польши. До сих пор, рассказывая о разногласиях относительно Польши, мы в нашей истории забегали вперед. В то время мы готовились начать операцию «Оверлорд» и рассчитывали на скоординированные военные наступления русских на востоке, чтобы предотвратить переброску немецких войск на запад. Поэтому, как сказал Хэлл, «мы не можем быть настолько пристрастными в польском вопросе, чтобы в критический момент отстраниться от России». Заявив американскому и британскому правительствам, что польское правительство в Лондоне может быть реорганизовано путем включения в его состав демократически настроенных поляков, живущих в Соединенных Штатах, Британии и других странах, Сталин и Молотов попросили американское правительство дать возможность приехать в Москву двум американским гражданам польского происхождения. Это были профессор Оскар Ланге из университета Чикаго и отец Орлеманский, католический священник из Спрингфилда, штат Массачусетс. Оба были известны своими симпатиями к Советскому Союзу. Несмотря на грубость Сталина, которую советский вождь проявлял при упоминаниях о польском правительстве, президент решил, что этим людям следует позволить приехать в Москву. В Москве их тепло приняли, о них много писали в прессе, и они всюду имели успех. Сталин и Молотов выделили на беседу с ними несколько часов. Вряд ли требуется говорить, что оба восторгались позицией Советского Союза относительно Польши и искренним желанием Сталина видеть сильную, свободную и независимую Польшу. Эти два записных защитника позиции Советского Союза подробнейшим образом рассказали американским представителям в Европе о том, что они видели и слышали и о чем говорили. Отчеты Орлеманского о его беседах со Сталиным и Молотовым многословны и почти стенографически точны. Они интересны своей наивностью и неординарным взглядом на слияние целей советского правительства и церкви, к которой он принадлежал. Приглашая этих двух людей в Советский Союз, советское правительство, вероятно, преследовало две цели. Оно надеялось расположить к себе посланников, которые вернутся в Соединенные Штаты и с симпатией представят позицию Советского Союза польским общинам. Оно также, пусть и с некоторым опозданием. считало это шагом к вовлечению поляков, имеющих связи в Соединенных Штатах, к участию в новом правительстве Польши, создающемся под покровительством советского правительства. Ланге, в конце концов, стал членом нового польского правительства и служил его первым послом в Вашингтоне. Перед коалицией стояли насущные боевые задачи. Черчилль, на пороге важнейших совместных наступлений, которым предстояло определить будущее Европы, чувствовал себя уязвленным из-за польского вопроса. Его раздражали упрямство и претензии польской группы в Лондоне, а с другой стороны, обижало непонимание Сталиным его стараний, а также грубое отклонение просьб британцев и американцев пойти навстречу чувствам поляков и позволить им, не унижаясь, доказать свою дружбу. Поведение Советского Союза оживило у него и Идена заглушаемые воспоминания о прежних обидах; о пакте Молотова-Риббентропа. по которому Запад был предоставлен сам себе; об оскорблениях. которые швырял им Сталин. Они твердо решили, что Советы не должны уничтожить свободу в Польше, в стране, для защиты которой Британия вступила в войну. По их мнению, за свои огромные усилия британцы получили лишь неблагодарность; им удалось убедить польское правительство принять для целей гражданского управления во время войны компромиссную демаркационную линию, проходящую к востоку от Вильно и Львова, а окончательное урегулирование проблемы границ оставить на потом. Подобное урегулирование, полагали они, избавит польское правительство в изгнании от жестокой необходимости соглашаться от имени своих соотечественников на постоянное территориальное урезание, и при этом в мире одобрят условия, на которых настаивает советское правительство. И что они за все это получили? Оскорбления Сталина? Политика Советского Союза заключалась в том, чтобы установить границы, используя вместо доброй воли человечества силу Красной армии. Тегеран тут ничего не изменил. Этими мыслями и чувствами Черчилль и Идеи поделились с американским правительством через Уинанта и Гарримана. Но Рузвельт не считал польский вопрос жизненно важным или достаточно ясным, чтобы рисковать эффектным зрелищем ради будущих военных операций и кампании по его перевыборам. В середине мая Гарриман приехал в Вашингтон. В посланиях Сталину президент по-прежнему говорил, что до выборов не может активно участвовать в разрешении польского вопроса; что линия Керзона, с небольшими поправками, кажется ему прочной основой для урегулирования, хотя проблема Львова его по-прежнему волнует; что он, сколько мог, откладывал встречу с Миколайчиком и прежде, чем согласиться принять его, заручился обещанием премьер-министра, что во время пребывания в Соединенных Штатах он не будет произносить публичных речей. Президент писал, что тот намерен сообщить ему о намерении избавиться от тех членов своего правительства, кто откажется сотрудничать с Советским Союзом по вопросам урегулирования. Рузвельт выразил надежду, что заявления Советского Союза касательно поляков не вызовут дальнейших разногласий и подчеркнут позитивную сторону намерений Советского Союза, и это предотвратит возникновение споров по этому вопросу во время избирательной кампании. Прежде чем у Гарримана появился шанс передать послания, напряжение между Лондоном и Москвой уменьшилось и вновь оживились надежды на возможное советско-польское соглашение. Достижение взаимопонимания между британским и советским правительствами по другой тревожащей ситуации в Европе вызвало один из ярчайших поворотов в истории. Об этом важном событии вскоре будет рассказано. (Ниже, в главах 34–36, рассказывается о развитии политической ситуации во всех странах, расположенных к югу и юго-востоку от Германии, о консультациях по этим вопросам внутри коалиции и об англо-советском соглашении о сферах влияния.) Приободренный этим, а также «цивилизованными» посланиями Сталина по другим вопросам, Черчилль снова воспрянул духом. Поэтому 25 мая в беседе с Гарриманом, остановившимся в Лондоне на пути в Москву, он выразил надежду, что, в конце концов, удастся выработать приемлемое соглашение по Польше, хотя пока и не представляет, как это можно сделать. В общем, после этой беседы Гарриман доложил президенту: «…на советском горизонте опять светит солнце». Первая беседа Гарримана с Молотовым о Польше, состоявшаяся 3 июня, после его возвращения из Вашингтона, была отмечена желанием не пренебрегать любой возможностью преодолеть тупик в русско-польских отношениях. Посол дружелюбно объяснил точку зрения президента, одновременно ясно давая понять, что американское правительство по-прежнему поддерживает польское правительство в Лондоне и не хочет иметь ничего общего с другими польскими объединениями, стремящимися обратить на себя его внимание. Больше всего в этой беседе Молотова поразило подтверждение Гарриманом твердой решимости Рузвельта и Хэлла ввести в силу достигнутое в Тегеране соглашение о солидарности в советско-американских отношениях, в котором говорилось, что никакие мелкие препятствия не могут помешать поискам соглашений по всем вопросам. Несколько дней спустя Гарриман доложил президенту, что Молотов сообщил ему об удовлетворенности Сталина позицией президента. Итак, накануне вторжения во Францию и давно откладываемого вступления в Рим дружба союзников подверглась испытанию самым животрепещущим вопросом, вопросом о Польше, а также урегулированием других неожиданно возникающих и тревожных ситуаций на Балканах. Этот опасный момент удалось преодолеть. Напряжение было достаточно реальным, чтобы привести даже к размежеванию, если бы в это время вооруженные силы трех стран не готовились к величайшему наступлению на Германию. Но этой тревожной весной, напротив, всем трем основным союзникам, занятым общей целью, удавалось превосходно сотрудничать. Мы еще расскажем об этом, но сначала вернемся к рассказу о решении сложной политической проблемы. От Тегерана до «Оверлорда», июнь 1944 года; успешное военное сотрудничество в ЕвропеВ течение недель, прошедших после Тегерана, столкновение между стратегическими идеями, сглаженное во время конференции, проявлялось вновь и вновь. Битвы в Италии по-прежнему шли на всем фронте от Кассино до моря. Все высшие командующие в регионе Средиземного моря поддерживали идею высадки десанта в тылу немцев, к югу от Тибра, с целью присоединения к резкому броску перед основными войсками. Спорный вопрос заключался в том, удастся ли найти средства для этой операции, не откладывая и не принеся ущерба остальным запланированным действиям, особенно «Оверлорду». Сначала, после Тегерана, задумывалось выделить для небольшой экспедиции одну дивизию. Однако позже сочли, что десантная операция в столь ограниченном масштабе не может быть благополучно осуществлена без поддержки основных войск. Но для более крупной экспедиции было необходимо привлечь десантные суда, предназначенные для операций «Оверлорд» и «Энвил», и расстаться с планом захвата Родоса и других островов Эгейского моря. Черчилль направил все свои силы на отстаивание идеи крупномасштабной высадки десанта в Италии. 25 декабря он напрямую предложил это президенту, попросив отложить переброску на север некоторых самолетов, используемых в Италии, чтобы 20 января следующего года осуществить высадку двух дивизий в Анцио. «Если не использовать эту возможность, – писал он, – можно ожидать поражения средиземноморской кампании 1944 года». Британские начальники штаба разделяли его мнение, имея в виду операцию с участием двух дивизий и парашютистов, с целью захвата Рима и продвижения к линии Пиза – Римини. Премьер-министр, все еще восстанавливающий силы в теплой Африке, в Рождество собрал в Тунисе всех высших командующих Средиземноморского региона. Были приглашены генерал Эйзенхауэр, которому вскоре предстояло принять командование «Оверлордом», генерал Уилсон, который должен был сменить его на посту верховного командующего союзными силами на средиземноморском театре военных действий, генерал Александер, командующий операциями в Италии, и морские офицеры. Отчеты не дают ясного представления, охотно ли генерал Эйзенхауэр принял предложение. Он предупреждал, что высадка десанта вряд ли заставит немцев отступить из Центральной и Южной Италии, как утверждал Черчилль; что, вероятнее, они сосредоточат еще несколько частей южнее Рима и что поэтому для операции понадобится больше чем две дивизии. 28 декабря президент согласился на использование десантных судов, чтобы обеспечить наступление двух дивизий через Анцио в предложенное Черчиллем время. Но при этом поставил условие, что «Оверлорд» остается первостепенной операцией, и проведена она будет в то время, о котором договорились в Каире и Тегеране. Черчилль, не слишком озабоченный условием президента, почувствовал облегчение. Его уверенность, что от новой итальянской операции не откажутся за неимением средств, выражена в послании, отправленном им 8 января генералу Марку Кларку, которому предстояло командовать операцией в Анцио и который не вполне разделял его уверенность. «Надеюсь, они [офицеры штаба, только что вернувшиеся из Марракеша со встречи с Черчиллем] полностью заверят Вас в том, что наша важнейшая операция [„Шингл“] получит полную поддержку с моря. Может быть, появится возможность добавить соединение, эквивалентное третьей дивизии, что сможет окончательно решить вопрос. Я глубоко уверен в важности этой битвы, без которой кампания в Италии будет считаться бесславно провалившейся». Поскольку основные войска в Италии начали энергичное наступление против немцев, высадка десанта в Анцио началась 21 января. Части, высадившиеся на берег, спасло только появление сил поддержки. Первоначально планировалось использовать в операции в Анцио около 50 000 человек; к концу февраля было задействовано около 170 000 – более шести дивизий. Наступление против немецких линий в Кассино, результатом которого должно было стать быстрое соединение с войсками, высадившимися в Анцио, было приостановлено. Кампания по продвижению в Рим, которая, как считали оптимисты, будет быстро выиграна, затянулась до весны. К участию в ней привлекались все большие и большие союзные силы. Немцы несли огромные потери и для продолжения борьбы были вынуждены перебрасывать дивизии из Франции, Германии и Югославии. Это могло считаться оправданием и утешением, и Черчилль со своими военными советниками именно так и считал. Американцы же были удручены. В Турции союзники также получили резкий отпор. Президент Инону принял приглашение Черчилля и Рузвельта, посланное из Тегерана, встретиться с ними в Каире. Вышинский присутствовал на этой встрече в качестве военного консультанта. В течение трех дней (4–6 декабря) Черчилль применял к Инону все доступные методы убеждения. Военные пытались убедить его, что, следуя тайной стратегии постепенной договоренности, Турция обезопасит себя от риска понести большой ущерб. Но Инону оставался непоколебимым. Его правительство, утверждал он, не против вступления в войну, но еще не готово это сделать. Если и когда будут приняты их основные требования по защите, продолжал он, «мы будем с вами». Но он отказался брать на себя какие-либо обязательства и пообещал лишь посоветоваться со своими коллегами в Анкаре. Через несколько недель ответ был получен. Он в принципе повторял согласие о вступлении в войну с тем условием, что союзники сначала восполнят Турции нехватку вооружения, авиации и транспорта. Турки признавали острый дефицит этих средств. Ни продолжение беседы в феврале, ни упреки британцев и американцев не заставили турок преодолеть эти страхи. Все идеи и планы относительно военной кампании союзников провалились. Черчилль и его сотрудники горевали по поводу утраты блестящего, как они полагали, шанса разгромить немцев на юго-востоке. Американское правительство тоже сожалело, но Объединенный комитет начальников штабов почувствовал некоторое облегчение, узнав, что не потребуется отвлекать военные ресурсы на завышенные требования турок. Советское правительство проявило недовольство и объявило себя свободным от принятого в Москве обязательства сотрудничать с Турцией, только координируя свои действия с союзниками. В течение тех же первых месяцев 1944 года Эйзенхауэр и его командующие подробно выверили планы «Оверлорда» и пришли к заключению, что первая высадка десанта во Франции должна производиться более крупными силами и на более обширной территории, чем намечалось ранее. 23 января Эйзенхауэр официально предложил увеличить число дивизий, участвующих в первоначальном наступлении, с трех до пяти; и кроме воздушного десанта в районе Кана он требовал высадки первой воздушно-десантной дивизии на берегах Котантена и присоединения к ней в течение двадцати четырех часов второй воздушно-десантной дивизии. Эти изменения были внесены в окончательный план. 8-я и 10-я воздушно-десантные дивизии Соединенных Штатов в означенный день D высадились на Котантенском полуострове. Чтобы осуществить это и быть уверенными в наличии необходимых дополнительных десантных судов, поддержки авиацией и огнем с моря, было решено отложить дату начала операции «Оверлорд». Сначала договорились отложить ее (американцы с самого начала предпочитали начало мая) на конец месяца, а потом и на начало июня. Отсрочка дала еще один месяц на производство десантных судов, на подготовку средств для высадки и ведения боев. Кроме того, она давала союзным бомбардировочным частям больше возможностей для разгрома береговых укреплений немцев и лучшие условия помешать переброске немецких резервных частей. И самое главное, она сокращала интервал между высадкой в Нормандии и новым крупным наступлением, которое русские собирались начать на Восточном фронте. То же самое соревнование за боевые средства явилось причиной оживления спора: стоит ли предпринимать операцию по высадке десанта на юге Франции под кодовым названием «Энвил» одновременно с «Оверлордом», после нее или вообще не предпринимать. Британские начальники штабов во главе с Черчиллем, видя результаты боев в Италии, вновь засомневались. 4 февраля Черчилль снова подверг план критике, утверждая, что «Энвил» не переплетется с «Оверлордом» из-за того, что между территориями «Оверлорда» и «Энвила» лежит пересеченная местность, которую придется преодолевать войскам, высадившимся на юге, встречая мощное сопротивление противника. Британские начальники штабов предлагали отменить план высадки на юге Франции, а предназначенные для этого войска направить на другие операции на Средиземном море. Объединенный комитет начальников штабов хотел отложить или даже отменить «Энвил», если Эйзенхауэр сочтет необходимым усилить «Оверлорд». Но они энергичнее, чем когда-либо, сопротивлялись новым операциям в Италии или дальше к востоку, на Средиземном море. 21 марта генерал Уилсон запросил новую директиву. Приказания, данные ему, были решающими для следующего наступления в Италии, которое вскоре предполагалось возобновить – пересечь линию Кассино на пути в Рим и пройти за него. Несмотря на случившееся, Черчилль продолжал с тем же упорством настаивать, что было бы позорно и ошибочно не предоставить войскам, достаточным для средиземноморской кампании, выполнить свой долг. В течение тех же недель марта его раздражали энергичные попытки американцев преобразовать правительство Бадольо. Его также тревожило сопротивление американцев его желанию признать Французский комитет национального освобождения. Да еще эта неприятная ссора со Сталиным из-за польских границ, в которой Рузвельт почти не принимал участия. По какой-то из этих причин или вследствие всех вместе Черчилль искал еще одной встречи с Рузвельтом, одновременно назначив на начало апреля на Бермудах заседание Объединенного комитета. Но президент чувствовал себя усталым и не хотел встречаться с Черчиллем, боясь поддаться его упорному нажиму, особенно по стратегическим вопросам. Поэтому 8 апреля он отправился на отдых в Южную Каролину. Адмирал Лихи, сопровождавший его, вспоминает, как, проезжая мимо дорожных указателей, президент пошутил, что на шоссе следует поставить еще один мемориальный знак в память о том, что в 1944 году Рузвельт проезжал по этой дороге, спасаясь от британцев. Черчилль, раздосадованный срывом встречи с президентом, издалека бранил своих американских друзей за их непоколебимую веру в полезность «Энвила» и настойчивое требование переброски дивизий из Италии для этой операции. 16 апреля он говорил Маршаллу: «Для меня невыносимо заранее согласиться лишить поддержки наступление [цель которого дойти до Рима] или неожиданно прервать его именно в тот момент, когда успех, после долгих усилий и тяжелых потерь, уже, похоже, не за горами… Отдайте мне должное и вспомните, что ситуация коренным образом изменилась [со времени Тегерана]. В ноябре мы надеялись взять Рим в январе, и многое говорило о том, что враг готов отойти на север Итальянского полуострова. Вместо этого, несмотря на нашу крупную десантную экспедицию, мы топчемся на месте, а враг бросил в бои южнее Рима восемь моторизованных дивизий, которые, мы надеялись, будут задействованы в „Энвиле“ по всему фронту». Таким образом, была причина как для радости, как и для горького разочарования. Объединенный комитет начальников штабов под натиском этих аргументов заколебался. Все необходимое для начала полномасштабного вторжения через Ла-Манш в новый срок (двумя-тремя днями раньше или позже 1 июня) было обеспечено. Поэтому он уступил настойчивости британцев и согласился, что вооруженные силы в Италии нельзя сокращать или лишать десантных судов и других средств для продолжения наступления в этом регионе. И он согласился отсрочить «Энвил» без каких-либо гарантий, что операция будет проведена позже. Временная директива генералу Уилсону была весьма неопределенной. 19 апреля Объединенный комитет приказал ему: а) как можно скорее начать широкомасштабное наступление в Италии; б) создать эффективную угрозу для сдерживания немецких войск на юге Франции; в) спланировать «наилучшее использование оставшегося у Вас десантного флота, или для поддержки операций в Италии, или для использования возможностей, возникших на юге Франции или где-либо еще, для поддержки энергичного наступления…». Согласно этой директиве Александер получил право 11 мая достаточными силами начать широкое наступление. В кампании приняло участие всего около двадцати восьми союзнических дивизий (из Великобритании, Новой Зеландии, Канады, Южной Африки, Индии, Соединенных Штатов, Франции и Польши), не считая многочисленных морских и воздушных сил. Поскольку к концу мая победа уже была близка, Черчилль обратился к Александеру со следующим поздравительным посланием: «Как прекрасно, что мы смело противостояли нашим друзьям из американского Объединенного комитета начальников штабов и позволили Вам полностью использовать эту битву в своих интересах!» В конце концов 4 июня Рим был взят. Для немцев, марширующих под свастикой, это были тяжелые неделя и месяц. За два дня до взятия Рима значительные силы американских бомбардировщиков совершили челночный перелет из Италии на новые базы, расположенные на советской территории, в Полтаве; отныне любой немецкий участок фронта мог подвергнуться бомбардировке с воздуха. Два дня спустя ранним утром началась высадка крупного союзного десанта на берега Нормандии. На востоке огромные силы Красной армии заканчивали приготовления к артиллерийской атаке по всей линии фронта. Коалиция не могла допустить, чтобы хоть какая-нибудь часть немецкой территории не подверглась удару, и не давала врагу передышки. Военное сотрудничество между ее членами в этот военный сезон достигло высшей степени энтузиазма и самопожертвования. Прервем на некоторое время наше повествование, чтобы рассказать о соглашении по челночным бомбардировочным базам в Полтаве, о которых мы уже вскользь упомянули. Соглашение было достигнуто только после наших многочисленных просьб. Рузвельт в Тегеране представил этот проект Сталину, оставив ему меморандум Объединенного комитета начальников штабов. Многие недели американское посольство в Москве с нетерпением ждало решения, пока Молотов наконец ответил Гарриману, что у советского правительства нет принципиальных возражений против предоставления желаемых баз и что командованию советскими воздушными силами предписано начать переговоры об их организации и использовании. Но это обещание оказалось лишь предисловием к долгому ожиданию. Посол сделал вывод, что советские официальные лица рангом ниже еще не прониклись духом Тегерана. После того как дальнейшие терпеливые усилия (восемь раутов переговоров с Молотовым по этому вопросу со времени Тегерана) оказались безрезультатными, посол стал просить о встрече со Сталиным. 2 февраля он получил положительный ответ. Маршал согласился для начала предоставить на советских аэродромах оборудование для 150–200 американских тяжелых бомбардировщиков, которые предполагалось использовать для челночных операций, а также для полетов с целью фоторазведки из Италии и Англии. Наконец дело продвинулись вперед. Советские военные организации работали вместе с американцами, чтобы подготовить базы в Полтаве. Решение о мишенях для первой экспедиции было совместным. Эскадрильи русских истребителей обеспечивали бомбардировщикам защиту, а русские бомбардировщики атаковали немецкие аэродромы, чтобы ослабить оборону немцев. Командир американской эскадрильи летел на первом самолете, который в русской прессе описан как «серебряный самолет» с надписью «Янки Дудл» на фюзеляже. Как только американец приземлился, к нему подошел командующий советскими воздушными силами и преподнес ему букет цветов. Гарриман едва избежал «объятия победы». Несколько дней спустя генерал Икер (главнокомандующий союзных воздушных сил на Средиземном море) приказом Рузвельта вручил медаль Почетного легиона русскому генералу, командующему базой, который, если уж на то пошло, был взволнован сильнее, чем американцы. Насколько высок был энтузиазм среди офицеров американских воздушных сил, стало ясно 5 июня, когда генерал Икер встретился с Молотовым. Американский генерал сказал, что хочет предложить Красной армии всю имеющуюся у нас оперативную информацию о немецких воздушных силах и их тактике, а также о боевом опыте воздушных сил США в Италии и Англии. Далее он предложил взять с собой представителя советских воздушных сил, чтобы тот смог увидеть техническое оснащение воздушных сил США и их работу. Молотов ответил, что он уверен, что советские власти воспользуются этим великодушным предложением. Но когда во время следующей беседы со Сталиным Гарриман поблагодарил его за предоставленные базы, Сталин спокойно заметил: «Это самое меньшее, чем мы можем вам помочь». Гарриман доложил, что советские официальные лица подчеркивали в беседе с ним не только тактическую важность операции, но и ее огромное влияние на умы людей, как в Советском Союзе, так и в среде врага: ведь она опровергала пропаганду Гитлера – Геббельса о том, что среди союзников могут возникнуть разногласия. Сцены братства по оружию после первого успешного полета из Полтавы были такими же радостными, как и те, что разыгрывались в Советском Союзе при вести о взятии Рима 4 июня и высадке в Нормандии утром 6 июня. Американцы, британцы и канадцы поднимались по вздымающимся дюнам, а за их движениями восхищенно наблюдали даже из Москвы! «Второй фронт» – особый передний край во Франции, которого советские власти так долго ждали, существовал! Эта широкомасштабная операция была тщательно спланирована в Тегеране. Сталин в то время думал, что командовать ею будет генерал Маршалл. Но когда ему сообщили, что командование поручено Эйзенхауэру, он принял это совершенно спокойно и сказал Гарриману: «Я удовлетворен. Он очень решительный человек и обладает огромным опытом в проведении десантных операций». В директиве, данной Эйзенхауэру Объединенным комитетом, его задача характеризовалась ясно и кратко: «Вступить на Европейский континент и во взаимодействии с другими силами Объединенных Наций пройти в самое сердце Германии и разгромить ее вооруженные силы. Вступление на континент назначено на май 1944 года. Когда будет взято достаточное количество портов, дальнейшие усилия направить на захват территории, которая облегчит как наземные, так и воздушные операции против врага». Рузвельт и Черчилль периодически подробно информировали Сталина, как продвигается разработка планов и подготовка операций «Оверлорд» и «Энвил», а также битва в Италии. Сталин отвечал словами благодарности и короткими отчетами о том, что происходит на советском фронте. Он не стал заранее предупреждать о готовящемся наступлении советских войск, которое по времени должно было совпасть с «Оверлордом». Его не просили об этом, а Эйзенхауэр не счел приличным задавать такой вопрос. Черчилль и президент были с ним согласны. Причиной умолчания, на которую намекали советские официальные лица, явилось неумение американским правительством хранить секретные сведения, получаемые из других источников. 18 апреля Сталин с удовлетворением узнал из доклада Рузвельта и Черчилля, что форсирование Ла-Манша будет осуществлено в запланированное время (в начале июня) и в полную силу. Он сообщил, что Красная армия в то же время начнет новое наступление, чтобы максимально поддержать англо-американские операции. Поскольку день вторжения приближался, Черчилль забыл свои тревоги и с энтузиазмом благословил перспективу атаки. Только августейший приказ и серьезные протесты министерства обороны и старших военачальников удержали его от непосредственного участия в первой волне наступления. Но, как только передовые отряды захватили небольшую территорию, его больше ничто не сдерживало, и он помчался туда. Первые срочные бюллетени об успешной высадке союзников во Франции Сталин воспринял с присущей ему официальной сдержанностью: «Мы приветствуем вас и отважных британских и американских воинов и от всей души желаем вам дальнейших успехов». Но 10 июня, встретившись с Гарриманом, только что вернувшимся из Соединенных Штатов, он выразил искреннюю радость. Когда ему показали карту с отмеченными местами высадки союзных войск и территорией, занимаемой ими в настоящее время, он произнес: «История войны никогда не знала столь грандиозной операции. Даже Наполеон не сделал ничего подобного. Гитлер намечал подобную операцию, и с его стороны было глупостью не осуществить ее!» Это краткая версия его высказываний, приведенная по американской стенограмме беседы. В послании Черчиллю, отправленном им на следующий день, 11 июня, говорится то же самое. Вот это послание: «Совершенно очевидно, что высадка, замышлявшаяся с грандиозным размахом, полностью удалась. Моим коллегам и мне ничего не остается, как только признать, что военная история не знала операции, равной этой по размаху, широте замысла и мастерству исполнения. Хорошо известно, что план Наполеона по пересечению Ла-Манша в свое время бесславно провалился. Истеричный Гитлер, в течение двух лет хваставшийся, что преодолеет Ла-Манш, не смог даже намекнуть на реальность выполнения своей угрозы. Только нашим союзникам удалось с честью осуществить грандиозный план пересечения Ла-Манша. Это событие останется в истории как высочайшее достижение». При этой же беседе Сталин объяснил, что конкурирующее наступление советских войск немного откладывается, так как на освобождение Крыма и передислокацию войск потребовалось больше времени, чем предполагалось. Однако в тот же день он приказал советским войскам, начавшим наступление против финнов севернее Ленинграда, в течение пятнадцати дней передислоцироваться на другой участок фронта и начать к июлю широкомасштабное наступление по всему фронту. Советские войска действовали в соответствии с этим измененным планом. Сталин не упускал случая, чтобы не обратить внимания на это обстоятельство. Но его постоянно мучили подозрения, которые проявились в замечании, которое он сделал 26 июня во время очередной встречи с Гарриманом. Речь шла о проведении согласованных наступлений, о которых договорились в Тегеране. Сталин сказал, дескать, «кое-кто сомневается в правильности его действий». Гарриман ответил, что ничего подобного он не слышал, более того, высшие лица Америки, которых он назвал, совершенно уверены: наступление советских войск начнется в оговоренные сроки, и потому не спрашивали о его масштабах и направлении удара. Но убедить Маршала было нелегко. Он снова повторил, что, по его мнению, «в некоторых кругах еще сомневаются». Впечатление Сталина, будто американцы и британцы сомневаются в надежности его обещаний, было ошибочным. Но президент и генерал Маршалл, а вероятно, и остальные побаивались: точно ли выполняют союзники планы, одобренные в Тегеране? Ведь если они высадятся на юге Франции, когда сумеют, русские тоже могут отступить от соглашения и изменить свои планы. Черчилль признавал, что этот фактор может помешать британцам в проведении диверсионных операций. Однако в дипломатических кругах подозревали, что перенос начала наступления советских войск на более поздний срок вызван политическими причинами. Различные члены правительств в изгнании государств Центральной и Восточной Европы были в этом убеждены. Вопрос сложный, и решение его надо предоставить специалистам, разбирающимся в нем более подробно и профессионально. При тщательном изучении, например, становятся ясны причины прекращения наступления Красной армии в Румынии в начале лета; длительной остановки перед Варшавой, когда польское подполье в этом городе уже было разгромлено (в высшей степени трагическая история, о которой еще будет здесь рассказано); похода войск на Венгрию. Но это отступление. Повторяю, американские и британские ответственные лица нисколько не сомневались в том, что советское правительство сделает свое дело на востоке, а они свое во Франции. Наступление советских войск радовало и ободряло их, так как приближало долгожданный конец. Об их отношении красноречиво говорит комплимент, который сделал Эйзенхауэр в записке Гарриману от 7 июля по поводу первого успеха нового крупного наступления советских войск: «Я отмечал продвижение Красной армии на карте. Естественно, меня потрясло, с какой скоростью войска преодолевают военную мощь противника. Хотелось бы должным образом выразить маршалу Сталину и его военачальникам мое глубокое восхищение и уважение». Подводя итоги, скажем, что в этот период совместных крупных наступлений разногласия среди союзников по другим вопросам – границам, контролю над правительствами и судьбе королей – не уменьшили темпа и не изменили курса военного сотрудничества. Но осуществлять это с помощью постоянных консультаций было нелегко. Гарриман после бесед с президентом, Объединенным советом начальников штабов и Эйзенхауэром 26 июня переговорил со Сталиным о возможном дерзком шаге к более полной координации военных планов и действий. Теперь, когда американские и британские войска вступили на континент, а русские войска приближаются к ним, разве нет необходимости, спрашивал он, установить более тесную связь? Не полезно ли для каждой стороны знать планы и будущую стратегию другой? Сталин согласился, сказав, что для этой связи следует создать консультативную группу. Его, похоже, беспокоила лишь возможность возрастания утечки секретной информации. Опасность, что это может произойти, он обосновывал тем, что американские и британские газетчики пишут статьи ради личной выгоды. Доказывая оправданность своей тревоги, он сослался на появление в прессе его послания к Черчиллю, в котором речь шла о предложениях Европейской консультативной комиссии относительно отношения к немецкой армии. Посол заметил, что подобные утечки касаются только политических вопросов. Что же касается военных вопросов, он утверждал: американский и британский штабы обеспечивают сохранность секретных сведений. Его доказательства оспаривать было трудно: удивление немцев, когда мы внезапно появились в Северной Африке; их неведение, где мы собираемся высадиться во Франции; и то, что мы много раз во время наших боевых действий на Тихом океане заставали японцев врасплох. Ответ Сталина дал возможность Гарриману доложить президенту, что, по его мнению, Сталин готов установить прямую связь между штабом Красной армии и генералом Эйзенхауэром. Но, добавил он, поскольку Сталин сомневается, сумеем ли мы сохранить секреты, соглашение придется разрабатывать с большой осторожностью. Он рекомендовал использовать в качестве связующего звена генерала Дина, главу американской военной миссии в Москве. А советские власти постоянно остерегались подвоха или обмана со стороны западных союзников и, как и прежде, полагали, что лучший путь к истине лежит через подозрение. В июле, когда солдаты «Оверлорда» закреплялись в Нормандии, а Красная армия стремительно продвигалась по Белоруссии, советская пресса критиковала низкие темпы наступления во Франции, не принимая во внимание, что на западе немцы могут оказывать не меньшее сопротивление, чем на востоке. Позже, в августе, когда западные войска снялись со своих позиций в Нормандии, высадились на юге Франции и начали стремительно продвигаться на восток и на север, а Красная армия была остановлена перед Варшавой, советские комментарии изменились. Успех западных войск приписывался в основном тому, что немцы были вынуждены сконцентрировать на востоке крупные силы и у них не осталось резервов, чтобы противостоять наступлению на западе. Советские лидеры не собирались позволять своему народу благодарно восхищаться военными действиями союзников. Фактически, как будет замечено позже, консультации с советскими войсками по поводу планов будущих операций оставались фрагментарными. Объединенный комитет был вынужден принимать решения о своих передвижениях в Европе без согласования с русскими; а те делали то же самое. Еще не подошло время определения точных линий соединения армий. Единственная оживленная дискуссия о стратегии, обеспечившей успех летней кампании, состоялась между двумя союзниками на Западе. После взятия Рима Черчилль поднял старый вопрос применительно к новым обстоятельствам: «Следует ли нам осуществлять операцию „Энвил“ или выработать новый план?» Он и его советники отстаивали новый, а на самом деле старый план: продолжать широкомасштабное наступление в Италии, пересечь Адриатику и постараться дойти до Вены. Американцы не горели желанием одобрять эти намерения. Но дальнейший рассказ о военных дискуссиях и действиях будет более понятен после обзора политических ситуаций во многих странах, кроме Польши, которые в этот период доставляли хлопоты членам коалиции. Прежде всего расскажем о ситуации во Франции. Неразрешимые вопросы, касающиеся ФранцииПодготавливая и проводя операцию «Оверлорд», союзники столкнулись со многими взаимосвязанными вопросами, касающимися отношений с французскими вооруженными силами, французскими политическими группами и французской нацией. Какую роль в операции освобождения будут играть французские войска и кто будет ими командовать? Следует ли посоветоваться по поводу военных планов с де Голлем, как председателем Французского национального комитета и Консультативной ассамблеи в Алжире, или даже информировать его о них? Как армиям, высадившимся во Франции, устанавливать отношения с местным населением? Рассказ о том, что было сделано в этой области, станет яснее после краткого перечисления некоторых основных событий, происшедших во Французском национальном комитете и во Франции с тех пор, как мы в последний раз о них упоминали, то есть с конца июня 1943 года. Правительства трех основных союзников оказались не в состоянии выработать общее отношение к Французскому комитету. Рузвельт по-прежнему отказывался признавать любые публичные заявления, в которых комитет говорил и действовал от имени всего французского народа. Он боялся, что все усиливающееся влияние де Голля может сказаться на наших военных и политических планах. Он твердо решил, по его собственному выражению, «не дать де Голлю въехать во Францию на белом коне» и стать главой правительства. Но государственный секретарь Хэлл в данном вопросе был более осторожен. Черчилль и Идеи, хотя у них часто возникали разногласия с де Голлем, охотно смирились бы с некоторыми неудобствами ради того, чтобы поднять национальный и боевой дух французов. Но премьер-министра сдерживала мысль, которую он выразил в записке своим коллегам от 13 июля: «Даже если Советская Россия признает де Голля из-за его прежнего заигрывания с коммунистами, мы все же должны оставаться разумными и сверять свой курс с курсом Соединенных Штатов. На самом деле в данном случае было бы важнее не оставлять их в изоляции, что дало бы возможность вместе с Россией работать против них…» Однако он по-прежнему пытался примирить комитет с американским правительством. Но пока безрезультатно. На Квебекской конференции 20 августа Хэлл и Идеи поймали себя на том, что постоянно слишком резко выступают по спорному вопросу – включать ли термин «признание» в формулу, определяющую их отношения с Французским комитетом. Идеи потом говорил, что, поскольку дальнейшая отсрочка может принести вред, может быть, каждому из двоих стоит сделать собственное заявление. Хэлл, если верить его более позднему отчету, ответил, что он очень сожалеет о разногласиях, но «…если британцы смогут их выдержать, то и мы – тоже». Каждый написал отдельное заявление, ознакомил с ним другого, и 26 августа документы были опубликованы. Заметим, что по мере того, как развивались события, четкие различия между двумя заявлениями переставали казаться такими уж важными. Напомним, что заявление Советского Союза, отложенное во времени, чтобы оно вышло одновременно с остальными двумя, было более определенным. В нем содержалось решение «…признать Французский комитет национального освобождения представителем государственных интересов Французской Республики и лидером всех французских патриотов, борющихся против гитлеровской тирании, и обменяться с ним полномочными представителями». В это время (август 1943 года) де Голль и Сталин все чаще использовали друг друга для того, чтобы получить больший вес в управлении делами Франции и Италии. Поступая подобным образом, Москва могла надеяться, что французские коммунисты приобретут влияние как во Французском комитете, так и в оккупированной Франции. Де Голль соглашался сотрудничать с французскими коммунистами как в военных операциях, так и в поддержании порядка во Франции после войны. Хотя де Голль всячески добивался признания Советским Союзом, 26 августа, когда Мэрфи и Макмиллан явились к нему с копиями заявлений своих правительств, он поведал им, что не отрицает большой вклад коммунистов в дело освобождения Франции, но к их послевоенным амбициям относится очень сдержанно и, конечно, не позволит им взять власть во Франции. С вопросом признания было связано включение комитета, как представителя Франции, в число Объединенных Наций. Хэлл стремился уговорить комитет присоединиться к принципам декларации. Британское и советское правительства его поддерживали. Но де Голля не удовлетворял уровень членства; он хотел быть принятым в качестве полноправного и постоянного члена. Американское правительство было против. Вопрос остался отложенным до конца войны, а пока комитет был признан Временным правительством Франции. Несмотря на свой неопределенный статус, комитет получил членство в Консультативной комиссии по Италии. С де Голлем не посоветовались ни по условиям перемирия в Италии, ни по решению о принятии военного сотрудничества Италии. Он воспринял это не только как оскорбление, но и как несправедливое пренебрежение прямыми интересами Франции в делах Италии. Президент не желал позволять де Голлю участвовать в военной оккупации Италии; он предполагал, что итальянцев возмутит присутствие французов. Но во время московской конференции в октябре, когда стало ясно: этот новый комитет должен быть консультативным по своему характеру, Французский комитет пригласили вступить в качестве самостоятельного члена. Более глобальный вопрос: следует ли комитету предоставить членство в Европейской консультативной комиссии? – остался нерешенным. Этой осенью французская политическая жизнь в Северной Африке, по словам Черчилля, «выкристаллизовывалась в будущее зачаточное правительство», а влияние де Голля все возрастало. В сентябре Жиро, не поставив в известность де Голля, взаимодействуя с американцами, провел операцию, в результате которой немцы были изгнаны с Корсики. Это рассердило де Голля и его коллег. В начале октября комитет был реорганизован и его возглавил председатель. обладающий правом вето на все действия. По всей вероятности, эта роль предназначалась де Голлю. Жиро, по-прежнему оставаясь главнокомандующим французских вооруженных сил, должен был начать руководить комитетом, но 8 ноября он подал в отставку, оставшись только на посту главнокомандующего. Надо заметить, что в это время президент потерял веру в его способность противодействовать де Голлю, а Эйзенхауэр – в его способность сплотить французские вооруженные силы. В тот момент Черчилля и Рузвельта снова отвлекла акция, предпринятая Французским комитетом в Ливане. Там по приказу де Голля было подавлено одобренное союзниками национальное движение за независимость. Из них двоих больше возбужден был Черчилль. Он был готов лишить комитет всяческого покровительства и во взаимодействии с Соединенными Штатами приостановить вооружение французских войск в Северной Африке, если де Голль не вернет власть местному правительству. Отступив перед этой угрозой, комитет начал переговоры о полной независимости с ливанскими и сирийскими лидерами. В ходе личной беседы между Рузвельтом и Сталиным в Тегеране, состоявшейся 28 ноября, ко времени которой ливанский кризис миновал, стало очевидно отношение всех троих к Франции. Сталин, который до сих пор поддерживал комитет, проникся отношением Рузвельта к де Голлю, но со свойственной ему безжалостностью. Он сказал, что у него сложилось впечатление о нереальности политической деятельности де Голля, потому что он действует так, словно является главой великого государства, тогда как на самом деле Франция сравнительно маленькая страна. Более того, де Голль не представляет французский народ, настоящую Францию, которой, по мнению Сталина, по-прежнему управляет продажная верхушка, которая при власти Петэна помогала Германии и желала ее победы. Поэтому Францию, настоящую Францию следует наказать за ее вредную деятельность и не позволить ей пользоваться благами мира. Непонятно, была ли враждебность Сталина связана с отношением де Голля к французским коммунистам. Двадцать семь бывших депутатов-коммунистов, освобожденных из тюрьмы, с пылом включились в политическую деятельность в Северной Африке: они вели агитацию среди чернорабочих и крестьян, а также призывали мусульман бороться за равные права с французами. Де Голль предложил коммунистам два портфеля в кабинете министров при условии, что он сам отберет кандидатуры и что они откажутся от собственных политических амбиций в пользу общей и единой политики комитета. Предложение получило отказ. А в это время все коммунистические элементы в Северной Африке развернули кампанию против де Голля, обвиняя его в карьеризме и пренебрежении военными действиями. Рузвельт мимоходом попытался смягчить приговор Сталина. Он обратил внимание Сталина на набирающую силу французскую военную программу в Северной Африке и на истинную роль, отведенную французским частям в этом регионе. Но он также выразил несогласие с точкой зрения Черчилля, считавшего, что Франция может быть быстро восстановлена, как великая нация; по его, Рузвельта, мнению, для того, чтобы Франция снова стала великой. понадобятся многие годы честной работы всех французов. Красной нитью в беседе глав государств в Тегеране проходили сомнения относительно права и готовности Франции вновь получить контроль над различными частями своей бывшей империи. особенно Индокитаем: положить ли конец французскому господству или заменить его опекой? Сталин настаивал на том, что Франция не заслуживает возврата Индокитая, а Рузвельт, похоже, соглашался с ним. Сталин подчеркнул свою точку зрения, что Франции нельзя доверять какую-либо стратегически важную территорию вне ее границ. Рузвельт выступал в пользу возможности отдать Новую Каледонию и Дакар под опеку Объединенных Наций. Но окончательное решение так и не было принято. Военные меры, одобренные главами государств в Тегеране, сделали их сдержанное отношение к Французскому комитету национального освобождения неэффективным во многих отношениях, а идеи о будущем обхождении с Францией и Французской империей маловероятными. Они определились с операциями «Оверлорд» и «Энвил», условия которых неизбежно должны были дать комитету долгожданный шанс стать временным правительством Франции, а также позволить французской нации вновь занять свое место в Европе и вернуть контроль над распавшейся империей. Но это, похоже, не было оценено. Во всяком случае, Рузвельт противился стремлению комитета стать признанным временным правительством Франции. Он хотел быть уверенным, что французский народ после освобождения страны сам выберет свое правительство. Поэтому он решил, что французские войска, участвующие во вторжении, должны подчиняться приказам Эйзенхауэра. Охотно доверяя французам управление гражданскими делами в их стране, он все-таки хотел, чтобы оно осуществлялось через верховного командующего и французские военные власти, предотвращая тем самым главенствование комитета. Именно эти идеи учитывались при попытках создать политическую директиву Эйзенхауэру в отношении гражданской администрации. После короткой дискуссии в Москве эту задачу возложили на Европейскую консультативную комиссию. Но британцы вскоре отступились от идеи оставить комитет в стороне. И Эйзенхауэр тоже. В Вашингтоне в январе 1944 года он изо всех сил пытался убедить президента и Объединенный комитет начальников штабов, что подробное рабочее соглашение с комитетом будет полезно, если не жизненно важно для урегулирования некоторых ситуаций, с которыми он столкнется во время вторжения. Но Рузвельт был непреклонен. Он еще считал, что многие французы не подчинятся власти комитета и любая попытка навязать ее вполне может привести к гражданской войне. Его вера в опасность такого поворота событий проявилась в длительном нежелании принять южную зону оккупации в Германии, поскольку при таком распределении наши войска будут зависеть от использования французских портов и коммуникаций, проходящих через Францию. 8 марте Эйзенхауэр потребовал инструкций. Поэтому Рузвельт с одобрения Черчилля выпустил директиву, дающую генералу возможность предложить французам рабочее соглашение. Оно давало верховному командующему решающую власть во Франции и право «окончательного решения, где, когда и как… французские граждане будут осуществлять гражданскую власть». Ему было позволено советоваться с Французским комитетом национального освобождения по вопросам назначения на административные должности. Но у Эйзенхауэра хватило осторожности не признать комитет или любую другую французскую организацию временным правительством Франции. 9 апреля в речи Хэлла, одобренной президентом, неожиданно прозвучало заявление, свидетельствующее о крутом повороте в политике американского правительства: «Поэтому президент и я, с самого начала ясно сознавая необходимость французской гражданской администрации и демократической французской администрации во Франции, согласны предоставить Французскому комитету национального освобождения руководящую роль в установлении закона и порядка под наблюдением союзных командующих». Черчилль приободрился. Британцы, не желавшие предоставлять Эйзенхауэру свободу в урегулировании важных, по их мнению, политических вопросов, пытались внести поправки в директиву Эйзенхауэра. Они боялись, что из соображений военной необходимости – как докладывал Стеттиниус, находившийся в то время в Лондоне, – он может затеять еще одно «дело Дарлана». Но Рузвельт по-прежнему не хотел ограничивать Эйзенхауэра в сотрудничестве с любой французской демократической группой, которую он сочтет квалифицированной и полезной. А Молотов после долгого молчания заявил, что советское правительство считает действия Эйзенхауэра отвечающими военным требованиям. Американское и британское правительства просто не могли выйти из тупика. Итак, в конце апреля Эйзенхауэр в отчаянии позволил генералам своего штаба Грассетту и Моргану начать неофициальные переговоры с генералом Кенигом, представлявшим Французский комитет, для выработки соглашений по военным вопросам. Но эти переговоры сорвались из-за обиды на то, что Франции было отказано участвовать во вторжении. Комитет не стал рассматривать вопросы поставок и меры, которые Эйзенхауэр считал существенными; и он не хотел учитывать обстоятельства, с которыми предстояло столкнуться союзникам, идущим с боями от берегов Нормандии через всю Францию. Поэтому случилось так, что ко времени высадки не было ни официального соглашения с комитетом, ни определенной программы ведения гражданских дел во Франции. Военному штабу Эйзенхауэра приходилось каждый день на каждом новом месте определяться и делать то, что он считал уместным. Забегая вперед, скажем, что это получалось неплохо; одновременно американцы узнали, что почти все французы, поднявшись над своими разногласиями и предрассудками, поддерживают де Голля. Союзники работали в тесном военном сотрудничестве с французскими войсками в Северной Африке и Италии под командованием генерала Леклерка, которые должны были принять участие в планируемой высадке на юге Франции. Но ни характера, ни деталей, ни даты операции «Оверлорд» союзники де Голлю не сообщили. Главной причиной этого была настоятельная необходимость соблюсти секретность. Опыт показал, что любые сведения, и политические, и военные, попадая в окружение де Голля, становились достоянием гласности. Рузвельт, Черчилль и Объединенный комитет договорились пригласить де Голля в Лондон за день до начала высадки войск. Здесь предполагалось ознакомить его с планом наступления и убедить обратиться к французскому народу с рекомендацией встретить союзные войска как освободителей. До последнего момента было неизвестно, приедет он или нет. Черчилль докладывал об этом Рузвельту как раз перед тем, как самолет де Голля появился над берегами Британии: «Комитет де Голля подавляющим большинством решил, что он должен принять мое приглашение и приехать сюда. Он увиливал от ответа, но Массильи и кое-кто еще пригрозили подать в отставку, если он этого не сделает. Мы ожидаем его за день до вторжения. Если он приедет, Эйзенхауэр на полчаса встретится с ним и объяснит ему военное положение. Я вернусь в Лондон в ночь перед вторжением [назначенным тогда на утро 5 июня]. Я не думаю, что на де Голля можно сильно повлиять, но все же надеюсь, что слово „руководство“, которое, как я вам говорил, одобрено в речи Хэлла [произнесенной 9 апреля], сослужит свою службу». Позже Черчилль так часто и много рассказывал о трудных отношениях с де Голлем, что это легко себе представить. Черчилль объяснил де Голлю, что его попросили приехать потому, что история обеих стран требует, чтобы британцы и американцы осуществили освобождение Франции только после предупреждения французов о своих намерениях. Де Голль рассвирепел. Он отказался принять участие во вторжении, если ему не предоставят права сообщаться с Алжиром под его собственным шифром, на что Черчилль согласился с условием, что де Голль не будет передавать никакой информации об «Оверлорде». До второй половины дня 6 июня де Голль отказывался вещать на Францию из-за непризнания временного правительства и запретил французским офицерам связи вместе с командованием «Оверлорда» участвовать в высадке во Францию. Но после того как Черчилль рассказал ему о своих планах, подчеркнув весь их размах, он воодушевился и согласился, как только начнется операция, передать французскому народу специальное краткое заявление, ни словом не упомянув об американцах; а также позволить некоторым офицерам связи участвовать в операции. После их беседы Черчилль убедил де Голля встретиться с Эйзенхауэром, который более подробно рассказал ему о планах «Оверлорда». Когда войска начали переправляться через Ла-Манш, де Голль выступил по радио с обращением к гражданам Франции, внушившим его соотечественникам энтузиазм и веру в скорое спасение, и призвал их сделать все возможное для приближения долгожданного триумфа: «Франция, захваченная в течение четырех лет, но не побежденная, готова принять участие в борьбе. Для ее сыновей, кем бы они ни были и где бы они ни находились, простым и священным долгом является борьба всеми доступными им средствами». С этого момента повествование о постепенном сближении американских властей с де Голлем и его группой должно ускориться, чтобы уступить место другим, длительным событиям в жизни коалиции. В течение той недели, когда осуществлялась высадка, Маршалл, Арнольд и Кинг, пристально наблюдавшие за ходом «Оверлорда», уговаривали президента облегчить Эйзенхауэру задачу общения с французами. Стимсон, несмотря на стойкое недоверие к де Голлю, также пытался убедить президента временно признать комитет. 14 июня он кратко записал в своем дневнике, что потерпел поражение, потому что президент «…считает, что де Голль будет сломлен и британские сторонники де Голля будут сбиты с толку ходом событий». Кто дезинформировал президента? Не французские военные. Они докладывали, что средний француз считает де Голля «естественным и неизбежным лидером свободной Франции». Обращение к Консультативной ассамблее в Алжире от 26 июня де Голль дополнил заверением своих соратников, что генерал Кениг, как командующий французскими войсками под началом Эйзенхауэра, имеет тот же статус и право обращения за помощью к французской национальной власти с разрешения Эйзенхауэра, «…в которого французское правительство и народ полностью верят как в человека, победоносно проводящего военные операции». Этот комплимент был полезной прелюдией к предстоящему визиту в Вашингтон. Так гражданские и военные члены комитета во Франции сотрудничали с американцами и британцами. Визит де Голля в Вашингтон, начавшийся 6 июля, явился решительным шагом в продвижении к участию Франции в кампании на западе. И Хэлл, и Рузвельт нашли генерала более приятным и разумным, чем они ожидали. Он покорил президента искренностью заверений в том, что не намерен навязывать Франции себя и свой комитет в качестве будущего правительства. 11 июля Рузвельт сообщил прессе, что американское правительство приняло решение считать Комитет национального освобождения «доминирующей» политической властью Франции до тех пор, пока не будут проведены выборы, которые определят волю французского народа. Де Голль, находившийся в Оттаве на обратном пути в Алжир, был удовлетворен. Но он ясно дал понять, что он и комитет на правах признанного правительства собираются добиваться для Франции всех прав великой нации. Новые дружеские связи были упрочены 25 августа, когда войска де Голля получили возможность сделать стремительный рывок и триумфально вступить в Париж, а также когда на следующий день, более чем через два месяца после высадки союзников в Нормандии, Эйзенхауэр направил письмо генералу Кенигу, в котором привел соглашение по гражданским делам, достигнутое комитетом и американским правительством. Первая же фраза письма Эйзенхауэра ясно давала понять о свершившемся признании комитета: «Мне позволено иметь дело с Французским комитетом национального освобождения, как с реальной властью во Франции, которая примет на себя руководство и ответственность за управление в освобожденных регионах Франции». Соглашение подписали британский и французский министры иностранных дел. Но Франции еще некоторое время не хватало напористости. Требование оружия для дополнительных дивизий, кроме восьми уже оснащенных, не получило поддержки со стороны Объединенного комитета начальников штабов, как и попытка достать технику для переброски французских оперативных групп на Дальний Восток с целью возвращения Индокитая. Франция по-прежнему собиралась найти путь возвращения в круг великих держав. |
|
||
|
Главная | В избранное | Наш E-MAIL | Добавить материал | Нашёл ошибку | Другие сайты | Наверх |
||||
|
|
||||
