|
||||
|
|
Часть II[11]XXXVII Падение коммунистического Центра, точнее — Центроверха, его — по видимости — ликвидация тремя «обкомовцами», представителями регионов и выходцами из них, ухудшение жизни значительной части населения, рост насилия (войны, этнические чистки, криминализация, асоциализация) — реализовались не только как результат распада коммунизма, хотя как и это тоже. Все это, помимо автодинамических причин — логики разложения коммунистического порядка, было следствием хотя и негативного, но вступления СССР/России в энтээровский мир и век. Это и есть пока Русский Путь в XXI в.: «Ино побредем еще». Впору кричать: «Симсим, открой, я хочу выйти!» Симсим Истории только впускает, но не выпускает, так же как машина времени Истории, которая катит только в одну сторону. И чтобы не оказаться похожим на персонажа детской страшилки: «Мальчик едет на машине, весь размазанный по шине», — русским людям предстоит приложить немало усилий и истребить многое в своей душе. Лютер был совершенно прав, объявив истребление каждым человеком попа в своей душе пропуском в будущее. Аналогичным образом обстоит дело и с нами. Только вопрос о внутреннем объекте истребления для нас значительно сложнее, чем в Германии на рубеже Нового времени. Причин тому много. И потому что мы — на выходе из этого времени, а не на входе; и потому что мир за почти 500 лет стал неимоверно сложнее; и потому что исторически мы, русские люди — любители рубки леса и полета щепок, — привыкли больше истреблять объекты не внутри, а вовне себя. Так ведь рубёж — это и есть наш способ расширения рубежей. Нынешняя российская ситуация, Русский Путь в XXI в., по крайней мере в одном отношении, напоминает ситуацию конца XIX — начала XX в., Русский Путь в XX в. С 60-х годов XIX столетия в России нарастали процессы социального распада, разложения, социальной дезорганизации. Они были более интенсивными, чем процессы формирования новой социальной структуры, обгоняли темпы ее складывания. Практически все правительства Русской Смуты в 1860-е — 1920-е годы пытались противопоставить социальной дезорганизации — этому историческому закону распада социальных систем — ту или иную форму организации. И проиграли. Потому что вал стихии был слишком силен и высок, чтобы его можно было обуздать теми средствами, которыми располагала докоммунистическая власть в Русской Системе, и теми методами, которые она была готова применить. Потому проиграли все правительства. Кроме одного — большевистского. Большевики, в отличие от своих предшественников, не стали сдерживать ни вал насилия, которое все более приватизировалось, ни социальную дезорганизацию. Они национализировали насилие и организовали дезорганизацию, оседлав ее как закон истории распадающегося самодержавия, как одну из тенденций его распада. И победили, завершив Смуту в 20-е годы. Контролировать дезорганизацию на порядок, если не на порядки, сложнее, чем организацию. Для этого нужны сверхорганизация и сверхконтроль. Большевики это обеспечили. Точнее, не большевики и даже не необольшевики Ленина — «партия нового типа» для этих задач не годилась и потому должна была исчезнуть, — а организация, созданная Сталиным, главным технологом Русской Власти XX в. Технолог, который переиграл и главного конструктора, и главного инженера, и все конструкторское бюро, отправив его работников кого на тот свет, кого в «шарашки». Победили те, кто понял, что Русский Путь в XX в. — это контроль над процессами социального распада с помощью его институциализации и дехаотизации. А затем уничтожения или поглощения всех «частных» и неорганизованных форм насилия. Всего того, что ни укладывалось в прокрустово ложе новой структуры Русской Системы. Того, что мы знаем из истории, по книгам, по фильмам — всякие батьки ангелы, леньки пантелеевы, бандиты костылевы. «Все сметено могучим ураганом, пелось в шлягере времен нэпа. Большевики поставили под контроль и одновременно под ураган все — и тех, кому осталось кочевать, и пространство для кочевания, и самих себя. Потому-то многие, включая многих бывших, и были готовы добровольно пойти на службу к большевикам. Как заметила Н. Мандельштам, большевики спасли их от народной стихии, освободили от испуга, страха и ужаса перед этой стихией, впрочем, заменив вскоре этот и ужас фобосом и деймосом «организованно-послушных масс», «организованно-послушного не-демоса». Проиграли же в схватке начала века те, кто не нашел новую технологию власти, кто не понял ситуацию. Могли ли победить те, кто проиграл? Вопрос риторический. Впрочем, история — не фатальный процесс и не закрытая система. Победить большевиков можно было путем отсечения их от контроля над социальной дезорганизацией. Те силы, которые им противостояли, оказались на это неспособны и их выбросили, исключили — если не из жизни, то из Истории. Это — «добрым молодцам урок» для конца XX в., когда негативный, дезорганизационный аспект изменений в большей степени, чем позитивный, становится русским путем в XXI в., результатом русского столкновения с НТР. И надо признать: до сих пор получалось так, что мировые революции в производстве оказывались врагом России и Русской Системы. Неужели Лейбниц был прав, утверждая, что русский народ и культура несовместны? Перестройка и постперестройка, короче, последние 10 лет — вот результат столкновения Русской Системы в лице такой ее исторической структуры, как коммунизм, с НТР. Последние десять лет, которые в той же мере потрясли мир, в какой были одним из первых результатов его потрясения, часто называют «второй русской революцией», или даже «капиталистической революцией», противопоставляя ее революции 1917–1929/33 гг. как коммунистической, антикапиталистической. Верно ли это? Вопрос — не праздный и не только теоретический. К тому же выше речь шла и о том, что век грядущий нам готовит? А может быть, в нашем российском настоящем есть нечто полезное для всех, кто собирается в XXI в.? Может, есть что-то важное в звоне колоколов Русской Истории, предвосхищающее нечто из XXI в., как балет Дягилева в самом начале века XX был предвосхищением духа «длинных 20-х годов»? Чтобы ответить на этот вопрос, необходимо вернуться к событиям 1985–1995 гг.[12] XXXVIII«Перестройка», независимо от того, что думали и чего хотели ее «отцы-основатели», исторически оказалась прежде всего средством исключения, отсечения господствующими группами от сокращающегося общественного пирога целых сегментов населения — рабочего класса, ИТР как нишевого эквивалента среднего класса, значительной части номенклатуры — в основном низшей, но также и части «архаической» («силовой») высшей. И резкого повышения за их счет уровня жизни меньшей по численности части населения. При всех перипетиях борьбы за власть «постперестройщики» логически должны выполнять программу перестройки и «позднего застоя» — программу Истории конца XX в. — по выталкиванию значительных групп населения из сферы социальных гарантий жизни. Процесс этот идет во всем мире, принимая различные формы в зависимости от того, какие средства используются в социальной борьбе за отсечение от «пирога» и как это отсечение рационализируется (или социомифологизируется) в массовом сознании. В Индии это борьба высших и средних каст «индуистского сектора» с мусульманами, чтобы вытолкнуть их зажиточную часть за пределы среднего класса. Для этих целей используются низшие касты, это их представители разрушили мечеть в Айодхье в начале 1993 г. В Югославии это уже религиозно-этническая борьба; в Руанде — чисто этническая; в США — социально-политические конфликты по поводу системы здравоохранения и образования; в СССР — «перестройка», создание «рыночной экономики», т. е. лишение огромной массы людей социальных гарантий во имя и под знаменем «освобождения от тоталитаризма»; в очередной раз людям всучили «чудный колпачок» — дурацкий и шутовской, изъяв у них четыре и более золотых. Иными словами, во всем мире идет перестройка социальной структуры, форм эксплуатации и их оправдания, мифологизации. Во всем мире идет процесс формирования нового низшего класса (underclass'a), нового среднего класса, новых элит. Советско-русская перестройка — интегральная часть мировой перестройки последней четверти XX в., перестройки, которая есть не что иное, как начало конца капитализма и начало новой социальной революции, как минимум — пролог к ней. Начало системного, а не структурного кризиса капитализма, а вместе с ним и многого другого. По иронии истории, первым этот кризис испытал антикапитализм в лице коммунизма. В любом случае у советской перестройки есть мировой (мир-системный, капиталистическо-системный) аспект, его историю, равно как и историю 1985–1995 гг. в сравнительно-исторической перспективе еще предстоит написать. Перестройка в СССР — это один из важнейших аспектов системного кризиса капитализма, причем такой, который качественно изменил мировую ситуацию в целом. Без десяти (1985–1995) советско-русских лет, которые потрясли мир, невозможно понять современный кризис. Это десятилетие обусловлено им в той же степени, в какой и обусловило его. В ситуациях обострения конкуренции по энтээровским правилам, требующей дополнительных расходов, при постоянно растущем населении и т. д. и т. п. оказалось, что в конце XX в. «Боливару капитализма не нести двоих». Кто-то должен вылететь из седла. Хотя процесс этот идет неравномерно, нелинейно, вкривь и вкось — колесом дорога. К тому же у нас, в России, помимо дорог есть еще одна всегдашняя беда. Как бы то ни было, но и здесь тенденция отсечения от общественного пирога значительной части населения налицо. Смысл этого — в лишении населения тех гарантий и благ, которые оно получило особенно в послевоенный период за счет разрастания негативной социальной функции капитала, именуемой коммунистической властью, и связанного с этим процессом накопления вещественной субстанции. На рубеже 70–80-х годов выяснилось, что «Боливару коммунизма» двух этих субстанций — властной и вещественной — в достигнутом ими объеме не снести. Если взглянуть на Россию под углом «отсечения от благ», то она развивается в соответствии с социальными тенденциями развития энтээровских форм общества. В этом (но только в этом!) смысле «горбачевизм-ельцинизм» есть приблизительный нишевый аналог тэтчеризма-рейганомики. С тем лишь различием, что Тэтчер и Рейган действовали в большей мере сознательно, а два наших последних лидера скорее как «слепые агенты» Истории. Ну что же, кто не знает куда идет, пойдет дальше всех. «Куда идем мы с Пятачком? Большой-большой секрет». Сходство же и в направленности на создание «нового» — ужатого — среднего класса (у нас — неономенклатура и «новые русские»,[13] и в ухудшении жизни целых слоев населения, и резкий подрыв уровня жизни того слоя, который называют «советской интеллигенцией». В этом (но опять же только в этом) смысле Горбачёв и Ельцин — «верные тэтчеровцы». Разница, повторю, в том, что антиинтеллектуализм Тэтчер был личный и сознательный, а в нашем случае, как и многое в России, он системный и бессознательный. Отечественная интеллигенция, точнее ее советский эквивалент, так же много пьющий чая, так же много говорящий, как и его дореволюционный эквивалент, очередной раз призывая революцию (не буди лиха, пока оно тихо — «нельзя в России никого будить»), еще раз доказала, что принадлежит к клубу социальных самоубийц и мазохистов, а ее второй любимый вид спорта после философии русской истории — харакири или, будем по-интеллигентному изящными, — сэппуку. Если взглянуть на развитие нашей страны в последние 15–20 лет, то мы увидим многие из перечисленных выше тенденций и пример энтээровской эпохи. Но — в негативе и почти без позитива. О формировании нового «низшего класса» уже сказано. Формирование «новейшего среднего класса» можно наблюдать по строительству особняков. Приватизация насилия и власти произошла, причем раньше приватизации собственности, точнее — имущества. И правильно: власть — здесь главное. Власть — это половые органы любой структуры Русской Системы. А как любил говаривать Колсон, помощник президента Никсона, «если вы взяли их за яйца, остальные части тела придут сами». Вот они и пришли. Создается впечатление, что насилие, объем насилия — это некая константа в Русской Истории, в истории Русской Системы. Бывают периоды сверхконцентрации и централизации насилия, бывают периоды его распыления и приватизации. Но объем, похоже, остается прежним. Хорошо, когда Центроверх (то, что обычно у нас называют «государством» — самодержавным или коммунистическим) не швыряет пачками население в лагеря. Но нередко оборотная сторона таких периодов, их hidden transcript — это распыление, сегментация насилия, его оповседневнивание. Внешне это может выглядеть криминализацией и даже отчасти быть ею. Но на самом деле это значительно более глубокий и серьезный с социосистемной точки зрения процесс. Приватизация насилия сопровождается его сегментацией. Раньше был КГБ, теперь же — несколько спецслужб. И стреляют они не только в преступников, но и друг в друга — приватизация. Приватизация насилия, его «разгосударствление», децентрализация происходят в виде формирования личных армий отдельных политиков — с самого верха и вниз; в образовании сети частных («независимых») силовых структур — «легальных» и «криминальных». В «приватизированных» структурах насилия трудятся те, кто раньше работал в централизованной структуре; она исчезла, а число работников и объем насилия сохранился. 50 % руководителей «независимых» служб безопасности составляют бывшие сотрудники КГБ, 25 — МВД, еще 25 % — ГРУ и Вооруженных сил. 100 % — комплект. В частные силовые структуры пришли генералы, заместители министров и начальники управлений силовых ведомств.[14] Солидняк, как говорят теперь. Грань между легальным и нелегальным насилием становится все более пунктирной. И газеты все чаще пишут о том, что грань между теми, кто должен защищать закон, и теми, кто его игнорирует, становится почти невидимой. Метопы — те же, формы — те же, техническая оснащенность — как минимум та же. Результат — профессионализация того, что называют мафией, т. е. создание мира зеркального, параллельного, симметричного легальному. Создание антимира, который вытесняет мир, поглощает его. Но какие законные формы и методы защиты общества могут быть у репрессивных органов, если нет законов? Если привычный Центроверх исчез и только пытается возродиться из пепла Русской Системы, кристаллизоваться — и ее кристаллизовать? В такой форме, как «крыша», грань между «законной» и «преступной» сферами, зонами «права» и «неправа» и вовсе стирается. «Крыша» может быть как легальной, так и нелегальной. Да это и неважно. Процесс «крышевания» находится «по ту сторону» легального и нелегального. А если учесть, что в России/СССР право никогда не было ни сильным, ни значимым, ни в чести, то у нас возможности для расширения «зоны неправа», особенно в условиях, когда прежние формы социального контроля сломаны, безбрежны и безграничны. «Граница» может возникнуть двумя способами. Либо посредством самоорганизации общества, что не представляется уж очень вероятным. Либо путем ренационализации насилия Центроверхом Русской Системы, как это уже бывало. Теоретически лучше всего «золотая середина», равновесие, и такие периоды бывали в Русской Истории — они-то и есть лучшее время в ее истории. Но время это длилось исторически краткий миг, соскальзывая либо в смуту, либо в железный обруч центральной власти. «А в конце дороги той — плаха с топорами». Мораль? Она проста: русские люди, цените эпохи застоя, источник краткого счастья в Русской Системе. В любом случае, на данный момент нет общепринятого социального критерия для отделения нормы от криминала, общества — от контробщества. Социума — от Асоциума, бизнесмена (в просторечии — «бизмисмена») — от бандита. По данным МВД, криминальные структуры контролируют свыше 50 % всех хозяйственных субъектов; в криминальные отношения вовлечено 40 % предприятий и 66 % коммерческих структур; до 50 % криминального капитала тратится на подкуп чиновников. 50 % — это тот рубеж, когда правила и исключения уравниваются и свободно меняются местами. Где грань? Ее нет. Повторю: внешне это выглядит как криминализация. В лучшем случае отмечается размах, так сказать, количественный аспект. И здесь я еще раз хочу напомнить мысль А. Мэнка о том, что в России мафия, возможно, превратилась в становой хребет власти, и мнение некоего анонима о том, что в России ныне мафия стремится подменить собой государство. В строгом смысле, термин «мафия» здесь, конечно, неприменим. Скорее следует говорить об оформлении некой группы, которая не обособила легальный и нелегальный аспекты своего функционирования, не дифференцировала легальную и криминальную функции своей деятельности. Кстати, это частый способ возникновения новых социальных групп. Генезис капитализма — один из примеров. Не говоря уже о генезисе коммунизма — с эксами, гражданской войной, «отмыванием» во времена нэпа награбленного ранее, террором 30-х годов. Если мафия — центр власти, то это уже не мафия, а власть. Или контрвласть, контробщество. Кстати, Ашиш Нанди, известный индийский специалист по политической науке, в свое время предпринял очень интересную попытку рассмотреть сверхкор-румпированное, как он пишет, индийское государство конца 70-х — начала 80-х годов в качестве контробщества, «общества-тени», в котором грань между чиновниками и политиками, с одной стороны, и гангстерами, бандитами, ворами, взяточниками — с другой, практически исчезла. В результате, как замечает Нанди, возникает интереснейшее явление: «государство» становится значительно более жестким и угнетающим, чем те господствующие классы, интересы которых оно представляет и защищает. Аналогичные примеры можно найти и в других странах Азии, Латинской Америки и Африки. «Государство-бандит» — так некоторые исследователи называют мобутовский Заир, и этим, думаю, список «государств-бандитов» на рубеже двух тысячелетий и двух веков не исчерпывается. Термин «контробщество» в качестве описательного для нынешней русской реальности кажется мне более адекватным реальности, чем «мафизация» государства или общества. «Мафизация общества» — это в действительности его асоциализация, ситуация и процесс, при котором исчезает граница между нормой и аномией, между повседневным поведением и преступлением. Таким образом, по части асоциализации, являющейся следствием разложения коммунизма как структуры негативной функции капитала, мы, как когда-то в области балета и ракет, опять, похоже, «впереди планеты всей». Причем, если в зоне разложения функционального капитализма асоциализация развивается в большей степени снизу, то у нас она идет и снизу и сверху, демонстрируя разнообразие комбинаций и позиций, стхал и парачхед в отношениях с обществом. Асоциал занял важнейшие места во власти и бизнесе. Не все, конечно, но много. В значительной мере можно говорить и об асоциализации власти. Асоциал прорвался даже в Думу и, сделав ее своим театром, кривляется и паясничает там, позоря страну на весь мир: «Тупой разгул на Запад и Восток позорит нас среди других народов». Однако все это связано не только с коммунизмом (хотя и с ним тоже), но и с развитием Русской Системы. Если говорить о нашей оригинальности, то необходимо вспомнить, что режимы Ивана Грозного, Петра I и большевистский возникали как контробщество. Опричнина, гвардия Петра и большевистский режим рождались и выступали как контрвласть, контробщество, сообщество асоциалов, «новых русских». При каждом новом пришествии «новых русских», их масса, масса контробщества превышала предшествующую: в начале XX в. их было больше, чем в начале XVIII, в начале XVIII больше, чем в середине XVI в. Ныне достигнут абсолютный рекорд в Русской Истории. Именно массовость, тотальность пока что не позволяют найти фигуру-символ, аналогичную Басманову-младшему или Меншикову или Радеку. Ну что же, как говорили об английской футбольной сборной образца 1966 г., — «не команда звезд, а звезда-команда». И вот что поразительно: победителями асоциал, криминал оказались в той революции, которая начиналась под лозунгами борьбы за «демократию» и «правовое государство». Какая горькая ирония истории! Получается прямо-таки сталинская диалектика: пойдешь налево — придешь направо; пойдешь направо — придешь налево. Диалектика Русской Системы? Дьяволектика? Дьяволиада. Не будем демонизировать и инфернализировать реальность (тем более что реальность нередко страшнее дьяволиады). Перед нами логичный результат комбинации двух процессов: распада коммунизма и негативной энтээризации России. Нет противоречия между терминами А.Солженицына «великая преображенская революция» и С.Говорухина «великая криминальная революция». Как заметил Ю.Пивоваров, речь должна идти о «великой криминальной преображенской революции». Тут тебе и преображение — на криминальный лад, и криминализация преображения, и «преображенский приказ» — силовые структуры легальные и нелегальные. В общем, еще одна властно-техническая революция — асоциальная. Антикоммунистическая революция и могла у нас быть только асоциальной. Коммунизм задал коридор и параметры самоотрицания. По-видимому, нам еще долго придется жить в его тени, энтропии, негативе. Асоциал — это тот, кто творит насилие, нарушает законы, играет в свою игру по одному ему понятным и им же устанавливаемым и нарушаемым правилам. Игра, правда, очень русская — крокей. Это слово изобрел Владимир Высоцкий, использовавший его в мюзикле «Алиса в стране чудес». Крокей происходит от «хоккей», с одной стороны, и от «круши» и «кроши» — с другой. Крокей — любимая игра асоциала и Русской Власти в период ее становления. Это — игра в генезис исторических структур Русской Системы. В набор входят: дыба, топор, застенок и т. д. Крокей — это «Монополия» Русской Системы. Если далее говорить о нашей оригинальности, то следует признать, что в Русской Истории, в создании Русской Власти асоциал играл и сыграл огромную роль, которой нет близких аналогов ни на Западе, ни на Востоке. Но тогда может и беспокоиться нечего? Все устроится? За опричниной и Смутой пришли первые тишайшие Романовы. Бла-а-лепие. За страшным 25-летием первого Русского Антихриста (и в то же время одного из апостолов Русской Власти и Русской Системы), правда, последовала чехарда самцов-гвардейцев и их венценосных любовниц, но затем наступили великолепие и расцвет. А хмурое утро ленинизма-сталинизма сменила Оттепель и еще более оттепельный, чем сама Оттепель, Застой, брежневская эпоха — одна из самых лучших — в смысле стабильных, сытых и спокойных («На свете счастья нет, но лишь покой и воля») не только в истории СССР, но, под определенным углом зрения, и в Русской Истории. Так может, не надо беспокоиться? Асоциалы приходят и уходят, истребляя друг друга, сделав свое дело, а Власть и Система остаются. Мочиловград превращается чуть ли не в Град Небесный (по русским, разумеется, представлениям). Так было всегда. Но в том-то и проблема: сейчас нет гарантии, что так будет и на этот раз. Все явления асоциала Русской Истории и в ней все его визиты в Русскую Систему до сих пор имели место тогда, когда эта Система была на подъеме. На подъеме — параллельным курсом — вместе с Капиталистической Системой. Ныне ситуация иная. Асоциализация, формирование «зон неправа» идет и на Западе, в Капиталистической Системе, которая едет с ярмарки — «едет всадник прямо в осень, не замедлит свой бег». Ее бывшие коммунистическое Зазеркалье лишь повторяет, воспроизводит этот процесс, двукратно усиленный — и тем, что у нас функция капитала была негативной, и тем наследием, которое мы имеем от Русской Системы. В данной конкретной ситуации такая «двукратность», суммированная с мировыми процессами, способна стать сверхдетерминантой, и в этом случае Россия опять преподнесет миру невиданный урок и невиданную доселе революцию. Как знать, не окажется ли единственным положительным содержанием посткоммунистического строя в России, по крайней мере на первых порах, асоциальность. «Рынок», «частная собственность», «капитализм» и т. д. — все это может стать лишь внешней, мало связанной с содержанием формой той негативной неклассовой социальности, которая есть продукт одновременно разложения и отрицания коммунизма как неклассовой (антиклассовой, антикапиталистической) социальности. И получается логично: от антиклассовости, негативной классовости, антиклассовой социальности коммунизма — к асоциальности; от одной стадии негативной социальности и классовости — к другой; от одной формы отрицания — к другой. Асоциальность — завершенный функционализм, и в этом смысле — аналог НТР. Негативный аналог. Она может принимать любые формы — от «парламентской демократии» до «монархии», от «капитала» до «государства». Капитализация оборачивается криминализацией. И тот факт, что одним из наиболее мощных и развитых направлений преступной деятельности в России, по оценке МВД, являются финансовые преступления с использованием компьютерных средств и скупка акций наиболее рентабельных и передовых предприятий, лишний раз свидетельствует: энтээровский век идет в Россию по пути криминализации, асоциализации. Это и есть пока Русский Путь в НТР, в XXI в. Асоциальность всепроникающа. В этом смысле успех и размах «новых русских» и «русской мафии» на Западе очень показательны. Это — торжество асоциала. Это — триумф такого социального вируса, к которому у Запада нет иммунитета. Впрочем, это — особая тема, и сейчас имеет смысл поставить здесь точку и взглянуть на тот процесс, который именуют «второй русской революцией XX в.». Строго говоря, эта революция, конечно же, третья, первой была революция 1905–1907 гг., значение которой до сих пор, даже в год ее 90-летия, недооценивается. Будем надеяться, что оценят к столетию. Но есть резон и в определении именно октябрьского переворота 1917 г. и последовавших за ним событий как первой русской революции XX в. Во-первых, революция 1905–1907 гг. принадлежит по сути XIX в., она подводила его итоги, разрубала его противоречия. Во-вторых, именно с октябрьским переворотом Россия вошла не только в XX в. но и новую структуру Русской Системы — коммунизм. XXXIXИтак, что же это была за революция, которую мы пережили недавно, революция, сменившая власть, строй, границы, гимн, герб? Революция, прошедшая сначала антикоммунистическую фазу (июль 1991 г. — апрель 1992 г., т. е. с указа № 14 Б.Н.Ельцина о департизации, до VI съезда народных депутатов России), а затем — антисоветскую (с апреля 1992 г. и до октября 1993 г.). Революция в узком смысле слова уместилась между двумя указами президента России: указом № 14 и указом № 1400. Так сказать, 14 плюс два нуля; правда, значок «два нуля» имеет еще одно значение, но об этом не будем. Что же касается революции в более широком смысле, то она пролегла между двумя апрелями — 1985 и 1995 гг. Разумеется, последняя Русская Смута — сложное и многомерное явление. Его можно рассматривать под разными углами зрения. Вот один из них. Мы привыкли говорить о «капитализации России», о «переходе к рынку», другими словами о том, что антикоммунистическая революция автоматически ведет к капитализму, что это революция буржуазная или даже буржуазно-демократическая. И конечно же, это сдвиг в сторону капитализма, он считается главным и при этом желательным вектором развития. Думаю, это не так. Вернее, далеко не совсем так, не в этом главное. Если коммунизм — это функциональный негатив капитализма, то нынешняя русская революция — антикапиталистическая. И другой быть не может. Не только потому, что Россия — глубоко некапиталистическая, имманентно антикапиталистическая страна, а, как известно, из (капиталистического) ничего-ничего (капиталистического) не бывает. Но и потому, что коммунизм был реализацией негативной функции капитала, и отрицание этой функции есть тоже антикапитализм, только специфический. В 1917–1921 гг. антикапитализм формировался и развивался как отрицание капиталистической субстанции ее функцией, с опорой на эту функцию. Ныне же, когда сам капитализм стал энтээровским и коммунизм уже не способен обеспечить реальный социальный контроль над населением, он не может в нынешнем мире служить формой организации Русской Системы — обладание голой функцией капитала не решает проблем устойчивости существования и даже не приносит чувства глубокого удовлетворения, отрицается уже сама функция. Лозунгом первой русской революции была «экспроприация экспроприаторов». На знаменах второй можно написать «дефункционализация функционалов». Именно это и произошло. Если коммунистическая революция в России начала века была антикапиталистической по линии содержания, субстанции капитала, отрицанием этой последней, то антикоммунистическая революция конца века стала антикапиталистической по другой линии. Она отрицала ту организацию власти, специфическим содержанием которой стало отрицание капиталистического содержания с помощью капиталистической же функции. Первая антикапиталистическая революция покончила с капитализмом, так сказать, частично, породив систему, функционирующую как самовоспроизводящийся процесс отрицания капитала. Вторая антикапиталистическая революция покончила в России с капитализмом полностью, уничтожив то, что было даже его негативным слепком (а потому теперь и капитал допустить можно, он — не страшен). Иными словами, если с помощью первой антикапиталистической революции Россия вошла в XX в. как век функционального капитализма и, по крайней мере функционально, подключилась к самому капитализму, то посредством второй антикапиталистической революции Россия вышла и из XX в., и из «своего» негативно-функционального «капитализма» — коммунизма. С октябрем 1917 г. Россия вступила в Ночь Современности, с апрелем 1985 (разумеется, никто, в том числе Горбачёв, не знал, что начинается революция — стремились-то к другому; но человек предполагает, а Крот Истории — располагает) встречает рассвет Постсовременности. Некоторые обстоятельства входа и выхода настолько совпадают, что поневоле начинаешь верить в мистику исторической симметрии. Ограничусь одним примером. За вход коммунисты уплатили Брестом, т. е. тем, за что Ленина многие обвиняли в предательстве национальных интересов, сдаче территории и т. д. За выход коммунистами было уплачено сдачей сначала Восточной Европы, а затем — частью территории бывшей Российской, а потом и Советской империи. И опять последовали — и до сих пор звучат — обвинения в предательстве национальных интересов и т. д. Ясно, что в обоих случаях власть, наднациональная и надтерриториальная по своей природе (ее завоевание или удержание приоритетны по отношению к национальным интересам и территориальной целостности), действовала рационально и в соответствии со своим содержанием и логикой. Территория, пространство — та самая лапа, которую отгрызают, попав в капкан. Это — не метафора, по крайней мере, что касается выхода, антикапиталистической революции конца века. Ведь если СССР — это антикапиталистическая зона, которую заняла когда-то Россия, то упадок этой зоны, исчезновение raison d'etre существования ее в Капиталистической Системе означает: чтобы выжить, Россия должна покинуть эту зону, разломать и сбросить зональную скорлупу как реликт ушедшей эпохи. СССР стал зоной мирового бедствия, которую необходимо было покинуть, хотя, быть может, не в той форме и не так, как это было сделано. Правда — вышли, как и вошли, — не хуже. Оставим споры о необходимости восстановления СССР людям ушедшего XX в., так и оставшимся в нем, словно экипаж затонувшей подлодки. Пусть мертвые хоронят своих мертвецов. Речь не должна идти о восстановлении ни СССР, соответствовавшего эпохе функционального капитализма, ни Российской империи, соответствовавшей эпохам Старого Порядка и Субстанционального капитализма. Восстановить в истории вообще ничего нельзя. История нереставрационна по своей природе. Говорить нужно о другом — о создании заново, о конструировании некой новой геополитической, геоэкономической и геокультурной формы, панциря для той новой структуры, которая возникает в Русской Истории и которая, конечно, не будет уже в прежнем смысле ни Россией, ни империей. А может, и вообще не будет Россией — нам не дано знать будущее. Точно можно сказать одно: приступая к конструированию, необходимо отсечь от России все, что не вписывается в энтээровский XXI в., оставить прошлому всю экзотику — она вышла из моды. Распад СССР, воплощавшего в своих рамках единство (прото)Севера и (прото)Юга, теоретически позволяет нам безболезненно сделать то, что отняло столько сил и средств у колониальных империй. Другой вопрос — практическое воплощение. Для этого нужны люди. Но вернемся к антикоммунистической революции конца века. Может быть, она все-таки не антикапиталистическая? Об этом, казалось бы, говорят и лозунги и логика. С лозунгами все ясно: на то они и лозунги. Логика же, например, «говорит»: если «вторая русская революция» (1991–1993) есть отрицание антикапитализма, то, следовательно, она есть революция буржуазная — минус на минус дает плюс. Отсюда и лозунги. К тому же отрицание коммунистической власти как института взбесившейся функции капитала происходило ведь с опорой на какую-то субстанцию как внутри страны, так и вне ее (одобрение и поддержки капиталистического Запада). Короче, реванш субстанции. Так, может, я поторопился записать «вторую русскую революцию» в антикапиталистические? Думаю, не поторопился. XLИтак, предвижу вопросы: разве не появились у нас частные банки и частные магазины? Разве не возникают акционерные общества, разве не приватизируются предприятия? Ответ на оба вопроса — да. Кто не слеп, тот видит: появилась. Но ведь это не есть капитализация и буржуазификация. Я не стану в данном случае приводить аргументы типа: «криминальный капитал — это не капитал», «номенклатурный капитал — это не капитал». Об этом уже много сказано. Или типа: «непроизводительный капитал не есть капитал», а у нас почти весь капитал финансовый, нажит на экспорте, перепродажах, спекуляции. По крайней мере, он не есть системообразующий капитал, ведущий к капитализму, т. е. не есть капитал в формационном смысле. Такой — денежный, спекулятивный — капитал существовал до капитализма, будет существовать после него и капиталистическим такой капитал делает только его функциональное подключение к мировому капиталистическому рынку. Без и вне последнего такой капитал есть всего лишь деньги, особенно если ему, как в России, противостоит не капиталистически эксплуатируемый работник, а наемный работник иного типа. Оба типа аргументов, о которых шла речь, справедливы. Но это аргументация от конкретного, индуктивная, в ней есть существенный элемент «к случаю». Мы же имеем перед собой проблему теоретическую, а потому и необходимо рассмотреть ее как таковую с соответствующей аргументацией «от абстрактного к конкретному». Только такой путь является реально доказательным, исчерпывающим, а не просто иллюстративным. Во-первых, частная собственность становится в данном обществе и для него буржуазной только в том случае, если общество в целом является уже буржуазным, если отношения собственности охвачены капиталистической собственностью. Это элементарный вывод на основе принципа системности. Ничего подобного у нас нет. Что там капитал — даже частная собственность объявлена только в Конституции без разъяснения механизма функционирования в соответствующих кодексах. Похожа на зафиксированное в Конституции СССР право союзных республик на выход из Союза. Ну и что? «Остановите самолет, я слезу»? Это не говоря о том, что в нынешней реальности первоначальное накопление капитала нередко подрывает капиталистическое накопление, т. е. оказывается самовоспроизводящимся («вечный генезис» без реального возникновения); что капитал должен быть социальной формой, а не асоциальной и т. д. Во-вторых, нынешняя «собственность» «новых русских», будь то бандиты или эксбандиты, отмывающие и приумножающие преступные деньги, банкиры или экскомбоссы, отмывающие и приумножающие деньги КПСС, не есть до сих пор нечто самостоятельное, некая целостность. Это лишь экономическая сторона, экономическая часть распавшейся коммунистической властесобственности, гомогенного коммунистического присвоения общественной воли и общественного продукта. Исчезновение КПСС как гаранта отчуждения социальных и духовных факторов производства привело к двум параллельным процессам, протекавшим, однако, с разной скоростью — по крайней мере, сначала с разной. Эти процессы фиксируют две стороны распада присвоения как властесобственности на власть и на «собственность», а точнее — имущество, которое не обрело еще адекватной ему формы собственности, а потому его легко расхищать. Имущество, с одной стороны, не оформленное как следует в качестве собственности, с другой — отсутствие реального контроля над этим имуществом со стороны всеохватывающей власти, ситуация приватизации власти, стирающая грань между легальной и нелегальной сферами — все это словно приглашает на криминал («воруют все»). Неоформленное как собственность имущество представляет собой, так сказать, девственную субстанцию, особо легкую для /по/хищения в особо крупных размерах. В такой ситуации те, кто распоряжается имуществом и кого нередко называют «капиталистами» и «собственниками», заинтересованы именно в том, чтобы имущество не обрело статус собственности или капитала, а находилось в расплывчато-промежуточном, неопределенном состоянии не-капитала, не-собственности, «девственной субстанции», честь которой берегут так, как берегли бы свою, если бы она у них была. И опять: «призрачная собственность» внешне напоминает модификации собственности на Западе в эпоху НТР. Только на Западе это происходит на производственно-экономической основе. У нас много писали и говорили о приватизации имущества. На самом деле, значительно более важным, первичным был процесс приватизации власти, приватизации насилия как различными легальными, так и нелегальными, криминальными структурами. Он и создал основу для бесконтрольного распоряжения имуществом при отсутствии прав собственности (собственность, кстати, автоматически означает юридический контроль). Директор завода или института, не являющийся собственником помещений, может сдавать их в аренду по сути бесконтрольно. Нет законов. Нет инструкций. Как говаривал приватизировавший часть власти бывшей Российской империи бандит Абдулла из «Белого солнца пустыни», «так некому платить». Другими словами, нет контролера. И «таможня» уже давно дает «добро» на «ввоз» и «вывоз» добра, на его расхищение. То, что у нас ныне называют собственностью или даже капиталом, часто не есть ни то, ни другое, но всего лишь продукт распада, экономическая часть распавшегося присвоения, которая не обрела еще собственной особой социальной, а по сути — и реальной, правовой формы и, следовательно, не есть самостоятельное или тем более системообразующее явление. Более того, логика социальных процессов часто действует против приобретения имуществом формы собственности или качеств самостоятельного явления. Часто, только покинув русское пространство, это имущество превращается в капитал, чтобы потом вернуться в страну в виде иностранных инвестиций. Благодаря этому легализуется (да еще на иностранный манер) деятельность криминальных структур. Круг замыкается. Имущество так и остается частью, продуктом, стороной распавшегося целого. Все это, разумеется, не значит, что в России вообще нет капитала. Русский капитал есть. Но капиталом является далеко не все, что именуется им. Всякий капитал есть имущество, деньги. Но не всякие деньги и имущество суть капитал. Аналогичным образом обстояло дело с крестьянской собственностью в ходе или после разложения феодализма. Как заметил В.Крылов, частная собственность землевладельца, с одной стороны, и трудовая собственность крестьянина — с другой, были лишь различными сторонами прежней феодальной собственности, но ни в коем случае ни самостоятельными формами, ни капиталом в формационном смысле слова. Способом их происхождения был не генезис, а разложение; они возникли не как «плюс», а как «минус», и понадобились столетия капиталистической эволюции вне поля жизни этих форм, чтобы последние окрасились в капиталистические тона (причем происходило это, когда капитализм был на подъеме, был восходящим обществом, а не ехал с «ярмарки Истории»). Поэтому придавать самостоятельное значение некоей исторической «крестьянской собственности» — логическая ошибка, искусственно отрывающая трудовую сторону, трудовой — частный и частичный — аспект господствующей в обществе качественно определенной антагонистической формы собственности от этой собственности как целого. Это то же самое, что в один логический ряд с химическим соединением поставить элементы, на которые оно распадается в результате реакции. Что же касается имущества как одной из распавшихся сторон коммунистического присвоения, то в отличие от крестьянской трудовой собственности, это во многих случаях даже не собственность и не фактор трудового происхождения. Именуемое капиталом скорее импрессионистически, по остаточному, вычитательному принципу (если не коммунизм, а «собственность», то — капитал: иного — не дано) имущество, оставшееся от коммунизма, не только не есть самостоятельная экономическая форма, способная стать ядром новой системы, но и вообще не есть самостоятельная качественно определенная форма. Ее качество определит новая структура власти, новый социум. Еще раз напомню, что в свое время Маркс, соблюдая принцип системности, верно заметил: мелкий собственник становится мелким буржуа только тогда, когда общество в целом становится буржуазным, когда капиталистический уклад становится господствующим, т. е. когда общество в целом изнутри начинает развиваться по законам капитала. Но аналогичным образом обстоит дело и с крупными собственниками, и с распорядителями имуществом. Как обладание экономическим богатством еще не делало землевладельцев и владельцев мануфактур капиталистами в XV–XVI вв. при разложении феодализма, так и обладание экономическими продуктами разложения коммунистической властесобственности не делает их обладателя капиталистом. Обладание неким имуществом, оставшимся «после номенклатуры», не делает их распорядителя собственником. Директор завода или института, сдающий помещения фирмам и получающий за это деньги, — не капиталист и не собственник. Кто-то скажет: вор. Но поскольку соответствующего закона нет, такая характеристика (вне эмоционального контекста) неверна. Перед нами некапиталистическое экономическое отношение, не основанное на частной собственности. По сути это — «размагниченная собственность», имущество, оказавшееся неподконтрольным власти. Чтобы имущество стало собственностью, а собственность — капиталом, необходимо время и благоприятные условия. Остановлюсь только на «благоприятных» условиях. Что подпирает нынешнюю «собственность» с обеих сторон? Новые властные легальные структуры и различные нелегальные структуры. Они-то совместно и блокируют превращение собственности — имущества в собственность без кавычек, в капитал. В лучшем случае это некапитал. Или «асоциальный капитал». Или призрачная собственность. Прежний собственник либо утратил свои права, либо они носят формальный характер и не соотносятся значимо с реальностью. Новые обладатели чаще всего либо только распоряжаются, манипулируют имуществом, либо, имея юридическое право собственности, не могут реализовать его законным путем. Реальный собственник оказывается призраком, а собственность — призрачной: «призрачно все в этом мире бушующем», включая собственность, и таким останется, пока мир будет бушевать. Оставим пока в стороне высший уровень, на котором высшие чиновники распоряжаются государственной собственностью, манипулируют ею и т. д. и т. п. Оставим в стороне также крупнейшие и крупные банки, возникшие в процессе так называемого «разгосударствления», здесь все более или менее ясно. Взглянем на массовый уровень, на то, что на Западе называют «penny capitalism», т. е. «грошовый капитализм» — уровень небольших фабрик, средних магазинов и кафе, коммерческих палаток и т. д. Короче, массовый уровень, который, по идее, и должен стать «базисом строительства капитализма», основой рынка и частной собственности, широкой дорогой в Капиталград и его светлое будущее. Формально есть собственник и его собственность, но легально, законным путем эту собственность реализовать по сути невозможно, приходится платить, во-первых, чиновникам и милиции, т. е. легальным структурам; во-вторых, бандитам, структурам нелегальным. Впрочем, по отношению к объектам мзды разницы в действиях и тех, и других нет: поборы, взятки, несанкционированные штрафы — все это беззаконно, нелегально. Легальная власть, систематически функционирующая нелегально, по криминальному образцу, есть власть асоциальная. Но в данном контексте важно другое: не то что капитал, просто экономическую собственность человек не может реализовать экономически — как собственность и как социальное отношение. Только на внеэкономической основе и как отношение в значительной степени асоциальное. В такой ситуации собственник превращается скорее в частичного, призрачного, в большей степени даже — совладельца. Другими совладельцами выступают структуры приватизированной власти, легальные и нелегальные: муниципальные чиновники, местная милиция, криминальные группы. Только все они вместе, коллективно, включая «юридического собственника», оказываются реальным собственником и хозяином, «капиталистом». Перед нами внешне — суммарно — коллективная по сути собственность; нелегальная, асоциальная по способу реализации. Эта «групповуха» фактически устраняет юридическую (а иной не бывает) собственность как таковую, превращая ее в общее имущество, с которого все имеют доход, а «юридическому собственнику» остается чуть менее или чуть более 50 %. Половинная экономическая собственность, к тому же не работающая ни экономически, ни легально, — явление, не имеющее непосредственного, содержательного отношения ни к экономике, ни к собственности. Есть имущество и есть люди, вступающие между собой в комплекс различных отношений, в котором экономические отношения суть третьестепенный (после асоциальных и социальных внеэкономических) элемент. И это не есть некое отклонение от нормы. Это — вектор нормального для данного социума в нынешнем его состоянии развития. Другой вопрос, сколь долгосрочна перспектива этого вектора. Капитализм? Частная собственность? Рынок? Эти «три карты» российских реформаторов, похоже, могут сыграть с ними злую шутку, вроде той, что была сыграна с бедным Германном. И как же не сыграть, когда люди делают ставку на экономику, выдергивая ее из целого, напрочь забывая о социальной сфере, о внешнеэкономических факторах, — и это в стране, где экономика, не говоря уже о частной собственности, традиционно не была на первых ролях. Безумный Германн. При попытке взглянуть (с натяжкой) на ситуацию с точки зрения собственности получается такая картина: люди превращаются в призрачных собственников, а имущество — в собственность, тоже призрачную. Собственность как бы складывается в таковую из многих точек (пуантилистскому миру — пуантилистскую собственность) и как таковую ее в этом качестве можно увидеть только издалека и лишь при большом желании. И вряд ли стоит удивляться, как это делают многие западные наблюдатели: как же так, в России произошла радикальнейшая приватизация, а рынка и результатов экономической реформы не видно? Да, страшно далеки эти наблюдатели от народа — русского — и от России. Как это Ленин называл симпатизирующих русскому коммунизму на Западе политиков, профсоюзных деятелей и интеллигентов, которые сами коммунистами не являлись? Вспомнил: «полезные идиоты». Справедливости ради надо отметить: свои тоже есть. Но это — к слову. Не становясь капиталом, высвободившееся в ходе разложения коммунизма имущество начинает выполнять принципиально иную функцию, чем капитал или собственность на экономические факторы производства. Будучи объектом борьбы легальных и полулегальных, теневых и «светлых» структур, которые, как бабочки в известной рекламе, «из тени в свет перелетают» и наоборот, оно становится фокусом и предметом их взаимодействия, фактором их интеграции, объединения — объединения продуктов распада коммунистического порядка, но иным, чем при коммунизме (да и при капитализме тоже) способом, асоциальным, и не в «правовом государстве», а в «зоне неправа». Имущество, «абстрактная» или «призрачная» собственность соединяют, объединяют легальные и нелегальные формы, становясь фокусом их единства, обеспечивая их целостность. Вещественная субстанция становится объектом, по поводу которого кусочки разбитого строя складываются в некий новый социальный орнамент. В нем каждый из «призраков» самим фактом своего существования и образом действия блокирует возможности других «призраков» стать собственниками, т. е. способствует их воспроизводству как призраков. Ранее единое гомогенное присвоение здесь как бы раздобрилось на кусочки и застыло в раздробленном состоянии. Единая операция разделена между несколькими агентами. Мануфактура! Мануфактурный асоциализм. Я не ерничаю. Тот строй, та новая структура Русской Системы (или система — наследник последней), которая возникает, должна будет пройти несколько стадий. Более того, даже генезис ее состоит из нескольких фаз, и пройдет еще немало времени, прежде чем будет изобретен новый способ присвоения имущества, контроля над ним со стороны Власти. Едва ли это возможно без ренационализации власти-насилия, хотя у истории часто заготовлены сюрпризы. В истории не бывает повторений: террор 20–30-х годов был властным, нынешний — в большей степени криминально-экономический, хотя, посмотрим, какой будет новая Дума[15] — при определенном раскладе у террора может возникнуть и «политический» аспект. Чтобы быть средством снятия общественных противоречий, служить интересам ныне господствующих групп и, следовательно, выполнять функцию социального интегратора, имущество должно как можно дольше оставаться не-собственностью, негативной, «неопределенной» собственностью, собственностью «с неопределенным артиклем». Или, скажем так: собственностью вообще, абстрактной собственностью, собственностью в потенции. Завершение интеграции скорее всего «съест» имущество и создаст новую форму не столько собственности, сколько власти, социальный мир «темного солнца» и «багровых туч». Не окажется ли тогда: то, что называли капиталом, было лишь продуктом разложения «некапитализма» старого и средством перехода к «некапитализму» новому, например, от одной формы организации Русской Системы — к другой. Не то чтобы антикапиталистической, но — внекапиталистической. А историки-альтернативисты будущего станут говорить о еще одной упущенной возможности перехода к капитализму. Которой как практической (теоретически возможно все) на самом деле для Русской Системы не существовало ни в конце XV, ни в конце XIX, ни в конце XX в. Похоже, что Россия в очередной раз делает неожиданный вираж, вступает на непроторенную тропу очередного социального эксперимента. Похоже, ее новая организация будет располагаться не в ряду «феодализм, капитализм…», а «самодержавие, коммунизм…». Короче, ныне уравнение Русской Истории — X, Y,? И то, что возникнет на месте вопросительного знака — Z или Й, чем обернется Русская История — математической формулой или любимым русским заборным словом, во многом зависит от того, правильно ли мы понимаем X и особенно Y, т. е. коммунизм. Грубо говоря, конец коммунизма, его разложение на «негативную экономическую собственность» со слабыми качественными характеристиками, с одной стороны, и децентрализованное, разжиженное и разбавленное — чтобы на всех хватило — насилие (т. е. на «негативную власть») — с другой, и есть распад «капитализма Русской Системы». Коммунизм и был единственно возможным «капитализмом» этой системы — капитализмом без капитала. Он был массовым обществом этой системы. А теперь он умер, раньше своего западного собрата, который, будучи потолще, сможет еще лет 50–60 проедать вещественную субстанцию и наслаждаться своей поздней осенью. Что поделаешь, в России средняя продолжительность жизни, как индивидуальная, так и социальная, меньше, чем на Западе. Нельзя дважды войти в одну и ту же реку. Россия уже вошла однажды в капиталистическую реку, приняв коммунистическую организацию. Выйти из коммунизма посредством капитализма и на пути к нему в конце XX в. еще труднее, чем выйти таким образом из самодержавия в конце XIX в. Это то же, что гоняться за собственным хвостом. В «теоретической» основе такой погони лежит интерпретация коммунистической фазы Русской Истории как чего-то случайного, отклоняющегося, чего-то, что можно забыть, от чего можно абстрагироваться. Нет, в развитии таких крупных стран, как Россия, 70-летних отклонений и случайных вывертов не бывает. Коммунизм логически вырос из самодержавия как структура преодоления его противоречий; подобно этому и новая структура Русской Истории должна будет снять противоречия коммунизма. Капиталистический выбор как возможный путь в будущее мог теоретически стоять перед Россией на рубеже ХIХ—ХХ вв. Столетие спустя это едва ли реально. Капитал не смог предложить положительного решения проблем России в начале XX в., оставив за социальным бортом огромную массу населения. Она-то и выступила под антикапиталистическими лозунгами. Ныне, в эпоху НТР, в эпоху наукоемкого производства положительные возможности капитализма по отношению к России еще меньше — еще большая масса останется за бортом. Для огромной части населения падение коммунизма может стать потерей старого мира без обретения нового. Столкнувшись с такой угрозой в конце XIX — начале XX в., Русская Система трансформировалась из самодержавия в коммунизм как в некий «капитализм без капитала». Теперь возникает иная ситуация, диаметрально противоположная: капитал без капитализма. Ведь подключенная к мировому рынку «абстрактная собственность», имущество становятся капиталом. Результат — точки капитализма на некапиталистическом поле. Капиталистический пуантилизм России. Капитализм в отдельно взятом офисе, доме, магазине. Но ведь это соответствует общей логике развития постсовременного пуантилистского мира, великолепно вписывается в нее! Одна и та же форма выступает как капитал в мировой системе и как некапитал в России. Наличие капитала в некапиталистической системе очень напоминает социальную модель Старого Порядка. С той лишь разницей, что там, на входе в капиталистическую эпоху, капитал в большей степени использовал некапиталистические формы, а в посткоммунистической России, на выходе из капиталистической эпохи, некапиталистическая власть и асоциал с его организациями используют капитал для реализации экономических функций своего бытия, для передела и утилизации экономических продуктов распада коммунизма. Сегодня часто задают вопросы: что мы строим, какой строй мы создаем, какое общество возводим. От президента, лиц, наделенных властью, требуют ответа на этот вопрос, полагая, что, только получив ответ, можно двигаться дальше. Не стану говорить о том, что это типично коммунистический подход, неприложимый ни к какой реальности. Нельзя построить общество по плану. Никакое. Даже коммунистическое, которое на самом деле возникло и развивалось в большей степени стихийно, чем планово, как и капитализм. Нельзя планомерно строить капитализм, хотя если в истории и было когда-нибудь что-нибудь похожее на планомерный социум, то это «Функциональный капитализм» XX в. Но вообще-то общество, задумавшееся о том, что же оно строит, рискует остаться без движения, как сороконожка из известной истории. Даже если капитализм и можно было бы строить, его нельзя строить в одной, отдельно взятой стране тогда, когда он «едет с ярмарки» во всем мире в целом, когда Капиталистическая Система начинает слабеть — социально, политически, идеологически, демографически, экологически. Когда ясен надвигающийся кризис, а посткоммунистический Емеля мечтает о том, как бы получить капиталистическую печку, которая вместо коммунистической будет возить его за просто так вперед и вверх. По щучьему веленью. XLIКто-то спросит: а как же российские демократы, которые, как, например, Гайдар III, хотят построить капитализм, призывают к созданию настоящей рыночной экономики, либерального парламентского строя и т. д.? Неужто так и не будет построен капитализм? Ну почему же не будет? Будет. В отдельно взятом банке или казино. Но каждый такой n-капитализм предполагает развитие п2 антикапитализма или некапитализма или асоциальности. А то и п4. Тем более в такой стране, как Россия — не просто антикапиталистической, но антисобственнической. Вообще тезис о «строительстве капитализма» есть не что иное, как фрейдовская проговорка бывших коммунистов. Ставится так вопрос — это то же самое, что планировать построить Античность, Ренессанс, Просвещение. Что из этого выходит? О.Мандельштам так писал об этом: «Если бы граждане задумали построить Ренессанс, что бы у них вышло? В лучшем случае кафе «Ренессанс». Так оно ныне и выходит. Капитализм построен в одном, отдельно взятом кафе, казино, офисе (сколько у нас появилось — рекламы и объявлений по продаже офисной мебели!). Капитализм построен в виде отдельно взятого кафе, казино, офиса, а также различных фондов, новых институтов (учебно-исследовательских), ассоциаций. Точки капитализма, «там, где чисто и светло». И окна на помойку не выходят. Она — дальше. Но она есть, и ее много. Больше, чем было раньше. Это умножение — результат возникновения «капитализмов» в виде отдельно взятых кафе, ресторанов, банков. Социальный процесс, особенно в России, где и так мало вещественной субстанции, а за последнее десятилетие стало еще меньше, это игра с нулевой суммой: если кому-то прибавится, то у кого-то убавится. «Кафейный», «пуантилистский» капитализм с бандитско-эксноменклатурным лицом, т. е. капитализм асоциальный, — это один вариант, одна возможность Мандельштам, однако, упустил другую возможность развития событий строительства Ренессанса — превращение строительства в Репрессанс. И это уже есть. Но репрессанс не централизованный, а приватизированный. Генезис новых структур Русской Власти и Русской Системы, как правило, протекал в форме «гражданской войны» и централизованно-организованного террора. Коммунисты 30-х годов могли смело протянуть руку опричникам 1560-х годов: «А и скликнул бы нас Малюта Скуратов, и мы не оплошали бы». Конечно, не оплошали. Кто спорит? Нынешняя ситуация, как бы нас ни пугали «предчувствием гражданской войны», отличается и от генезиса самодержавия, и от генезиса коммунизма как раз отсутствием и гражданской войны, и централизованного террора. Кто-то скажет: еще не вечер. Похоже, не только вечер, но и ночь миновали, и мы встречаем хмурое утро, а оно встречает нас. Но вот некие компоненты гражданской войны, так сказать, в распыленном, миниатюризированном, локально-симптомальном виде мы имеем. В еще большей степени мы имеем террор, но только не централизованный, не сконденсированный, а опять же распыленно-приватизированный. Асоциализация и специфическая среда, создающая ее и ею создаваемая, порождают и специфический террор в специфической среде: отстрел бизнесменов, криминальных авторитетов, просто бандитов. Это и есть важный аспект генезиса новой системы, рождающейся как передел Субстанции и субстанции. И опять в глаза бросается точечный, пуантилистский характер процесса, который соответствует возникающему миру. В нем и конфликты, и гражданские войны (точнее, то, что так называлось раньше), и террор, похоже, будут носить точечный характер. Вот в этой точке — террор, гражданская война. А рядом — на другой улице или за 200 километров — все тихо. Не зоны войны и зоны мира, но — точки того и другого. Пуантилизация, камерализация конфликтов да и вообще социальных процессов, сегментация ранее единых классовых «кубов» на этнокультурные, религиозные и т. п. «кубики» — знамение эпохи. Small is beautiful — вот лозунг НТР и ее мира. Сейчас в России — энтээровской без НТР — социогенетический террор, затрагивая многих, охватывает в целом небольшой сегмент общества, протекает главным образом только в нем. Но ведь и энтээровское производство благодаря своей наукоемкости способно включить в себя очень небольшой процент населения. Так в эпоху НТР в ее шеренги становятся даже те, кто непосредственно к ней не имеет отношения. Она задает коридор — довольно узкий, ведь НТР, по определению, средство «исключения из прогресса». Если НТР была западным аналогом русской ВТР — властно-технической революции — 1917–1929 гг., то похоже, ныне в России «великая криминальная» или просто асоциальная революция во многих отношениях является нишевым аналогом НТР. Можно сказать и так: чем дальше от экономического ядра Капиталистической Системы, тем сильнее асоциальный аспект энтээровской эпохи, тем больше «идолопоклонники» страдают от язв «христианства», то бишь «энтээрства». Камерный, кафейно-ресторанно-офисный характер как террора, так и «строительства капитализма» в сегодняшней России очевиден. Некамерной может оказаться реакция на эти камерные процессы, «антиренессансный» репрессанс, но это отдельная тема. Неужели только в том и заключалась миссия российских посткоммунистических капитализаторов-реформаторов, чтобы обеспечить какой-то части эксноменклатуры, бывших теневых дельцов (и себе, разумеется) построение капитализма в «одном, отдельно взятом кафе, банке, фонде», чтобы добиться триумфа капитализма в наиболее подготовленных для этого точках русского пространства? Это и есть программа-максимум нынешней фазы Русской Истории? Думаю, нет. Человек предполагает, а Бог — Русский Бог — и История располагают. «Построение капитализма» у нас может быть программой-максимум в краткосрочной перспективе, в неких точках и для отдельных групп. С точки зрения долгосрочной перспективы и русского пространства в целом это, пожалуй, даже не столько программа-минимум, сколько некое средство. Средство разрушения одной (некапиталистической) структуры этой системы. А что может быть лучшим средством разрушения некапиталистической структуры как не капитал, не рынок, не товарно-денежные отношения? Ничего. Это прекрасно понимал еще Аристотель, противопоставлявший экономику и хрематистику. Его знаменитое: «Физика, бойся метафизики!» — можно перефразировать: «Экономика, бойся хрематистики!» (и наоборот). И не случайно слабеющие некапиталистические структуры вообще и Русской Системы в частности подрываются, добиваются капиталистическими или капиталоподобными формами; последние подводят старую структуру к пропасти, ну а смута (революция) уже сталкивает в нее эту структуру, причем — внимание — вместе со всеми теми новыми капиталистическими, рыночными формами, которые успели развиться. Мавр сделал свое дело. Правда, сам мавр не понимал, что он слепой, вторичный агент, полагая себя агентом самостоятельным. Но иначе и быть не может — иначе мавр не взялся бы за дело. И еще одно: в ограниченной временной перспективе иллюзии мавра не были иллюзиями, это была реальность. Иллюзорной, ошибочной была экстраполяция этой реальности за рамки указанной перспективы. Грубо говоря: в одном, более узком измерении мавр работал на себя и на капитал, в другом, более широком, как оказалось, — на Русскую Систему и против себя. Классический, крайний, самоубийственный пример — люди типа Саввы Морозова. Смертельная схватка реформаторов (революционеров), с одной стороны, и наиболее реакционных, охранительных элементов данной структуры — с другой — вот что добивает ее окончательно. И те, и другие — каждые по-своему — главные враги умирающей структуры. Они расчищают пространство. А занимает его «третья сила». Не социалисты и не Колчак. Не националисты и не интернационалисты. Не революционеры и не контрреволюционеры. Не демократы и не патриоты. Третья сила. Но самое главное — не слепые агенты, а зрячие. Полагаю, по иронии истории в долгосрочной (а может, даже и в среднесрочной) перспективе, российские демократы—реформаторы—капитализаторы конца XX в., независимо от их воли и представления, суть худшие враги капитализма и демократии. Впору писать книгу «Друзья реформ и как они воюют против капитализма и демократии». Это — странный вывод? Нет, это — странный мир, в котором мы живем, мир нелинейный и неодномерный, мир социального сквоша, где никогда не знаешь, куда отлетит мяч. Нам не дано предугадать. Похоже, наши реформаторы конца XX в., как и реформаторы конца XIX в., объективно выполняют в Русской Системе и для нее роль ледокола. Они устраняют препятствия на пути в «будущее в прошлом». Их задача — вести в будущее, не раскрывая того, где оно находится. Да они и сами этого не знают: самый эффективный обман — это тот, что основан на самообмане, субъективном или объективном. Конечно, в самом общем плане «будущее России» в моменты исторических разломов как бы известно — это универсальное будущее всего «передового человечества». В начале XX в. этим «передовым человечеством» считался пролетариат, хотя именно тогда он им уже переставал быть как раз в том смысле, в каком это имелось в виду — ведь он буржуазифицировался. 100 лет спустя «передовым человечеством» кому-то в России видится буржуазия — как раз тогда, когда капитализм вступил в осень, когда буржуазия все буржуазия все более дебуржуазифицируется. Что за дела? Создается впечатление бега по льдинам, причем каждая новая льдина оказывается треснувшей и разъезжается, обнажая страшную темную воду. Вместо взлета — падение, провал. Льдины — разные; принцип прыжков реформаторов и революционеров (это две разные стратегии слома, имеющие одну цель — уничтожение старой системы) — одинаковый: не туда. XLIIИтак, Октябрьский переворот-2 (1993) замкнул пространство капиталистической эпохи Русской Истории, которое когда-то отомкнул Октябрьский переворот-1 (1917). Между двумя октябрями и пролегла в России капиталистическая эпоха, но без капитализма. В пореформленное время в России был капитализм, но сама эпоха не была капиталистической. Язык не повернется так ее назвать. Нет таких определений, как «капиталистическая Россия», «Россия капиталистической эпохи» и т. д. И не только потому, что уровень тогдашнего развития капитализма в России был существенно завышен историками — как либералами, так и марксистами; что развивался гигантский госсектор, который не был капиталистическим в строгом смысле этого слова, уж самодержавное-то государство капиталистическим точно не было. Наличие некапиталистического государственного сектора впоследствии существенно облегчило жизнь большевистскому режиму. Пореформенная — т. е. после реформы, постреформенная — эпоха, посткоммунистическая эпоха — названия не случайные. Они точно указывают на то, что у этих эпох нет какого-то одного всеопределяющего, всеохватывающего собственного качества: например, капитализм, наличие капитала не исчерпывают качественную характеристику русского общества после реформ, имеются и иные характеристики и качества. Но даже в совокупности они не создают некоего единого качества. Повторю: нет термина «капиталистическая Россия», или «буржуазная Россия». Потому и приходит на помощь спасительное «пост», иными словами, эпоха определяется не сама по себе, не из самой себя, не из своего содержания, а относительно иной эпохи, по иному качеству, которых уже нет. Но такое по линии отсутствия самостоятельного качества сходство — не единственное, что объединяет пореформенную и посткоммунистическую эпохи. Как тогда, так и ныне капитал существовал в России, но не для России, не для Русской Системы. Или скажем так: отрицательный аспект его деятельности намного превосходил положительный. Конечно, положительный момент тоже наличествует, он заключается в том, что капитал довольно быстро создает для системы вещественную субстанцию, которой в ней всегда мало и которая ей необходима, особенно в критические, переходно-перестроечные времена, когда требуется материальная база для будущего, «жирок» на время потрясений. Вот тогда-то и раздается: «Господин буржуй, пожалуйте! Чего изволите-с? Водочки, икорки, конституции, проституции, парламентаризма, либерализма?» Пока пусть наслаждаются — потом, когда им споют песенку «Подойди буржуй, глазик выколю», — они узнают. Здесь четко просматривается логика Русской Системы. Ленинский шаг к нэпу целиком находится в рамках этой логики. Во всех случаях, однако, капитал не включил, не мог и не сможет включить в свои процессы огромную массу населения. К тому же он в такой массе и не нуждается. А следовательно, подавляющая часть населения, притом воспитанная в антикапиталистическом духе, остается вне его, вне его социального контроля. Капитал(изм) не может обеспечить решение центральной, системообразующей задачи Русской Системы — двоякой задачи социального контроля над популяцией и темпорализации пространства. А потому: Adieu, Capitalisme! Нет, не случайно эпохи, когда в России развивался капитализм, не именуются капиталистическими: капитал не мог обеспечить именно целостный социальный контроль в обществе и над обществом. А потому требовалось усиление некапиталистических организаций, репрессивных структур. Не случайно также и то, что капитал, формы, связанные с капиталом-субстанцией — частная собственность, гражданское общество, представительные органы власти, партии и т. д., — оказывались сильны в России в значительно большей степени отрицательно: как деструкторы, разрушители отживающей структуры. Вообще, если посмотреть на всю историю Русской Системы России/СССР, то становится очевидно: капитал и представительные органы (или то, что эквивалентно им, похоже на них) возникали всякий раз в период системного или структурного надлома, или даже ослабления Власти, независимо от того, самодержавие это или коммунизм; возникали в периоды смут, будь то Смута, разразившаяся со смертью Ивана Грозного, или начавшаяся в 1861 г., или заявившая о себе в середине 1980-х. А затем они отмирали, рассасывались. В лучшем случае сохранялась форма, но уже с иным содержанием, не имеющими никакого отношения к прошлому — цирк уехал, осталась только афиша: «Куда уехал цирк, он был еще вчера»? В никуда. Возникновение капиталистических или паракапиталистических форм в России есть признак упадка существующей структуры и явление объективно, для системы выполняющее роль социального терминатора прежней, уходящей структуры. Но как только новая некапиталистическая структура встает на ноги, праздник капитала, партий, парламентов заканчивается — более («Караул устал») или менее вежливо. То, что воспитанное на идеях и представлениях XIX в. либерально-марксистское, универсалистско-прогрессистское сознание воспринимает в Русской Системе и Русской Истории как ростки нового a la капитализм, есть не что иное, как очередной побочный продукт очередного ослабления и разложения еще существующей, но уже отходящей структуры Русской Системы, ее власти, размагничивания магнитного поля ее социального контроля. Не потому ли у капиталистических форм в России всегда есть душок социального разложения, упадка, социального нездоровья, надрыва, политического канкана, криминальности? Ограничение Русской Власти, Центроверха, будь то в форме боярской олигархии или конституционно-парламентского строя, происходившее в периоды ослабления власти и как ослабление, приводило к нескольким последствиям. Во-первых, власть обрастала дополнительными полуорганами-полуформами, что делало систему управления более громоздкой, но не более эффективной, напротив. Во-вторых, в обществе усиливалась эксплуатация (как в отношениях между господствующими и угнетенными группами, так и внутри самих групп) — у власти не было средств, как следует контролировать и ограничивать этот процесс в своих интересах, которые, однако, в данном случае совпадали с интересами населения. В-третьих, недостаток контроля объективно вел к росту преступности, криминализации, приобретавшей тем более крупные размеры, что целые сегменты ослабленной власти выпадали в нелегальную зону как структуры неконтролируемого более насилия. Таким образом, рост классовых форм и эксплуатации, с одной стороны, и рост криминализации — с другой, в Русской Системе суть два социально-экономических лика одного и того же явления, два аспекта одного и того же процесса — ослабления Русской Власти, ее энтропии. Ограничение центральной власти (регионализация, парламентаризм) и рост квазиклассовой или просто классовой эксплуатации/криминализации, таким образом, наносят удар не только по самой Власти, но и по неклассовой (негативно-классовой) ткани общества, рвут ее — со всеми вытекающими последствиями. Создается впечатление, нуждающееся, разумеется, в проверке, что в отличие от капитализма и от Запада в целом, в Русской Системе развитие классовости и освобождение ее от привластности является с точки зрения этой системы, ее собственной меры, показателем упадка, а не прогресса, пути не вверх, а вниз (а если и вверх, но на «социальную Голгофу»). Пути, за который приходится дорого платить формирующемуся классу — Сизифу и системе в целом, отсекающей этот класс с обилием собственных мяса и крови. Принципиально неклассовый, поздневарварский характер русской социальности, «законсервированный» не эволюционным образом, как в обществах АСП, а исторически (причем не один раз), имеет несколько ярких проявлений. В частности, это именно европейские облик и социальная форма дворянства в тот период, когда оно максимально приблизилось к положению класса; европейско-буржуазное оформление русской господствующей классовости, против которого и которой начиная с Павла I активно выступила сама Власть, успешно завершившая свой курс Великими реформами, решившими для нее ряд проблем и отсрочившими на полвека революцию. «Русские революции» суть выступления не против феодализма или капитализма, а против классовости вообще и ее атрибутов с позиций воспроизводящейся неклассовости, неклассовой (или поздневарварской) социальности, оказывающейся под угрозой роста классовой эксплуатации и классовых форм социальности. В условиях такого роста «криминализация» — это на самом деле причудливое переплетение уродливого развития новых эксплуататорских форм и не менее уродливое средство сопротивления как этим формам, так и эксплуатации вообще, как прямой, так и косвенной, опосредованной (рост цен, исчезновение сбережений и т. д.). То, что ныне именуют у нас «криминализацией», есть сложный процесс социальной, квазиклассовой борьбы, обусловленный ослаблением и трансформацией Власти и реакцией принципиально неклассовых форм социальности на эти процессы и их последствия. «Криминализация», с одной стороны, классовость, буржуазификация — как экономическая, так и политическая, с другой — суть две стороны распада Власти насилия и ее приватизации. Однако поскольку Власть при коммунизме выступала как Властепопуляция,[16] ее упадок, распад, приватизация не могли обернуться ни чем иным, как массовой криминализацией, точнее — иллегализацией, поскольку ни масштаб, ни состояние общества («нет теперь закона») не позволяют пользоваться термином криминализация без кавычек. По сути же произошло следующее: неклассовая форма социальности утратила свою положительную организацию. Результат — не дикий капитализм, а экономизи-рованное позднее (предклассовое) варварство, при котором средство решения властных и собственнических проблем только одно — сила, а способ (чаше всего) тоже один — физическое уничтожение. Внешне — капитализм, парламентский строй. Нет «малости» — правового государства, т. е. права и государства, без которых собственность может быть только силой, насилием. Либерализм с помощью кулака — «как таково». Символично и симптоматично: партия с каким названием по иронии судьбы (а может, по логике судьбы — русской?) имеет чуть ли не самую активную поддержку «криминального капитала»? Речь не о том, что парламентский строй и частная собственность — плохо. Напротив — они хороши. Но только там, где они хороши и развиваются органично в течение столетий. Не имплантация чужого, а поиск или разработка собственных аналогов и эквивалентов — вот реальный путь. Там, где бывшие номенклатурщики, теневики и мэнээсы пытаются вырастить характерные для западного общества и его эволюции формы из ничего или из почти ничего, in vitro, ничего хорошего ждать не проходится. Социум утилизует эти социальные изобретения так, что нововведения будут разительно отличаться от замысла и чертежа. Между «новыми русскими», будь то «предприниматель» или «политик», и западным капиталистом не меньше разницы, чем различие в начале XX в. между западным социал-демократом, с одной стороны, и российским социал-демократом ленинского толка — с другой. Этот последний хотя бы фиксировал свою особость с помощью маленькой, в скобочках буковки «б». Может, и нам так: «новый русский (б)» или «новая русская (б)»? Полагаю, следует не рассуждать о том, что сулят России капиталистические формы в экономике и политике в будущем, а прежде всего для начала понять: как, из чего и почему они возникали в нашей истории. Остальные разговоры — после этого. Капиталистические и паракапиталистические формы возникали в порах и из пор Русской Системы тогда, когда начинала всерьез портиться ее кожа, и кожу надо было менять, сбрасывать. Ее потом и сбрасывали — вместе с формами, которые выросли в порах, много потрудились над разрушением социальной ткани и которые в основном таким образом работали на будущее. Получается, что капиталистические формы — нечто вроде злокачественной опухоли на теле Русской Системы; возникают они тогда, когда ослабевает ее иммунитет, когда ломается характерный для нее механизм самовоспроизводства как особого, принципиально некапиталистического целостного многоклеточного социального организма. Однако возможности роста капиталистической зоны-опухоли ограничены. Не набрав ни достаточную массу, ни нужное пространство для собственного развития, эти формы в то же время окончательно подрывают старую структуру и безжалостно выбрасываются вместе с ней. Пока одна структура Русской Системы мутирует в другую, пока ослаблен ее иммунитет, пока нужны чужеродные средства для социального отрицания, до тех пор капиталистические формы получают и пространство, и возможность для маневра. Однако после исторически недолговечного существования они быстро оттесняются или уничтожаются. И так происходило во всех сферах — от экономики до литературы. На смену, например, футуристам, топтавшим классику и реализм, опять приходит классика: новая, с новым, более суровым реализмом. А футуристов — за борт истории. Как гниль, декаданс, упадническое искусство. Но ведь так оно и есть. И не умерить ли наши безграничные восторги по поводу Серебряного века? Значит ли исторически зафиксированная слабость, неприживаемость форм капитала-субстанции, возникавших в России, что они — плохие? Или, наоборот, что система — плохая? Нет, не значит. «Плохой», «хороший» — это не исторические оценки, не говоря уж о том: «плохой» — для кого? «Хороший» — для кого? Скорее это свидетельствует о том, что формы, связанные с капиталом-субстанцией, не были адекватны тем задачам, которые ставились перед Россией внутренними и внешними императивами ее развития. Напротив, адекватны были формы иные, соответствовавшие такой субстанции, которая имела иную, чем капитал, природу. Часто такая констатация вызывает наивно-хитрый вопрос: так что же, значит, Россия обречена на отсутствие или в лучшем случае эпифеноменальность капитала-субстанции (а следовательно, и капитализма) и адекватных ему (как явлению цивилизационного ядра капиталистической системы) представительных форм? Значит, если эти формы и будут существовать в России, то — подобно очагу из сказки о золотом ключике — как нарисованные на холсте? На этот наивный вопрос можно и ответить наивно: а почему должно быть иначе? Только потому, что «в Европах» по-другому? Так и в «африках» — по-другому, чего ж не как в Африке? Контраргументы очевидны: мы христиане, европейцы, белые люди, наконец. Ну и что? Эфиопы тоже христиане, лопари — тоже европейцы, а албанцы — белые люди. Что из того? Но есть и два серьезных ответа, противоречащих один другому и тем самым фиксирующих реальное противоречие — противоречие самой реальности. Ответ первый — утвердительный. Его мог бы дать А.А.Зиновьев: эволюция крупных систем необратима. Иными словами: не видать вам, «ребята-демократы», капитализма как своих ушей. Ответ второй — отрицательный: история — не закрытая система и не фатальный процесс. Тот факт, что нечто не возникало в течение столетий, не означает: так фатально и автоматически будет всегда. История — процесс вероятностный, в ней возможны мутации социальных форм. Так что «вся жизнь впереди, надейся и жди»: приплывет золотая рыбка Истории и исполнит три твои желания. Или пошлет на три буквы. Оба ответа по сути верны. Но между ними лежит не истина, а проблема: что же реально меняется в ходе истории? И меняется ли? Может ли измениться? Путь к ответу — тезис о вероятностном характере истории. Это значит, что есть явления более вероятные, менее вероятные, минимально вероятные и совсем невероятные. Вероятность возникновения и, главное, сохранения того или иного явления, а следовательно, изменения в соответствии с этим системы, в которой происходит этот процесс, как правило, определяется степенью эффективности данного явления для данной системы: насколько эффективно оно решает проблемы системы, соответствует ли основным принципам ее конструкции и логике развития, больше создает или больше разрешает проблем в среднесрочной и долгосрочной перспективе и т. д. Экономические и политические формы капитала-субстанции в российской реальности, в Русской Системе постоянно оказывались неэффективными. И это в эпоху восхождения и расцвета капитализма в мире, в ядре мировой системы. Ныне же ожидать эффективности капиталистических форм, особенно вне капиталистического ядра, вряд ли приходится. Напротив, капитал сам постоянно примеривает некапиталистические одежды. Неужели России так и суждено, по словам Н.Михайловского, донашивать за Европой старые шляпки, как служанке за госпожой? Правда, и в собственных, исконно-посконных шляпках и одеждах не очень-то получается. Но опять же по сравнению с чем и кем? Когда? При каком выборе? Подобные вопросы можно множить. Суть, однако, неизменно в том, что в России субстанционально-капиталистические формы намного больше порождали острых, эволюционно неразрешимых проблем, чем решали или даже предлагали решить. Да, эти формы возникали в Русской Системе, но иначе, чем на Западе, и выполняли для Системы в целом иную функцию, чем там. Так дело обстоит и сейчас. Достаточно посмотреть на русский бизнес и хотя бы на нынешнюю (конца 1995 г.) предвыборную кампанию с ее «партиями», «движениями» и «блоками» («Эк их, дряней, привалило», как сказал бы Иван из «Конька-Горбунка»). Формы, о которых идет речь, играли в нашей истории исключительно важную роль, с одной стороны, в качестве разрушителей отжившего, а с другой (хотя, как я уже отметил, эта функция была менее значительной) — созидателя вещественной субстанции, такой, в таком количестве и в таком темпе, в каких Русская Система ее создать не может, ибо она — по другой части: «ГПУ справку не давало, срок давало». Здесь возможен еще один хитро-наивный вопрос: если согласиться с тем, что в России слабы реальные перспективы капитализма и политических форм, его ядра (именно они всегда подразумеваются, а не политические формы полупериферии и периферии капитализма — мечтают ведь о том, чтобы было как в Англии и Франции, а не как на Гаити и в Колумбии, в Заире и Либерии, в Таиланде и на Филиппинах), если, более того, в среднесрочной перспективе по логике отторжения ее системой «капитализация» ведет к социальному распаду и серьезнейшим потрясениям, что же, значит, нынешние коммунисты правы и следует выбрать коммунизм, а не капитализм? Конечно, нет. Коммунизм — отжившая уже на рубеже 70–80-х годов структура Русской Власти и Русской Системы, оживить его невозможно, но сама попытка реанимации может отбросить Россию назад и резко ухудшить наши позиции в мире, прежде всего — в нашем противостоянии Западу. Отсечение значительных сегментов населения от «общественного пирога», — к сожалению, императив эпохи. Любая власть в России будет делать это в той или иной форме, так или иначе — никуда не денется. Решающий вопрос, таким образом, — форма, проблема метода. Стерилизацию можно проводить при помощи лекарств, пусть горьких, а можно и — как в анекдоте — кирпичом по гениталиям. Как могут проводить отсечение от пирога коммунисты — ясно, мы это знаем из истории, кто не слеп, то видит, как говорил один крупный коммунистический деятель. Но дело даже не в этом. Значительно более важна не конъюнктурная, а историческая проблема выбора. Выбор по принципу «или — или» не всегда правилен. Возможен и такой подход: не выбор между капитализмом и коммунизмом, а отрицание их обоих в пользу новой структуры Русской Системы (или вообще новой системы), соответствующей нынешнему этапу и ближайшей перспективе мирового развития. Другой ответ: капитализм versus коммунизм — такая постановка вопроса некорректна в нынешней ситуации и в принципе, и практически. Где капитализм? Какой капитализм? Полукомсомольский-полубандитский? Какой коммунизм? Есть и другие ответы. Но сейчас я хочу перевести проблему в другую плоскость. Человек, полагаю, не обязан становиться на сторону даже того, что является «прогрессом для данной системы»; как говорил поэт, «ко всем чертям с матерями катись» все прогрессы. Кому-то может нравиться и регресс. Но главное — не в этом. Выбор человека, моральный выбор вообще не лежит в плоскости социальных систем: капитализм или коммунизм, феодализм или рабовладение. Хороших и моральных систем нет. Хороший капитализм? Для кого? Когда? В XIX в.? Нет, феодализм XIII в. был лучше для значительной части населения. Но опять же, «лучше» — это шаткий, «импрессионистический» аргумент. Моральной может быть только личность как субъект, и, хотя субъект создает социальные системы и живет в них, его моральный выбор «откладывается» не в социосистемной плоскости, т. е. в плоскости не системной (классовой социальности), а универсальной. Другое дело — политический выбор. Но даже в этом случае автоматической и априорной увязки с социальными системами нет. Разумеется, если это выбор не между такими системами, в одной из которых политический и моральный выбор возможен, а в другой — нет. Но такой выбор тоже не является социосистемным, это уже выбор с позиции субъекта, универсальной социальности, возможности или невозможности ее реализации. К этому вопросу, равно как и к проблеме выбора под звон «колоколов Истории», мы еще вернемся. Противоречивый и в то же время взаимодополняющий (разрушение старой некапиталистической структуры, ее субстанции и одновременно создание вещественной субстанции, «социального жирка», которым будет питаться новая структура, отрицающая старую) характер деятельности и результативности капитала-субстанции в России хорошо уловил В.И.Ленин. Сначала он выступил против народников, доказывая (и правильно), что они недооценивают уровень развития капиталистического уклада в России (правда, сам Ленин этот уровень переоценивал). Он исходил из того, что капитализм должен создать материальную базу для революции, — эту вещественную субстанцию и поделили впоследствии большевики: «экспроприация экспроприаторов». Однако при всем том Ленин не цеплялся за буржуазно-демократическую революцию, а говорил о возможности в России революции социалистической, т. е. об отрицании капитализма. Он хорошо видел тот общесоциальный разрушительный эффект, который продуцировали капиталистические формы, и интуитивно понял, что это разрушение само по себе сможет стать основой революции. Главное — захватить власть, овладеть формами капитала-субстанции (например, почтой, телеграфом, телефоном). И ленинская стратегия увенчалась успехом. Конечно, была мировая война, был «случай», но он помог подготовленному. При всех ошибках ленинская стратегия строилась на верном понимании и противоречивой деятельности капитала в Русской Системе (Ленин вообще хорошо чувствовал Русскую Систему и Русскую Власть), и различия между капиталом-субстанцией и капиталом-функцией. Он терминов таких не употреблял, но его практические действия точно отражали реальность, вытекали из нее. И если сам Ленин сказал о Марксе, что тот не написал «Логику», но оставил нам логику «Капитала», то о Ленине можно сказать: он не написал ни теорию капитализма или его политических форм («Империализм как высшая стадия…» — полупримитив, полуплагиат; «Государство и революция» — это значительно ближе к делу, но не теория, а руководство к практике), ни теорию Русской Власти. Но он создал новую структуру Русской Власти — с помощью форм капитала-функции, оттолкнувшись от капитала-субстанции и на полную мощь использовав его разрушительный потенциал, его способность создавать социальный динамит антикапиталистической революции. Действительно, лучших разрушителей некапиталистических структур, чем капитал-субстанция и соответствующие ему политические формы, найти трудно. Да и зачем искать — от добра добра не ищут, Тем более если поиск — вернемся к нашим дням — задан; требуются формы, противостоящие коммунизму, исторически отрицаемые им. Ясно, что это формы капитала-субстанции. Их-то и использовали — косвенно, а затем и прямо — те, кто сознательно, полусознательно и бессознательно разрушал коммунизм. XLIIIИнтересно и показательно: для разрушения коммунистических структур (т. е. структур негативной функции капитала) в 90-е годы XX в. использовались формы, в которые, как правило, отливался капитал-субстанция: «рынок» (рыночная экономика), «право» (правовое государство), «многопартийность»; дальше — больше: «частная собственность», «капитал». Ради создания (или построения) всего этого и разрушали дряхлый коммунизм, добивали его, умирающего, со всех сторон и чем попало — как первобытные люди добивали камнями и копьями попавшего в западню и издыхающего мамонта или шерстистого носорога. Формы капитала-субстанции, перечисленные выше, использовались в качестве знамени и провозглашались целью и реформ, и антикоммунистической революции. Вот, оказывается, ради торжества чего было нужно разрушить коммунизм; слов нет, он плох и сам по себе, но цель разрушения — не разрушение так таковое, а комфорт жизни в рынке, в частной собственности и праве. Формы, воплощающие положительную субстанцию капитала, вступили в схватку с формами, в которых воплощена отрицательная функция капитала. И победили, взяли реванш. По крайней мере так было представлено падение коммунизма, а сам он был представлен как тоталитаризм. Пал коммунизм — значит, будет капитализм. Нет? Как так? А тогда что будет? И за что боролись? Схватку форм, о которых идет речь, можно рассматривать и иначе: одни (субстанциональные) формы капитала уничтожили другие, но и сами оказались подорванными и скомпрометированными. Так произошла взаимная аннигиляция всех возможных форм и аспектов капитала. Реванш субстанции — ложный, на самом деле Россия окончательно покидает зону капитализма, и капиталистический круг ее истории замыкается. В этот круг нельзя вернуться. Антикапиталистические русские революции XX в., повторю, отличаются друг от друга тем, что в одном случае функция капитала была использована как знамя и средство для уничтожения субстанции, а в другом — формы, олицетворяющие субстанцию, были использованы для уничтожения негативной функции капитала, ее структур. Последние стали приходить в негодность и уже не обеспечивали социальный контроль в системе и, что не менее, а, быть может, и более важно, уже не выполняли вещественно-десубстанциализирующую задачу — а они ведь и родились как средство выполнения этой задачи! В послесталинское, а в полную силу — в послехрущевское время развернулся процесс накопления вещественной субстанции в коммунистической системе. Процесс этот был массовым и мощным, охватывая все (хотя, конечно же, в разной степени) слои общества — сверху донизу. Реакционный романтик Хрущёв, пытавшийся встать на пути этого процесса своими реформами, был сметен самой логикой истории коммунизма. 60–80-е годы прошли словно под лозунгом Бухарина — «обогащайтесь». За эти годы под зонтиком коммунистических структур был накоплен такой объем предметно-вещественной субстанции (правда, не оформленный как собственность), а процесс обладания этой субстанцией стал столь массовым, что структура коммунистического порядка уже не могла обеспечивать эффективный социальный контроль. Отсюда — судорожные попытки начиная с 70-х годов усилить органы госбезопасности, сверхреакция на диссидентов — это то, с чем КГБ мог справиться, тем более что диссидентов была кучка. Но вот с чем тот режим справиться не мог, так это с вещественной субстанциализацией общества в ее различных формах. Прежде всего с процессами наверху социальной пирамиды — от так называемой коррупции, которая на самом деле была единственной внутрикоммунистической социальной революцией (какой строй, такая и революция) и произошла в брежневское время (если кто и прикончил коммунизм, то, конечно же, не диссиденты, а «брежневские коррупционеры»), — до роста благосостояния широких слоев населения в 60–70-е годы. На рубеже 70–80-х стало ясно: либо благосостояние населения, либо благосостояние Власти. Игра с нулевой суммой. А внеэкономические структуры работают плохо, размякли. К тому же они — двуликий Янус: не только надзирают и карают, но и худо-бедно обеспечивают социальные гарантии массам населений, а следовательно, гарантируют (как могут) и охраняют вещественную субстанциализацию их жизни. И времени все меньше. Цейтнот и цугцванг — ходов полезных нет. Одни вредные. Логически вернуть системе жизнь можно было только экономическим путем, только такая дорога вела к новому храму Русской Власти, к ее новой структуре. Ах, как наивны были реакционеры от коммунизма, охранители-консерваторы. Они-то как раз и гробили то, что защищали. И чем больше защищали, тем больше гробили. И не потому что действовали неумело и топорно. Напротив, сама топорность была обусловлена тем, что они бежали против хода Русской Системы, старались сохранить именно то, что гарантировало крышу подрывавшему коммунизм процессу предметной субстанциализации общества. Они бились за пораженный орган, считая его единственной формой системы. Они не понимали, что у системы нет единственной и вечной формы, у системы есть единственное и вечное содержание, с которым они и спутали форму, к тому же переродившуюся. Да, страшно далеки были они от понимания и Русской Системы, и коммунизма как ее исторической структуры. Косвенно, против своей воли те, кто выступал в конце 80-х — начале 90-х с охранительно-реакционных прокоммунистических позиций, способствовали и тому, чтобы процесс не только «пошел», но и шел все дальше и дальше — до «так победим». Они обеспечили образ врага, придали антикоммунистической революции дополнительный импульс, а в глазах большей части общества — еще более справедливый, привлекательный и даже социально-эстетичный характер. Ну кому в 1990–1991 гг. хотелось бы оказаться в одном лагере с Полозковым и Лигачевым, Янаевым и Крючковым?! Короче, без охранителей-консерваторов, без их деятельности антикоммунистическая революция едва ли была возможна в том виде, в каком произошла. Революциям нужны враги, так же как народу — реликвии (чтобы либо молиться на них, либо уничтожать, точнее — чередовать первое и второе). На то он и народ. То взорвет храм Христа-Спасителя, то построит — как джинн из «Рассказа про Ала ад-Дина и волшебный светильник»: хочешь я разрушу город или построю дворец? Все равно. «Что воля, что неволя — все одно». Один лишь намек на сопротивление со стороны Старого Режима придавал дополнительную энергию разрушения тем, кто стремился к его устранению, обеспечил широкое участие в этом устранении масс населения на стороне «демократов» и «реформаторов». Участие это было главным образом «от противного», не случайно так быстро и так много людей, которые поддерживали демократов, теперь произносят это слово как «дерьмократ». Но это уже неважно. Как говорил слепой Пью из «Острова сокровищ»: «Дело сделано, Билли». Метка вручена. Коммунизм разрушен. «Привет родителям». Этот коммунизм строившим. Но, разумеется, вся эта комбинация получилась стихийно, в силу логики исторического развития вообще и Русской Системы и коммунизма в частности. Она не была неким заговором неких сил, которые в результате ее пришли к власти. Но комбинация эта существенно облегчила демократам, реформаторам от КПСС их борьбу и на каком-то этапе — победу. Одно дело просто что-то строить и перестраивать. Это скучно. Я — ленюсь, как говаривал Емеля. Другое — делать это в борьбе с ультракоммунистами, да еще в обществе, уставшем от коммунизма и полагающем, что с избавлением от этого строя счастье привалит автоматически, только авоськи подставляй. Разумеется, реформаторы по-горбачевски не ставили сознательно задачу демонтажа органов, выступавших в качестве зонта процесса вещественной субстанциализации жизни в позднекоммунистическом обществе. Они думали о более частных и конкретных вещах и целях и о средствах достижения этих целей. А как заметил Махатма Ганди, на самом деле противоречия между целью и средством нет; то, что избирается средством, тут же становится целью. В нашем случае — целью в борьбе за власть, тем более в коммунистической системе, где власть — это одновременно цель, и средство, и высшая ценность. Реформаторы конкретно боролись за власть в рамках осуществления неких изменений, которые были направлены на экономизацию системы и которые объективно эту систему разрушали. Но стремились-то реформаторы субъективно к противоположному — к спасению, укреплению коммунизма. Только не на «реакционно-консервативных», а на «реформистско-революционных» рельсах. И верили в такую возможность. В триумф рыночной экономики и правового государства при сохранении коммунизма. И при сохранении себя у власти. Когда в одной из телепередач, посвященных десятилетию перестройки, М.С.Горбачёва спросили, почему же он не способствовал переходу собственности в руки номенклатуры, он ответил, что вовсе не к этому стремился. Ответил искренне. И действительно, Горбачёв не к этому стремился. А вышло — то, к чему не стремился. Если бы было иначе, то ни Горбачёву, ни тем, кто был с ним, ни тем, кто пришел после, — правящим группам позднекоммунистического СССР и посткоммунистической России — никогда не удалось бы так относительно легко заставить людей принять активное участие в специфической антикапиталистической революции. Кто не знает, куда идет, пойдет дальше всех. Более того, сможет повести за собой: неопределенность и расплывчатость целей есть лучшая карта поисков социальных сокровищ. Или — так: лучшая дудочка для гаммельнского крысолова (социального, властного, разумеется). Я говорю «специфической антикапиталистической», потому что происходила она под квазибуржуазными, затем — буржуазными лозунгами, а еще позже — под знаменем капитала, рынка и частной собственности; потому что в ходе этой революции трудящиеся собственными руками разрушали те формы, которые в известной степени обеспечивали им «зонтик» социальных гарантий. И проводилось разрушение во имя борьбы с «тоталитаризмом», т. е. коммунизмом, «сталинизмом-брежневизмом», со «сталинско-брежневским агрессивно-послушным большинством». Действительно ли реформаторы сознательно стремились ликвидировать систему социальных гарантий, подорвать материальное благосостояние людей, чтобы поставить их под социальный контроль? Нет, ни в коем случае, они думали о другом. Вообще — о другом. И в то же время выполняли часть операции, предписанную логикой развития системы — Русской Системы. Но реформаторы, как, впрочем, и коммунистическая власть, и антикоммунист, и диссиденты, ни эту логику, ни Русскую Систему не видели. Они видели только коммунизм и ничего за ним. О том, что за ним может что-то стоять, им не сообщили. А сами они не подумали. Реализм восприятия реальности всегда имеет социальные ограничения. Ну разве могли какой-нибудь Булганин, Кириленко или Трапезников, а с другой стороны, даже такие люди, как Сахаров или Солженицын, подумать, что за коммунизмом скрывается что-то еще — что-то более крупное. Не могли. Только коммунизм и только капитализм. Иного не дано. Оказывается — дано. На самом деле за капитализмом, например, вырисовывается нечто иное, и А.3иновьев говорит уже (не очень удачно, правда, но в «верном направлении») о «западнизме»; и за коммунизмом вырисовывается нечто иное, более крупное. Но едва ли можно винить коммунистов и антикоммунистов XX в. за то, что они не углядели hidden transcript, некий шифр, скрывающийся за коммунизмом, — Русскую Систему. (Менее простителен просмотр генетической и функциональной связи между Капиталистической Системой и Коммунизмом, но сейчас — не об этом.) Для того чтобы увидеть, для осознания необходим был Момент Истины. Нужно было, чтобы рухнул коммунизм, чтобы пришел день, когда одна эпоха умерла, а другая не наступила и, следовательно, когда можно заглянуть в Колодец Истории. Искривленное Время выпрямилось и сжалось, Зеркало Истории треснуло, и можно уже увидеть не собственное отражение, а то, что было скрыто за зеркалом. Умерла старая структура и еще не оформилась новая, а потому системность, сама система предстала в своей наготе. Как и субъект этой системы. Пройдет немного времени, и пленка затянется, колодец станет непроницаемым, зеркало восстановится. Но пока — пока длится краткий миг-вечность, когда можно подсмотреть за переодевающейся, сбрасывающей, иногда с кожей, одежду Историей, Системой. Замечательно сказала об этом Н.Мандельштам: «В период брожения и распада смысл недавнего прошлого неожиданно проясняется, потому что еще нет равнодушия будущего, но уже рухнула аргументация вчерашнего дня и ложь резко отличается от правды. Надо подводить итоги, когда эпоха, созревавшая в недрах прошлого и не имеющая будущего, полностью исчерпана, а новая еще не началась. Этот момент почти всегда упускается, и люди идут в будущее, не осознав прошлого».[17] Остановиться на миг, на весах Истории почти что равный вечности, остановиться, чтобы заглянуть в Колодец Времени, — вот в чем задача. Императив. Для тех, разумеется, кто хочет не просто знать, но понять. Пока существовал коммунизм, неосознание, о котором идет речь, было простительно, но в момент тектонического разлома истории оно, как и действия по принципу слепого агента, едва ли простительно. Впрочем, Бог простит. Не Русский Бог, разумеется. Просто Бог. Так что же, все действия реформаторов от коммунизма и посткоммунизма — обман и самообман одновременно? Конечно. Причем, и со стороны власти, и со стороны населения. Как такое может быть? За иллюстрациями и объяснениями можно отослать и к рассказу Роберта Шекли «Поколение, достигшее цели», и к Марксу с Энгельсом. Пойдем по непопулярному пути — к Марксу и Энгельсу. В «Немецкой идеологии» Маркс и Энгельс писали, что класс, совершающий революцию и противостоящий другому классу, с самого начала действует как представитель общества в целом, как выразитель всеобщих интересов. Есть несколько причин этой всеобщности. Среди них, прежде всего, — наличие иллюзии общих интересов, которая в самом начале (я бы сказал — краткосрочно и ограниченно) есть не иллюзия, а правда социальной реальности. Вторая причина — самообман идеологов группы, идущей к власти. Без этого самообмана ни сами идеологи, ни восходящая группа не могли бы играть правдиво и убедительно и не смогли бы обеспечить себе широкую поддержку. Еще раз напомню: дальше всех пойдет тот, кто не знает, куда идет. Или, опять же словами Маркса, Крот Истории роет медленно. Человек предполагает, а История располагает. Горбачёв стремился к одному, а вышло другое. Но без того, что делал Горбачёв и к чему он стремился, это другое — наша нынешняя реальность — никогда не возникло бы. Привет от Крота Истории. Не случайно во всех революциях одни группы революционеров довольно быстро сменяются другими, часто кроваво; разыгрывают историю на своих головах и шеях в буквальном смысле слова. Революция есть разделение труда во времени, Мануфактура Времени, где каждая новая группа операций, как правило, выполняется новым агентом, новой силой, часто — на костях предыдущей. Революция — хитроумно-коварный и постоянно изменчивый процесс, когда надо то прибавлять скорость, то сбрасывать ее, резко поворачивать то в одну, то в другую сторону. Как правило, нет ни одной группы, способной воплотить и реализовать все задачи революционного времени: необходимо разделение труда. И организация. Революция как серьезный гешефт объективно потребовала профессионалов — профессиональных революционеров и их организацию. Не случайно Современность родилась вместе и одновременно с профессиональным революционером, которого создали якобинцы. Профессиональный революционер — это универсальный бюрократ-антибюрократ, предельно, до негатива воплощающий автономию функции капитала. Слепив профессионального революционера, якобинцы, однако, не смогли создать адекватной ему организации. В этом заключалось одно из главных противоречий якобинства и одна из причин поражения якобинцев. Организацию профессиональных революционеров создали большевики, точнее — необольшевики, и этот сдвиг в эволюции революционаризма стал качественной вехой в истории Современности. Большевистский функционер по негативу и в абстрактном виде предвосхитил многие черты управленцев-менеджеров эпохи функционального капитализма, супербюрократов. Хотя сам большевизм привел к становлению антибюрократического по социальному содержанию и «принципам конструкции», т. е. отрицающего политику и государственность (подр. см. ниже) строю. Изменения в организации революционеров (а также преступников) на шаг, на полшага опережали изменения в организации социальных и духовных производительных сил общества, поскольку не были связаны материальными формами и институтами в той степени, как она. Аналогичным образом, левая мысль, как правило, развивалась быстрее, интенсивнее и была на порядок более сложной и интеллектуальной (хотя тоже во многих отношениях зашоренной,[18] чем правая или центристская (последняя представляла собой, как правило, интеллектуально наиболее убогий, заземленный вариант, интеллектуальную жвачку). На историю Современности можно и должно взглянуть и под негативно-организационным, революционно-криминальным углом. Настоящую такую историю еще предстоит написать. В известном смысле Современность создали, «испекли» революционеры (а тесто замесили в Старом Порядке), и качественные сдвиги в истории Современности фиксируются как сдвиги в деятельности и организации революционеров (хотя, конечно же, не сводятся к последним). Революционеры — пионеры капитализма? Капитала? В долгосрочной социосистемной перспективе — да. Революции действительно суть локомотивы Истории — европейской, субъектной и особенно капиталистической, современной ее частей. В революциях, как и в войнах, выковывались и обкатывались, часто в негативном, но потому и в предельно обостренном, чистом виде, многие новые формы, которые только впоследствии (и посредством этого обкатывания) обретали материальную или институциональную форму. Война (а революция есть социальная война) — отец всего? В Европе — почти всего. Можно уверенно говорить не только о революционной истории Современности, но и о том, что эпоха капитала — это эпоха революций. Капитал сам революционен. Еще и поэтому он социоэкзистенциально нуждается в некапиталистических (докапиталистических, а впоследствии антикапиталистических) формах, используя их разным образом. Докапиталистические (паракапиталистические), старопорядковые формы используются и как балансир, противовес собственной избыточной субстанциональной революционности капитала; и как проводник этой революционности, направленной против масс; и как средство борьбы с функциональной (социалистической) революционностью самого же капитала. Антикапиталистические формы, функциональная (социалистическая, коммунистическая) революционность используются и как союзники в борьбе против Старого Порядка; к тому же очень удобно направить борьбу против некоей структуры, используемой капиталом, но скорее внешней по отношению к нему; и как объективный союзник в борьбе против масс непосредственно (когда речь идет, например, о крестьянстве) или опосредованно (когда рабочее движение посредством социалистических организаций не только борется с капиталом, но и интегрируется в его систему). Таким образом, капитализм использует некапиталистические формы и друг против друга, нейтрализуя их и таким образом расширяя поле для накопления капитала. При этом активно используется дихотомия «мировое» — «национально-государственное». Хотя, разумеется, вся эта игра не лишена риска и многих опасностей. Но именно поэтому революции и разбиваются на совокупность временных операций, у каждой из которых есть свой персонификатор. Итак, революция — это не труд ремесленника, в одиночку выполняющего все операции. Это — мануфактура, где на место одной группы обманщиков-самообманщиков, убийц-самоубийц, гуманистов-злодеев, мудрецов-глупцов приходит другая, где сменяют друг друга различные технологии власти и мифы. Революция — это цепь самообманов, постепенно переходящих в обман. При этом склонные к самообману постепенно уничтожаются или, в гуманных случаях, вытесняются обманщиками, которые — как крайний трехчетвертной в регби, добежавший до углового флажка, приземляет мяч в зачетном поле команды-соперника — и побеждают. Побеждают последние. Тот, кто приходит и смеется последним. Вот эти «приземлившие» революцию и суть победители, а приземление есть ее конец. Последняя волна социальной бури, после которой самообманываться уже не надо. Надо только обманывать и создавать институты или органы обмана и его силового обеспечения. Таков циничный бизнес революций — с его дантонами и робеспьерами, парвусами и лениными, сталиными и ждановыми, бериями и фуше. В ходе последнего десятилетия первыми с дистанции сошли самые реакционные и самые романтичные самообманщики-циники — коммунисты-охранители, которые своими действиями спасали отжившую структуру, но подрывали Русскую Систему и принципы ее функционирования. В фильме «Служили два товарища», одном из самых сильных советских фильмов о гражданской войне, сильных, потому что там показано, что в гражданской войне с обеих сторон погибают лучшие, есть такой эпизод. Разжалованный за самосуд красный боец, которого играет Ролан Быков, кричит (цитирую по памяти): «Пусть белые гады не радоваются. Мы умрем севодни. Они умрут завтри». Реакционеры-охранители коммунизма вполне могли бы сказать подобное демократам-коммунистам. Последние действительно умерли — с властной точки зрения — «завтри», почти что на следующий день. Августовский (1991 г.) путч оказался «двумя шарами в лузу»: «реакционеры-коммунисты» и «демократы-коммунисты» притиснули и по сути уничтожили друг друга, и их засунули на покой в темный ящик Истории. В следующей схватке (сентябрь—декабрь 1993 г.) взаимно нейтрализовали друг друга «посткоммунисты-демократы» и «посткоммунисты-реакционеры», расчистив дорогу третьей силе — новой Русской Власти, которая, будто слезши с печи, начинает лепить новую структуру Русской Системы. Этой власти словно Русский Бог послал успех Жириновского в декабре 1993 г.: опять одним ударом — два шара в лузу: и Запад, который после октябрьских событий начал было возмущаться, притих, устрашенный ВВЖ; и Гайдар слетел — да как! «Посредством честной демократической процедуры парламентских выборов» — смотри Запад и дивись — с демонстрацией убийственных результатов по телевидению во время демократического пира несостоявшихся победителей. Русская История, как правило, отсекает края. Как говорил К.Победоносцев, Россия — тяжелая страна, ни революция, ни контрреволюция здесь не проходят. Более того, часто уничтожают друг друга. Кто добил Учредительное собрание, разогнал социалистов? Большевики? Нет. Колчак. А уж его кончили большевики, которые, под определенным углом зрения, выступили как «третья сила» в борьбе революционеров-социалистов и контрреволюционеров-реакционеров. Большевики выступили как одновременно и революция, и реакция. Но «и-и» в данном контексте означает «ни-ни», а следовательно, некое иное качество. В России, как правило, проходит третья сила — Русская Власть, которая интуитивно избегает крайностей и пожинает плоды сделанного революционерами и контрреволюционерами, демократами и реакционерами, интернационалистами и патриотами, сваливает на них вину за все и начинает исправлять ошибки и восстанавливать разоренное и перераспределять оставшееся. Восстановление, исправление и перераспределение — лучший повод и лучшее средство установления социального контроля и самоупрочения Власти. Русская Власть — это всегда исправитель ошибок (а следовательно, Учитель), восстановитель (а следовательно, Организатор) и перераспределитель (следовательно, Хозяин). Общий знаменатель для этих функций — Контролер. Контроль и учет — вот суть и принцип Русской Системы и Русской Власти. И побеждает в борьбе тот, кто независимо от бытности в прошлом революционером или реакционером, реформатором или охранителем, становится Русской Властью, которая не есть ни политическая сила того или иного блока, ни некое движение «левое» или «правое». Русская Власть — это всегда центр (но не в смысле центризма), это середина, стремящаяся охватить не только Русскую Систему, но и Русскую Историю. Капитализм — это всегда пикник на обочине Русской Истории, не более того. Этот пикник допускается Системой, чтобы потом столкнуть его участников в кювет, использовать толчок как энергию движения да оставшейся на обочине вещественной субстанцией подпитаться, зипунишками разжиться. Принцип «контроль и учет» не Ленин выдумал, а Русская Власть. Выдумала, а затем реализовала в виде Системы. В этом смысле Владимир Ильич — наследник и верный ученик московских Даниловичей. XLIVИ это не плохо и не хорошо. Власть, как и Капитал, не есть ни добро, ни зло. Она просто есть. И у нее есть своя логика. Горе тем политикам, которые этой логики не понимают. А как же тогда призывы к «правовому государству» и «рыночной экономике», «частной собственности» и «капиталу»? Я уже сказал о самообмане. Теперь несколько слов о его основе. На рубеже 70–80-х годов не было практически ни одной группы в советском обществе, включая верхушку, властвующий слой, которая не понимала бы необходимости изменения, модификации коммунистических структур. С этой точки зрения различий между теми, кого стали называть «реакционерами», «охранителями», и теми, кто вошел в историю как «демократы» и «реформаторы», не было. Не случайно планы перестройки начали разрабатываться по указанию Ю.В.Андропова. Другое дело, что одни стремились к модификации (укреплению) внешнеэкономических, властных архаичных структур (и были правы — Русская Система может быть основана только на внеэкономической власти), а другие — к устранению последних, отрицали ведущую роль этих структур (и тоже были правы, поскольку эти структуры в конкретном их виде в силу своей дряхлости и несоответствия состоянию общества ведущими быть не могли). Но одновременно и те и другие по-своему: «Егор, ты не прав»; «Михаил, ты не прав», — были не правы: реформаторы-экономизаторы были не правы, потому что считали: новую структуру можно построить на экономизированной основе, создав экономизированный коммунизм. Охранители-консерваторы были не правы, полагая, что сохранение системы — это сохранение тех внеэкономических структур (КПСС, СССР), которые конкретно имелись в наличии: но эти-то структуры и пришли в противоречие с логикой развития системы в целом. Главное противоречие охранителей-реакционеров периода перестройки заключалось, таким образом, в правильном — в целом — акцентировании внеэкономических, властных основ и ошибочным — в частности — упором на сохранение их внеэкономическими же методами. Главное противоречие реформаторов было другим: верное — в частности — понимание неадекватности данной внеэкономической структуры, невозможности сохранить ее внеэкономическим путем, при ошибочном — общем — представлении, что новая структура и система в целом могут основываться не на власти, а на экономических отношениях, на собственности, на вещественные факторы производства. Иными словами, одни ошибались в том, что касается статики, другие — динамики; одни не понимали сути Системы (правда, при этом отождествляли структуру с системой), другие — сути перехода от одного системного состояния к другому; и никто, похоже, не понимал, что кризис «застойной структуры» есть кризис коммунизма как одной из исторических структур Русской Системы. Противоречие в рамках господствующей группы советского общества пролегло по линии: целое — часть, цель — средства, система — метод, динамика — статика, и каждая из этих оппозиций обрела своих исключительных и непримиримых носителей, вступивших в борьбу друг с другом как с оппозиционерами. Ясно, что, например, «разделение труда» и борьба между «динамистами» и «статистами» обездвиживает систему; борьба между «системниками» и «методологами» лишает систему и содержания, и средств развития. И т. д. Эти непримиримость, антагонизм, раскол внутри самой господствующей группы культурно-психологически означают ее неспособность отличить структурный кризис от системного, структуру — от системы; социально означает сегментацию этой группы, утрату целостности, а следовательно, жизнеспособности. В совокупности же все эти противоречия суть показатели глубокого системного кризиса, всеохватывающий характер которого испытывает каждый элемент — при отсутствии реальных средств его разрешения или при нейтрализации их теми, кто усматривает в этих средствах нечто чуждое природе данной системы или структуры. Но логика генезиса новых систем и структур в том-то и состоит, что они не могут возникнуть адекватным им системным или структурным способом — «когда вещь начинается, ее еще нет» (Гегель). Поэтому генезис любой системы или структуры антисистемен и антиструктурен. Возникнуть можно, опираясь только на то, что сопротивляется, на противоположность. Потому-то столь велика в возникновении систем роль таких факторов, социальная природа которых чужда данной системе в ее нормальном функционировании. Например, роль внеэкономических факторов в возникновении управляемой экономическими законами системы капитализма, отсюда: сначала первоначальное — некапиталистическое (генезис) — накопление капитала, а затем уже — капиталистическое накопление, накопление капиталов. Перестройщики-реформаторы («горбачевцы») боролись, во-первых, против своих оппонентов, перестройщиков-реакционеров; во-вторых, за то, что они понимали как создание новой коммунистической структуры. Поскольку они не понимали, что коммунистическая система себя исчерпала, что кризис носит системный, а не структурный характер (судя по словам, произнесенным у трапа самолета сразу же в августе по возвращении из Фороса, М.Горбачёв не понял этого даже в августе 1991 г., после путча), постольку даже сами их успехи подрывали коммунизм, гробили его так, как не могли подорвать и дробить неудачи. Это был бег вверх по лестнице, ведущей вниз. Или так (словами Н.Коржавина): Но их бедой была победа, Борьба за спасение и экономизацию коммунизма окончилась его демонтажом, после чего логически встала следующая задача — демонтажа советской системы. Но прежде чем ушел в небытие коммунистический порядок, в своей борьбе «за» и «против» реформаторы должны были найти опору для отрицания, то, от чего и чем отталкиваться. Требовалось социальное оружие. Им-то и стали формы, производные от капитала-субстанции. Сначала, еще в перестройку, заговорили о «правовом государстве», «рыночной экономике» и «многопартийности». Разумеется, и то, и другое, и третье — социалистические, никакого капитализма. Но слово было сказано. А дальше, хотя и не как по маслу, пошло по логике сказки «Лисичка со скалочкой». Осенью 1991 г. резко активизировались разговоры о частной собственности, о просто рыночной экономике, о переходе к рынку и демократии (от тоталитаризме), о капитале. Так сказать, от триумфа «Капитала» Маркса к триумфу капитала. От идей к материи. Выбор всех этих связанных с капиталом-субстанцией форм и лозунгов не был случаен. Более того, он был правильным и единственно верным для логики развития Русской Системы, которая отработала и исчерпала коммунизм как свою историческую структуру (как когда-то коммунизм отработал, например, хрущевизм как свою историческую структуру). Часть позднекоммунистических и посткоммунистических лидеров инстинктивно, интуитивно поняла: единственное реальное оружие против негативной функции капитала и ее структур, отработавших свое, выработавших свой ресурс, — это формы капитала-субстанции. Иного не дано. Точнее, даже не столько формы, сколько лозунги, «чистые идеи», эйдосы этих форм, потому что, во-первых, самих форм в России не было, их надо создавать; создание этих форм и провозгласили главной целью, главным средством передвижения по дороге, которая ведет к Храму Светлого Будущего (кстати, Светлое Будущее в одном, отдельно взятом храме, для ограниченного контингента постсоветской элиты построено. Храм Христа Спасителя — лучшее средство помещения капитала, а следовательно, путь в Светлое Будущее, для себя, для детей, для внуков — «ино побредем еще»). Другими словами, реальным структурам, их идеям и лозунгам, правда, во многом истончившимся почти до фикций, были противопоставлены скорее фикции форм, чем сами формы. И ради фикций, в который раз в России, свершилась революция. Ну что ж, не случайно наша литература дала Чичикова и Бендера. Во-вторых, субстанциональный капитализм уже почти 80 лет как мертв, его прах развеян на полях мировой войны 1914–1918 гг. И еще: помимо того, что в СССР на рубеже 80–90-х годов по сути не было никакой субстанции, соответствовавшей капиталу-как-субстанции, факт смерти субстанционального капитализма был большим плюсом: капиталистические лозунги можно было использовать, не опасаясь последствий. Мертвецов нельзя воскресить. Ну а воскресший мертвец — это зомби, им легко манипулировать. Сможем ли мы сейчас вспомнить фамилии наших «капиталистов» конца 80-х годов, людей, которые «создавали» клубы миллионеров? Где они? Где их «Рога и копыта»? Не сможем — фамилии марионеток и зицзаседателей плохо запоминаются. Разве что одно—два имени. Короче, любые капиталистические и паракапиталистические лозунги, цели и ценности как символы капитала-субстанции были обречены на существование в социальном вакууме, на то, чтобы раньше или позже быть скомпрометированными и стать ненавидимыми. В процессе антикапиталистической революции, протекавшей и представленной как капиталистическая, идеи и институты, связанные с капиталистической субстанцией, действительно оказались скомпрометированы. Как теперь звучат слова «рыночник», «реформатор», «демократ»? То-то. Слово «демократ» стало для многих столь же позорным, как слово «интеллигент» в 20-е годы. А ведь и те и другие готовили революции, боролись. За что боролись, на то и напоролись. Чаадаев говорил, что Россия, возможно, и существует для того, чтобы на своем примере преподнести миру урок. В 1917–1929 (и шире — в 1917–1991) гг. его слова подтвердились. Триумф асоциала, если он окончательно состоится, может стать еще одним уроком. Но вот урок, который, похоже, уже состоялся, заключается в следующем. Россия в лице большевиков была первой страной, вошедшей в XX в. посредством властно-технической революции. В конце календарного XX в. Россия опять оказывается в авангарде в том смысле, что показывает господствующим в мире группам, правящим элитам Капиталистической Системы не только путь к выходу из XX в., но и методы: переход к некапитализму под капиталистическими лозунгами и знаменами. Если посткоммунизм и посткапитализм совпадают, то путь к антикапитализму под антикоммунистическими и капиталистическими лозунгами — это ловкий ход, в котором словно сливаются в экстазе обман, самообман и наивная вера в «светлое капиталистическое будущее». Поразительно, но наши сторонники капитализации России (а подавляющее большинство из них бывали на Западе не раз и не два или даже живали там) акцентируют в качестве модели экономические и политические формы субстанционального капитализма у нас в стране, когда он уже давно почил в капиталистической системе, когда он уже приказал долго жить! Использование дедовской формы в эпоху внуков — это путь от капитализма. Парадокс, но в реальности всякое непосредственное, вещественно-субстанциональное приближение России к капитализму на самом деле отдаляет ее от него. Но это парадокс только внешне. Он может существовать лишь как материализация действий, основанных на убеждении: есть только один бог — капитал(изм), Запад — пророк его, и все остальные должны следовать этим путем. На самом деле это не так. Богов по крайней мере два: Капитал и Власть, и пророков тоже два — Запад и Россия; и есть два варианта развития христианского исторического субъекта. И как только делается попытка подогнать одно развитие под другое, происходит контрреакция удаления: эффект наступления на грабли. Система восстанавливает равновесие, отсекая крайности. Коммунизм значительно ближе к энтээровскому капитализму, чем субстанциональный капитализм. Отказ от коммунизма ради такого капитализма был бы социальным регрессом, отказом от всего нашего опыта XX в. Без этого опыта невозможно вступить в XXI в. Более того, мы до сих пор еще не начали как следует изучать этот опыт — историю СССР, КПСС, идейное наследие большевизма (прежде всего — Ленина). Что же касается периода, определившего XX в. вообще и наш XX в. в частности — «длинные 20-е» (1914–1934), то о них вообще почти не вспоминают. А ведь мы, по-видимому, въезжаем, если уже не въехали, в сравнимо-эквивалентный отрезок Истории, борьба и расклад сил в котором определят XXI в. Еще один вопрос: как создавать субстанциональный капитализм в одной, отдельно взятой стране, когда уже почти закончил свой путь функциональный капитализм и когда возникает новое явление, по форме еще позднекапиталистическое, но суть которого — производственное снятие противоречия между субстанцией и функцией капитала, т. е. устранение стержня капитала, а следовательно, и его самого. Но к такому состоянию покойный коммунизм был опять же значительно ближе, чем капитализм! Получается, мы кричим: «Симсим, откройся», — именно тогда, когда другие говорят: «Симсим, я хочу выйти». Конечно, у кого-то может теплиться надежда подобрать оставшееся на пиршественном столе. Но, во-первых, похоже, к моменту, когда мы сядем за стол, там уже ничего не останется, и сам пиршественный стол капитализма окажется разбитым корытом. Во-вторых, крошки подбирать унизительно. В-третьих, почему сторонники панкапитализации России полагают, что ее пригласят к пиршественному столу, легко допустят на мировой рынок, создадут благоприятные условия? Капитализм, Запад — не филантропы и не русофилы, конкуренты им не нужны. Улыбки Запада времен перестройки и антисоветской (1991–1993) революции не должны вводить в заблуждение. Улыбка обнажает острые зубы. Да и сама она часто похожа на улыбку Чеширского кота — улыбка есть, а кота, т. е. реального содержания за ней, нет. Точнее, нет такого содержания, на которое многие наивно рассчитывали как на благодарность за освобождение от страха ядерного уничтожения за демонтаж коммунизма. Тем, кто верил в бескорыстно-корыстную помощь Запада, можно сказать: «Ну что, сынку, помогли тебе твои ляхи?» Ляхи в переносном смысле — Запад — не помогли, ляхи в прямом смысле просятся в НАТО. Да и Россия даже по своим очертаниям ныне оказалась не в том положении, которое обеспечивает хороший старт и выгодные условия конкуренции в brave new world позднеосеннего капитализма. XLVТак где же она оказалась по окончании самой динамичной, грандиозной (по крайней мере, внешне) и насыщенной фазы Русский Истории — коммунизма? На первый взгляд, кажется логичным предположить, что, «покинув» коммунизм, сбросив его «красные одежды», Россия уже в «белых одеждах» как бы вернулась в 1913 г. Будто и не было 74 лет, а был сплошной кошмар, нелепое отклонение, а ныне вот все возвратилось «на круги своя». Мы словно стартуем заново с 1913 г., как если бы существовала непосредственная преемственность между 1913 и 1993 гг. Такой ход мысли довольно распространен. Ведь называют же, например, нынешнюю Думу шестой — отсчитывая от четырех дум начала века. Верховный Совет СССР? Верховный Совет России? Не было. Следствие Истории окончено, забудьте. После 1913 г. следует не 1914, 1915, 1916, 1917 и т. д., а 1993 г. Уже не Советы без коммунистов, а Россия без Советов, но — с Думой, словно символизирующей восстановленную историческую девственность. Но если допустить, что в Истории возможны возвращения, то Россия вернулась скорее не в начало XX в. («возвращение» XX в. не исчерпывается), а в значительно более далекое прошлое. Например, с военно-стратегической точки зрения нынешнее положение России напоминает конец 1850-х — 1860-е годы. Ныне, как и тогда, Россию вытеснили из Европы — в «благодарность» за победу над Гитлером и вывод войск из Германии. На тебе, Иванушка-дурачок, домики для военных. Не рад? Неблагодарный. И в 1850-е годы Европа «отблагодарила» Россию за победу над Наполеоном, Австро-Венгрия — за помощь в подавлении венгерской революции, Турция — за активные действия России против непокорного египетского паши Мухаммеда Али. Впрочем, сами виноваты. Однако, в отличие от 1850–1860-х годов, в наши дни у России нет возможностей экспансии на восток и на юг. Более того, ей приходится оборонять свои южные рубежи или по крайней мере ощущать давление на них. Что же касается рубежей восточных, то сотни тысяч, если не миллионы китайцев при попустительстве местных властей и близоруком благодушии Москвы явочным порядком, по традиционному двухтысячелетнему китайскому принципу проникновения на Север — «цань ши» («пожирать медленно, как шелковичный червь пожирает лист») — проникают на русские земли, занимают их. Почему же мы такие беспамятные?! Почему не учимся на ошибках?! Почему не заглянем в русские военные журналы конца XIX — начала XX в., в том числе и посвященные Дальнему Востоку, не посмотрим, что там написано об отношениях с Японией, Китаем. Полезное чтение. Короче, на южном и восточном направлениях ситуация ныне хуже, чем в 1860-е годы. Ну а «на западном фронте без перемен» — по сравнению с периодом после Крымской войны. Поражение, вытеснение из Европы, международная изоляция. И не видно ни пруссий, готовых (даже из своекорыстных интересов, небезвозмездно, разумеется) помочь России, ни бисмарков с горчаковыми. Нынешние западные политики не тянут на Бисмарка — мелковаты. У нас же не видно не только горчаковых, но и даже Громыко, у которого было все-таки одно несомненное достоинство: он отчетливо и решительно произносил слово «нет». А это умеют далеко не все. Однако возвращение в середину XIX в. получается только в военно-стратегическом отношении. Территориально, геополитически мы откатились еще дальше в прошлое, и не в XVIII, а середину XVII столетия. Нынешние очертания России — это почти один к одному ее территория к 1650 г. Россия без Украины, без Закавказья, без Средней Азии. Правда, освоена Сибирь до Дальнего Востока. Но «сделочная позиция» России по отношению к Китаю, мягко говоря, не из лучших. Но и серединой XVII в. нырок в прошлое-в-будущем не исчерпывается. По ряду параметров Россия оказалась в XV в., в удельной эпохе, когда Москва резко активизировала собирание русских земель, подминая их под себя. Объективно перед нынешним российским Центроверхом стоит задача преодоления удельности русских «земель». Удельность эта начала возникать в брежневское время, когда реальная власть из Центроверха ушла на средний уровень — уровень обкомов и ведомств. Объективно одной из задач перестройки, помимо легализации накопленного «коррупционерами» в 60–70-е годы, было возвращение власти Центроверху.[19] Не вышло. Более того, Союз распался. И это еще раз подтверждает, коммунизм как историческая структура социального контроля над русским пространством и населением, как механизм перемолота вещественной субстанции и пространства себя полностью исчерпал уже к концу 70-х. Новая власть должна создавать новый механизм. Но и удельная эпоха — не конечный пункт. Существует поразительное сходство между нынешним состоянием России и военно-торговой жизнью Киевской Руси, ситуацией Х—ХII вв. Мы попадаем во времена торговли всех со всеми, принятия Русью христианства. Кстати, и нынешнее время — это как бы вторичное (спасительное ли?) «принятие» христианства после 74 лет антихристианской власти. Но о церковно-православной параллели чуть позже. Таким образом, если представить Русскую Историю в виде настольной игры с кубиком, то попадание фишки на бело-сине-красный кружок «октябрь-93» (см. «Правила игры»: «конец антикоммунистической и антисоветской революции») означает для нее возвращение на несколько ходов назад сразу в несколько точек одновременно. Излом времени. Тут тебя катапультируют и в начало XX в., и в середину XIX, и в середину XVII, и в XV в., и в эпоху Киевской Руси. Фишке хорошо — она не разорвется на части. А вот общество может. Правда, имеется и иной исход — реализация обществом сразу нескольких вариантов развития-возвращения в различных частях России, для различных слоев при наличии одного, доминирующего в центре. Трудно сказать, какой вариант окажется доминирующим, но среди точек возврата в прошлое наиболее «намагниченной» кажется середина XVII в. Здесь к социопространственному аспекту добавляется еще и властный. Но разумеется, для реализации нескольких вариантов требуется не одна фишка, а несколько. Впрочем, История и тут способна преподнести сюрпризы. Есть еще одна черта, сближающая Россию середины XVII и конца XX в. — отношения Власти с Церковью. Ни один император Петербургского самодержавия не демонстрировал такой симфонии Власти с Церковью, как нынешнее российское руководство. Такое считалось не комильфо в века Разума. И естественно, ни один коммунистический лидер не стал бы лобызаться с патриархом или пускать его в Кремль как резиденцию. С этой точки зрения, коммунизм и Петербургское самодержавие оказываются в одной «лиге», а Московское самодержавие и нынешняя власть — в другой. В известном смысле получается, что коммунизм покинул Историю не один; его не удалось вырвать из Русской Истории в одиночку, обособленно. С ним отодралось и отдирается многое из Петербургского самодержавия, из эпохи XVIII–XIX вв. И это вовсе не так уже неестественно, как может показаться на первый взгляд (хотя, быть может, не так приятно, как оказаться в Петербургском самодержавии). Будучи историческим разрывом с самодержавием, коммунизм был его логическим продолжением (что не исключало в коммунизме ни некоторых черт Московского царства, ни переклички с ним, но это особый вопрос). Коммунизм логически наследовал не только петербургскому самодержавию, решая те проблемы социального контроля внутри страны и отношений вовне, которые самодержавие не решило и не могло решить. Коммунизм был наследником и европейского XIX в., доведя до логического конца, т. е. до противоположности, до негатива, ряд тенденций социального и идейного развития эпохи Субстанционального Капитализма. И даже раньше — эпохи, которая началась Просвещением. Коммунизм тесно связан и с европейской, и с русской историей XVIII–XIX вв., правда, чаще — посредством негативной преемственности. Многие формы, идеи, ценности, ориентации и т. д. шагнули в советский коммунизм из европейского и русского развития второй половины XVIII–XIX вв. Поэтому, боюсь, падение коммунизма «освобождает» Русскую Историю не только от последних 74 лет, но во многом и от более длительной эпохи, от чего-то важного в ней. Причем эта эпоха, по крайней мере для господствующих групп (как элит, так и контрэлит — революционных), была временем наиболее тесных контактов с капитализмом, Западом, с Европейской цивилизацией. «Негативы» и «позитивы» в социальной истории тесно связаны — намного более тесно, чем это принято думать. По сути, «негатив» и «позитив», некая система и ее система-отрицание суть элементы одной целостности. Или, если угодно, одного цикла. И они не могут так вот просто уйти из Истории по отдельности, сепаратно. Например, упадок функционального капитала на Западе затронет и затрагивает не только собственную его историческую ткань, но и ткань капитализма вообще и всего того, что вошло в плоть западного общества вместе с капитализмом. Иными словами — затрагивает Современность (Modernity) в целом. Выход из Современности, из «капиталистического блока» истории может оказаться похожим на вход. Вход — это эпоха революций: от 1789 до 1848 г. Но был еще и связанный со входом пролог, исторический коридор, ведущий к двери в Современность — период, непосредственно предшествовавший Великой французской революции, когда вырабатывался идейный динамит будущих социальных битв. Одновременно происходило общее социальное разложение правящей элиты Старого Порядка — от потери уверенности и упадка духа до такого явления, которое один из французских писателей назвал «эротизацией воли». Вообще «эротизация воли» верхних слоев, как правило, возникает в преддверии резких социальных изменений — будь то Франция второй половины XVIII в., Россия на рубеже XIX–XX вв. или СССР в 70–80-e годы.[20] И словно по контрасту с «высшим светом как белые вороны среди него — верные мужья, преданные своим женам, последние представители своих династий (или «должностей»): Людовик XVI, Николай П, Борис Годунов, Горбачёв. Что это — культурно-психологическая случайность или закономерность? Скорее второе. В более широком смысле, считая и пролог, вход — это столетие между 1750-ми и 1850-ми годами. Упадок функционального капитализма, таким образом, как бы возвращает Запад в его героическую эпоху, эпоху борьбы со Старым Порядком, борьбы разных вариантов выхода из Старого Порядка и входа в Современность. Варианты эти, по сути, были различными формами компромисса Капитала со Старым Порядком, с некапиталистическими формами, с одной стороны, и с «опасными классами», с трудящимися — с другой. При этом компромиссы первого типа объективно были направлены против трудящихся. Логично предположить, что в приходящей в упадок Капиталистической Системе более частыми станут компромиссы между капиталом и некапиталистическими формами, все чаще капитал будет выступать как не-капитал. Причем, как и при Старом Порядке, этот компромисс будет направлен против трудящихся. Более того, форма не-капитала может оказаться значительно более эффективной, чем капитал, в борьбе господствующих групп с трудящимися. По мере того, как некапиталистические формы будут играть все более заметную роль в обеспечении социального послушания масс, по мере того, как Запад будет становиться все менее капиталистическим, Капиталистическая Система, чтобы обеспечить будущее нынешних своих элит, внешне как бы двинется назад, отбирая у «буржуазного демоса» (средний класс + значительная часть рабочего класса) все большую часть того, чего он добился в XIX–XX вв. А добился он благосостояния и участия, по крайней мере формального, в политической власти, т. е. демократии. Логика борьбы нынешних господствующих классов Капиталистической Системы, борьбы за самосохранение ведет их к снижению нынешнего массового уровня благосостояния, к демонтажу многих демократических институтов. Очень показателен термин бывшего кандидата в президенты США Рос Перо «виртуальная демократия» (т. е. «по сути», «в принципе», «так сказать», «вообще-то», «ну если вам очень хочется» — «да, демократия, подавитесь, а на деле…»), который должен сменить нынешний просто «демократия». Будучи запущен, процесс демонтажа задает свои правила игры. В нем побеждает наиболее эффективный ликвидатор. Перспектива? Капитал сохранится, но не в капиталистическом смысле, а в том, в каком он существовал задолго до капитализма, — в качестве одной из социальных форм денег, богатства. Можно, далее, предположить и наличие капиталистических зон, вкраплений, характерных для наиболее отсталых районов и отличающихся наиболее жестокой эксплуатацией. Как знать, не уготована ли капитализму в XXI столетии роль, которую в XVII–XVIII вв. играло плантационное рабство? Не суждено ли капитализму в следующем веке стать судьбой наиболее отсталых народов, самых отсталых точек мира? Если взглянуть на Россию с точки зрения возможных социальных компромиссов, то здесь ситуация иная, чем на Западе. При отсутствии в Русской Истории фазы капитализма в собственном смысле слова, при некапиталистическом или даже внекапиталистическом характере этой истории капитал не может быть сколько-нибудь равноправным участником компромисса с неким Старым Порядком. Если и может, то в лучшем случае третьеразрядным. У нас даже на выборы «капитал» идет в одном блоке с «трудом». Диво-баня! Но только с западной точки зрения. С русской точки зрения все правильно: союз двух некапитализмов. У нас скорее возможен компромисс между народной и властной формами некапитализма, вариант неклассовой социальности, не исключающей, однако, ни неравенства, ни эксплуатации. Это — с одной стороны. С другой стороны, в истории России было два «старых — докоммунистических — порядка: московский, который провалился, просуществовав по сути меньше столетия, и петербургский, квазиевропейский, который в разных вариантах протянул более двухсот лет. Да и коммунизм по отношению к нынешнему состоянию тоже несет в себе ряд черт Старого Порядка. Весьма вероятно, что социальная борьба (и социальные компромиссы) в России XXI в. будут развиваться по оси «московская — петербургская (квазиевропейская) модель Старого Порядка». А эту ось будет пересекать другая: «некапитализм власти — некапитализм трудящихся» (более того, возможно противостояние «антикапитализмов» — власти и населения, при этом противостоящие стороны будут обвинять друг друга в капитализме). Это резко усложняет картину, которая к тому же окрашивается еще и в асоциальные тона. Такая пестрота, соответствующая русскому национальному характеру, по крайней мере так, как его понимал Иван Бунин (понявший очень многое), есть фактор, работающий в пользу поливариантности. И пуантилизма. XLVIВ обоих случаях — русском и европейском — получается, что два социума, шагая в XXI в., на самом деле как бы совершают прыжок в прошлое. Вперед, в прошлое. Или: назад, в будущее. К возможной встрече прошлого и будущего я вернусь чуть позже. Сейчас — о другом. История любит обманывать и редко предлагает в будущем линейно-количественное решение проблем настоящего. XIX — «жюльверновский» — век полагал, что следующий за ним будет «супердевятнадцатым». Век оказался двадцатым. XX в., особенно в самом начале НТР (в этом смысле интересно взглянуть на картины будущего, представленные нарративно и визуально как в советских, так и в американских научно-технических и научно-фантастических журналах конца 60-х годов; листать, например, нашу «Технику — молодежи» первой половины 60-х — это сладкая боль), полагал, что следующий век будет «супердвадцатым», суперсовременным. А он выходит двадцать первым. И не сверхсоврсменным или постсовременным, а просто — несовременным, или даже антисовременным, как об этом возвестила еще иранская революция 1979 г. Кто бы мог подумать, что XXI — энтээровский век создаст ситуацию, типологически напоминающую Старый Порядок или направленную в его сторону? Конечно, речь не идет о реальном возвращении куда-то XVIII или XVII в. Речь не идет также и о том, что падение коммунизма в России и упадок функционального капитализма на Западе сотрут всю или почти всю социальную информацию о них предшествующих им фазах (и объектах) отрицания. Это невозможно. Речь — о другом. Для того чтобы стать по-настоящему господствующими, чтобы ухватить козыри в игре начала XXI в., новым господствующим группам как России, так и Запада необходимо отрезать, отсечь от общественного пирога значительный сегмент населения, который ранее — при функциональном капитализме и коммунизме — имел к нему доступ. Однако чтобы это сделать, потребны сдвиги в ценностях, ориентациях, установках. Не говоря уж о существеннейших изменениях в институтах и системах идей. И коммунизм, и welfare state выросли из идей и институтов, коренящихся в Просвещении и прочно вошедших в идейный лексикон и политическую практику в ходе и посредством социальных битв и классовых конфликтов прежде всего эпохи 1789–1848 гг. Следовательно, декоммунизация российского общества и dewelfarization — западного предполагают отказ от ряда идей, ценностей и институтов Современности, их демонтаж — более или менее закамуфлированный. В свою очередь, НТР не только ставит такую задачу, но и предоставляет средства ее решения — иногда положительного, иногда отрицательного, нередко того и другого вместе. Идейные факторы, материализация которых привела к welfare state и коммунизму, — это рационализм, универсализм, гуманизм, права человека и т. д.; соответствующие институты и формы политической практики — это всеобщее избирательное право, разделение властей, национальное государство, различные свободы и т. д. Демонтаж или ослабление всего этого комплекса будет означать «большой скачок» в «будущее-в-прошлом», способный вызвать серьезнейшие социальные потрясения, исторически симметричные взрыву 1789–1848 гг. Только если на заре Современности социальные конфликты приобретали идеологическую форму, то в XXI в. — постидеологическом — эта форма скорее всего будет внешне напоминать явления докапиталистической или ранней капиталистической эпох, иными словами, будет этнокультурной, этнолингвистической, религиозной, расовой. Похоже, что социальные битвы закатной, позднекапиталистической (и как знать — раннепосткапиталистической?) эпох будут разыгрываться в костюмах далекого прошлого. Более того, сама внешняя форма будущего-в-прошлом, соотношение сил в социальных компромиссах может быть объектом острейшей борьбы. Например, необонапартизм versus неороялизм для части Запада. Для России, если прибегнуть к тому, что Чарлз Райт-Миллс назвал «социологическим воображением» (я бы предпочел термин «метафизическое воображение»), это может быть — по видимости, по внешности, за неимением других форм — борьба между двумя футуристическими вариантами, типами русского «Старого Порядка» — московский versus петербургский, схватка двух «консерватизмов» — «западного» и «московского», «либерального» и «социалистического». Кстати, если взглянуть на идейный аспект нынешних властных баталий в России, то поиск опоры в прошлом для прыжка в будущее (хорошо бы — не в ничто) очевиден. Заговорили о соборности, о монархии, о русском народе. «Западникам» после провала того, что в России считают «либеральными моделями», пока что крыть нечем и нечего предложить. Но все впереди, и, надо думать, нынешние «идеологи» из бывших научных коммунистов и научных атеистов что-нибудь, какую-нибудь зацепку в Петербургском самодержавии да обнаружат и, глядишь, начнут стричь бороды и создавать третьи отделения. Скорее всего дело кончится компромиссом — по типу и принципу конструирования новой формы российской армии: на фуражке — двуглавый орел, под ним — красная звезда, сама фуражка выгнута по образцу вермахта времен второй мировой войны, ну а цвет и покрой самой формы — полунатовский-полуколчаковский. Синтез? Нет, эклектика. Пуантилизм. И похоже, начало XXI в. (а может, и не только начало) и у нас, и в мире будет эпохой эклектики. Впрочем, все закатные, поздние эпохи таковы. Для такой огромной страны, как Россия, эклектизм развития, похоже, должен означать опять-таки отсутствие одного-единственного варианта. Вариантов может быть несколько — разных и сразу; предположительно, острота властных коллизий станет, помимо прочего, определяться разнонаправленности реализующихся вариантов, борьбой между ними, борьбой центровластного варианта со всеми остальными. И спять же: эти эклектизм и поливариантность соответствуют логике неизбежного и странного пуантилистского мира, возникающего под вечерний звон Колоколов Истории. Этот звон наводит на ряд вопросов, от ответа на которые зависит то, как мы будем жить в XXI в. Вопросы эти разнообразны. Какой тип знанья необходим нам для анализа как новой, так и старой реальности? Ограничен ли своими собственными рамками системный кризис капитализма или же он является «спусковым крючком» еще нескольких кризисов более крупных и масштабных, чем капитализм, систем? Если второе допущение верно, если перед нами мегакризис, то каким может быть выбор в такой ситуации? Выбор человека. Выбор России. Выбор Запада. Кем в такой ситуации являются Россия и Запад — союзниками или соперниками? Или сама такая постановка вопроса ошибочна, некорректна, неадекватна реальности? Что можно противопоставить социальному распаду, асоциализации? И можно ли? А если можно, то на что опираться, откуда черпать модели? После того как исчезла вера в прогресс, после конца прогресса, в эпоху после прогресса, какое время заменит Будущее? Или вообще последовательности времен больше нет разбит «калейдоскоп Времени»? Как быть в таком мире — в мире, где не ясен ответ на вопрос: «По ком звонит колокол?» XLVIIЕсть такой анекдот о коммунизме. Выпивают мужики «на троих». Один, который не только выпил, но уже осадил водку огурчиком и замолодел изрядно, спрашивает: «Мужики, помните водку по 2.87?» Второй, который уже принял и занюхивает хлебушком, отвечает: «А как же. А помните пиво по 37 копеек бутылка? 22 копейки кружка?» «А колбаска по 2.30?» — мечтательно тянет третий, только что энергично выдохнувший и собирающийся закусить. Наступает элегическое молчание, и наконец кто-то из троих раздумчиво произносит: «Да-а-а, мужики, прошелестел над нами коммунизм, а мы и не заметили». Это «прошелестел, а мы и не заметила» можно отнести не только к коммунизму, но и к его аналогу — функциональному капитализму, ко всему XX в., к Современности, к капитализму в целом. И прошелестит капитализм тем незаметнее, чем искуснее господствующие группы смогут закамуфлировать его качественную социальную трансформацию под борьбу за сохранение существующей системы, за ее усовершенствование, за создание «более высокой и развитой формы» в виде, скажем, «виртуального капитализма» и «виртуальной демократии». Где умный человек прячет камешек? Среди камешков на морском берегу. А лист? Среди листьев в лесу. А настоящие бриллианты лучше всего прятать в коробке с бижутерией. Отшелестит капитализм и станет ясно, что это был и блестящий и ужасный, но исторически краткий и в целом очень нетипичный, исключительный, уникальный период в истории населения планеты Земля. Блестящий — потому что достижения человека (прежде всего — европейского) за последние 400–500 лет в науке, технике и искусстве превосходят практически все, что было сделано до этого. Поражает не только объем и уровень достижений, но и их плотность. Ни одна другая система не позволяла такого накопления капиталов, такого увеличения вещественной субстанции. Никогда ранее человек не вмешивался в природные процессы до такой степени господства над ними. Ужасным этот период был потому, что никогда до капиталистической эпохи не совершались массовые преступления, массовые уничтожения людей, геноцид в таком масштабе. Но дело даже не в количественной стороне. В конце концов, крестьянские восстания в Китае, великие переселения народов и завоевания кочевников приводили к гибели огромных масс людей. Однако, как верно заметил Ф.Фехер, все это происходило в те эпохи, когда отсутствовало такое понятие и такая ценность, как «универсальный гуманизм». Да и вообще, когда отсутствовали универсальные к универсалистские ценности. Но что еще серьезнее, массовые репрессии XX в. часто реализовывались именем универсального гуманизма. Капитализм продемонстрировал верх социальной свободы. Со свободой — понятно. Сложнее, на первый взгляд, с угнетением. Разве плантационное рабство, ГУЛАГ и Аушвиц нельзя сравнить с рудниками Лавриона, строительством пирамид или Великой Китайской стены? В последних трех случаях — неужели угнетения, несвободы было меньше? В известном смысле — меньше. Поскольку не было универсальных идеалов «свободы, равенства, братства» и того же гуманизма. Древним грекам, египтянам и китайцам еще не сообщили о правах личности, о гуманизме и свободе как универсальных ценностях. А вот мир XVIII–XX вв. о них уже точно знал. А потому мерки и оценки здесь другие, намного более строгие. Нетипичным и уникальным капитализм был потому, что никогда в человеческой истории индивидуализация социальных отношений не достигала такого уровня, как в этом обществе. Это апофеоз личностного индивидуализма. Когда возникла потребность подавления личности и свободы, индивидуальной субъективности — произошло это главным образом не в сфере производства (капиталистическое производство и так десубъективирует человека), а в сфере политики, власти, — то понадобились такие репрессивные структуры, которых не знали докапиталистические общества и эпохи. Не знали и, самое главное, не переживали как ужас и трагедию, поскольку были нехристианскими (а многие из них) и дотрагическими. Историческая скоротечность капитализма, даже если ему суждено просуществовать еще 80–100 лет (это, на мой взгляд, самое большее, реальнее говорить о 50–60 годах), т. е. всего пять столетий, тоже понятна. Система, основанная на необратимой эксплуатации природных и человеческих ресурсов, может повышать уровень своей энергии и информации только за счет снижения уровня таковых «окружающей» — природной и социальной — среды, за счет вытеснения к нее социальной энтропии. Здесь одна из причин экспансии Капиталистической Системы. Типологически эту экспансию чем-то напоминает расползание Античной Системы. Диктовалось оно не логикой накопления капиталов. Сходство здесь — более широкое: обе системы решали свои противоречия, вынося их вовне и таким образом саморасширяясь — от греческой колонизации до эдикта Каракаллы. Не будучи ни капиталистической, ни подкрепленной техникой, ни природоборческой, античная экспансия была не планетарной, не мировой, а региональной или даже локально-средиземноморской ввиду природного, локального характера производительных сил и, следовательно, отсутствия автономной социальной функции, способной положить к ногам Античности весь мир. И, естественно, экспансия эта была намного более медленной, чем капиталистическая. А потому и просуществовала Античная Система в 2,5–3 раза дольше, имела больше времени, чтобы решить, изжить свое системообразующее противоречие. Кончились возможности экспансии, «кончилось» противоречие, кончилась жизнь. Капитализм еще в большей степени, чем Античность, — экспансия. И сжигает капитализм свою жизнь в 2,5–3 раза быстрее. Вот если мы противопоставим Античной Системе Западную (в данном случае системность совпадает с цивилизационностью), добавив к полутысячелетию капитализма полутысячелетие феодализма и гипотетический ренатурализованный посткапитализм, то продолжительность социальной жизни может сравняться. Но здесь мы вступаем уже в сферу гипотез, «социологического воображения». Охват земного шара, биосферы в целом ставит капитализму естественный предел. Полная капитализация биосферы сулит и капитализму, и биосфере смерть. Биосферизация капитала, иными словами, его адаптация к биосфере, к природе, невозможна: процесс накопления капиталов адаптирует природу к капитализму, а не наоборот. Капитализм, прекративший необратимую эксплуатацию природы, прекращает быть капитализмом. Земля уже вскрикнула напора капитала, а биосфера уже начала отвечать ему и на его воздействие: на давление массы населения, на загрязнения и т. д. — СПИДом, озоновыми дырами, различными мутациями и многим другим, о чем мы только начинаем догадываться или о чем нам eще только предстоит узнать, испытать на собственной шкуре. Превращение «капиталистической мир-экономики» или «современной мир-системы», если пользоваться терминами Ф.Броделя и И.Валлерстайна, в по-настоящему глобальную не может быть ни чем иным, как глобальным и многослойным кризисом: экологическим, экономическим, политическим, идеологическим, моральным, за которым, по-видимому, последует демондиализадия, макрорегионализация. Капитализм хроноцентричен, он основан на присвоении Времени. Но потому он так и скоротечен. «И вот финал: он не трагичен, но досаден». Досален, поскольку кончается самая героическая, самая субъектная эпоха в истории населения планеты Земля. Эпоха не только великих достижений, но и великих иллюзий и идеалов. Эпоха Великого Порядка. Капиталистическая Система сумела — а в XX в. ей в этом активно помог коммунизм — установить в мире такой порядок, какого никогда не было. А та степень безопасности и стабильности в мире, которая была достигнута в периоды 1815–1855 и в еще большей степени в 1945–1990 гг., вообще не имеет аналогов и параллелей. Последний из этих периодов «отшелестел» вместе с XX в., став его «прощальным поклоном». С этим периодом окончательно ушли, развеялись, отшелестели Большие Надежды и Великие Иллюзии — не только XX в. и не только Европы, но и всего человечества последних 100–200 лет. Ибо если когда-нибудь и возникало, хотя бы в интенции, нечто конкретное, отвечающее понятию «человечество», т. е. все население Земли, усвоившее (по крайней мере, внешне) единые, универсальные ценности и цели, охваченное единой системой, то это было только в последние 100–200 лет. Как ни парадоксально, но по-настоящему население планеты в человечество объединили три Колосса Паники — борьбой друг с другом. А сами они родились из Больших Надежд и Великих Иллюзий XIX столетия, которое как бы вызвало их из Тартара Истории музыкой иллюзий, подобно факиру, вызывающему змею. Музыка кончилась, змеи исчезли, факир словно испарился. А может, все это произошло в обратном порядке. Или же музыка и факир исчезли, а змеи остались. В любом случае, завораживающая и очаровывающая музыка надежд и иллюзий кончилась. Пройдет время и, возможно, Современность останется в исторической памяти только этой сладкой музыкой, родившейся под звук падающей гильотины и затихающей под стрекотанье компьютеров. Каких надежд и каких иллюзий? Надежд на коллективистскую утопию. Иллюзий успеха на пути индивидуалистической «буржуазной цивилизации» и ее институтов. Крах марксизма и либерализма как идеологий, упадок идеологии вообще — это и есть конец иллюзий и надежд практически всех значимых групп и Капиталистической Системе на Светлое Будущее. И потому кто-то говорит не о свете, а о тьме в конце туннеля. Ни Будущего, ни тем более Светлого. По крайней мере — для всех. Для отдельно взятых зон пуантилистского мира XXI в. — да. Селективный прогресс. Селективная демократия. Селективный Свет Будущего. Короче, ни свободы, ни равенства, ни братства, о которых так много говорилось в XIX–XX столетиях и на которых был построен Мир Модерна. Мир Постмодерна, похоже, отрицает эту триаду. И действительно: равенство — с кем, как и почему? Равенства никогда не было. Это — миф. Как и демократия. Просто «демократии», «демократии вообще» никогда не существовало. Говорят (в самом общем плане) об антично-рабовладельческой демократии, либеральной, тоталитарной или даже коммунистической. Здесь необходимо уяснить следующее. Словосочетание «коммунистическая демократия» метафорично. Перечисленные «демократии» могут находиться в одном ряду лишь в самом общем смысле. Содержательно-терминологическая спецификация, однако, ломает этот ряд. Демос — это не просто народ. Это та часть народа, которая обладает собственностью, выступает как собственник вещественной субстанции. В этом смысле демократия, во-первых, есть защита собственности; во-вторых, не есть народовластие. Демократия и народовластие — вещи разные. С этой точки зрения в России никогда не было и не могло быть демократии как общего, внесословного политического строя: демократия едва ли возможна в социуме, где собственность на вещественные факторы производства играет незначительную роль, где не собственность, а Власть есть главное, системообразующее средство темпорализации пространства и социального контроля. Исторически демократия в России существовала для и внутри одного сословия — дворянства, и то не всегда, не для всех его представителей и в лучшем случае в слабой, пунктирной институциональной форме, с определенного момента еще более ослабляемой самим самодержавием. Последнее неоднократно производило «демократизации» господствующих групп (как только они в своем состоянии приближались к чему-то похожему на классовость), замораживая общество в целом на предклассовом уровне, консервируя его «социальную молодость» как вечную, как утраченное время (и как вечную социальную юность с ее склонностью к насилию, к самозванству, с ее завороженностью смертью, готовностью к ней, неумением ценить жизнь — вообще и упорядоченную, постварварскую, основанную на Времени и Собственности в частности), воспроизводя социогенез в ущерб другим фазам, тренируя поздневарварские мышцы социума, готовые в принципе сбросить любые классовые формы — государственность, политику, демократию, классовость, частную собственность, культуру, буржуазные структуры повседневности, быта и т. д. — как имманентно чуждые, противостоять им, деформировать их. (Так же как, например, позднеантичное государство в Византии в своих фискальных целях «натренировало» и усилило общину до такой степени, что она впоследствии не пропустила, деформировала феодализм на общинно-античный лад.) В этом смысле, замечу еще раз, коммунизм на какое-то время стал положительной социальной формой поздневарварской неклассовости, бесклассовости, «вторичного позднего варварства».[21] Именно коммунизм оказался и массовым обществом, и обществом массового потребления, и «массовой цивилизацией», и современной «цивилизацией» Русской Системы. Рухнул коммунизм, связанный (пусть негативно) с петербургской «цивилизацией», — и исчезла цивилизация вообще: разгул насилия, расхристанность в быту и в работе, демонстративное нарушение «норм поведения и общежития», апофеоз безделья — сознательного и вынужденного («ничегонеделание есть роскошь варвара» — Маркс), опрощение целых социальных слоев, включая так называемую «советскую интеллигенцию», общая брутализация жизни, почти распад структур повседневности и образования и т. д. и т. п. Наступила реварваризация, крайней, но вовсе не единственной формой которой оказывается криминалитет. «Русская Система минус коммунизм равняется асоциал(изм)у» — так выходит. Так вышло — пока. Что будет дальше — посмотрим. Но ясно одно: коммунизм выполнил в истории Русской Системы роль эквивалентную welfare state и «массовой культуре», он был массовой современной (modern) «цивилизацией» — единственной в Русской Истории. Народовластие, «популократия» без железного обруча, с одной стороны, и без привычек, сохранившихся от докоммунистического прошлого, — с другой, оборачиваются новым поздним варварством — не «новым средневековьем» даже, а новым предсредневековьем. Ведь что такое поздний варвар? Асоциал, находящийся в процессе перехода из одного социального состояния и другое, Маргинал Времени. Темпорализация и есть социализм превращающая народ или часть его в одном случае в демос, в другом — в популяцию. Следовательно, исторически это процесс замены народовластия чем-то иным, в том числе и демократией. Итак, народовластие возможно лишь в поздневарварских обществах, на поздневарварской исторической стадии развития, логически являющейся пред классовым состоянием, между доклассовостью и классовостью. Позднее варварство — особая эпоха и особый строй в истории. С его точки зрения частная собственность, демократия, либерализм и т. д. — это всегда разложение, гниль. «Гнилой либерализм» — не случайное для России сочетание как по указанной выше причине, так и по тому, что сами капиталистические явления в Русской Истории суть во многом продукты разложения очередной структуры Русской Системы. Не случайны и некоторые термины, которые вызывали и вызывают снисходительные насмешки и осуждение со стороны просвещенной части общества, например «народная демократия» (для стран прежде всего Восточной Европы сразу после войны) и «дерьмократия» в наши дни. Я готов, как это ни неприятно, реабилитировать эти термины, в них свои рацио и резон. Термин «народная демократия» — не тавтологичен; напротив, вопреки воле тех, кто его запустил, он указывает на реально недемократический и даже неполитический характер этого типа организации: «народовластная демократия», «додемократическая», «внедемократическая» демократия; не их, европейская, хоть и восточная, демократия, а наша, народная (демо)кратия. Популократия, сказал бы я, если бы не некоторые ассоциации. «Дерьмократия» — это, грубо говоря, власть «социальных экскрементов», власть продуктов разложения. У нас в 1994–95 гг. «дерьмократией» критики существующего режима называли так режим в целом, что неверно в строгом смысле слова. Но в определенной степени для низового и среднего уровней нынешней системы власти (а частично и для высшего уровня) и собственности в той степени, в которой она контролируется, утилизуется криминальными и (или) нелегальными структурами, — а они и суть продукт социального разложения, — термин «дерьмократия» вполне подходит, несмотря на неблагозвучность и некоторую ненормативность. Что называется, не в бровь, а в глаз: власть социального дерьма, продуктов разложения — общественного строя вообще и прежнего нашего общественного строя в частности, конкретно. Причем смена нынешних персонификаторов власти, так сказать, «элит» другими не означает автоматического установления «ароматократии». Увы. Итак, демократия, это всегда нечто частичное, нечто селективное — как и демос; каков демос, такова и кратия, конкретное качество селективности очерчивается определением. Демократия — это власть (кратос) демоса. Но демос — это далеко не все население, а его часть, как правило, — меньшая. Борьба за демократию — это прежде всего, если отшелушить внешнее, и борьба за права одной части общества угнетать и эксплуатировать другую часть; и борьба за то, кто будет считаться демосом, за его очертания и границы; и борьба за то, чтобы оказаться внутри, а не вне этих границ. Все не могут быть демосом. Когда в Римской империи формально все получили права гражданства (эдикт Каракаллы), т. е. стали «демосом», она рухнула. С конца XVIII в. в западном мире растут численность и удельный вес демоса. Ныне формально огромная часть западного населения — демос. Но тогда кто (значительная масса) должен стать недемосом, особенно в энтээровский век? Тем самым демократия — это, помимо прочего, один из способов исключения какой-то части населения из процесса принятия решений. Из благосостояния. Из свободы, равенства и братства. Кстати, о братстве. С кем — братство? Всех со всеми? Братство с Хомейни и Саддамом Хусейном? С движениями сексуальных меньшинств? Увольте. Все это — социальная энтропия. Брататься надо далеко не со всеми. Не пей из лужицы (братства) — козленочком станешь! Конечно, болезненно и страшно расставаться с идеалами Современности, эпохи, начавшейся в 1789 г. и окончившейся в 1991 г., следовательно, длившейся 200 лет и 2 года. Но еще страшнее продолжать верить в идеалы мертвой эпохи, остановившегося времени. Да, страшно оказаться без ориентиров в мире, в вывихнутом веке. Болезненно и неприятно ощутить, что ценности и идеалы, которые полагались в качестве универсальных и универсалистских, — Капитализм и Коммунизм в XX в. немало потрудились, чтобы доказать это, — оказываются ограниченными в пространстве и времени идеалами и ценностями только Европейской цивилизации. Точнее даже, определенной фазы ее развития. Осознание этого факта может повергнуть в не меньшее отчаяние, чем неверующего осознание своей смертности или верующего осознание того, что Бог умер. И что теперь? XLVIIIНа вопрос о том, как верующим реагировать на смерть Бога, ответ дал Д.Бонхофер, теолог-протестант, участник заговора против Гитлера, казненный весной 1945 г..[22] Бонхофер много размышлял над ситуацией человека середины XX в. о том, как ему жить после коммунизма и фашизма, после ужасов войны и концлагерей. Суть ответа Бонхофера в следующем. Христианский Бог умер. Теперь христианин должен учиться и уметь жить в мире без Бога. И оставаться при этом христианином. Помнить, что, хотя Бог умер, верующий остается человеком и христианином, знающим, что Бог — был. На мой взгляд, это одна из самых мужественных позиций по отношению к жизни, выработанных в XX столетии. Быть может, я несколько снижаю тему, но мне приходит на ум фраза одного из героев книги о Швейке: «Помните, скоты, что вы люди». Отталкиваясь от нее, можно сказать: помните люди, что Бог был, а ныне, если он и есть, то он — внутри вас; и если вы — скоты, то ваш бог — скотина. Ваш бог таков, каковы вы сами. На это могут возразить: Бог вечен, а человек конечен. Но если человек, все его Бытие, все его знание, его вопросы и ответы конечны, то откуда же мы знаем о вечности? Это — такая же абстракция, как пустота и ничто. Нет ничего вечного, кроме вечности, человек — вне ее, а потому — не отказаться ли от этой проблемы? Ведь заметил как-то Станислав Лем: зрелость человечества измеряется тем, что оно отказывается от некоторых вопросов как ложных. Я не готов дать ответ на вопрос о ложности или истинности проблемы вечности, вечного. Но я готов «поразмышлять в направлении» ответа, утверждающего ложность, иллюзорность, компенсаторность проблемы Вечного. Мне нравится отношение О.Мандельштама к вечности как «вечности во времени», т. е. внутри времени; вечность — как «вечное сейчас», как «вечный миг» — не столько между прошлым и будущим, сколько и в них тоже. Все — со-временно. Все — в настоящем. Хаммурапи и Христос, Хуфу и Гитлер, Ленин и Цезарь. Вот такой выверт Времени происходит, как только вечность помещается внутрь времени. И ведь конец прогресса очень способствует такому помещению «капитала Вечности» в «Банк Времени». Конец прогресса влетел в ворота христианства словно подкрученный мяч — «сухим листом». И христианское время вернулось листом Мёбиуса и полетело как лист — как один из многих падающих листьев Осени Капитализма. Возможно, отказ от проблемы вечности будет расставанием с историческим инфантилизмом. Взрослость — это и есть осознание конечности Бытия и в Бытии, каким бы болезненным это осознание ни было; осознание того, что Вечность — всего лишь кривая, асимптотического насыщения Времени. Дети живут в свободе от причин и следствий, этих главных индикаторов и стражей Конечности Существования, живут вне Времени. И в этом смысле дети бессмертны. Наличие Бога как причины и следствия замыкает мир и дает человеку веру в бессмертие. Бессмертие в Боге. Но одно дело — жить и совершать добрые дела в надежде на бессмертие души и воздаяние «по ту сторону жизни». И совсем другое — делать то же самое без таких надежд, сочетая языческую страсть жизни с христианским самопожертвованием без всякой надежды на воскрешение, на вознаграждение, зная, как Бонхофер, что христианский Бог умер, сколь бы метафоричным ни было это его «знание». Христианство подготовило человека к зрелости. В этом смысле оно есть юношеское мировоззрение, призванное (но только в Европейской цивилизации — единственной, реально обладающей потенцией и интенцией линейного времени) морально подготовить индивидуального субъекта к принятию того, что он конечен и смертен без надежды на Страшный Суд и загробную жизнь. В обществах, где субъект либо не фиксируется как индивидуальный, либо не фиксируется вообще, проблема конечности индивидуального бытия так остро не стоит или так не фиксируется. Отсюда — мудрое спокойствие Конфуция и Будды. Но такое спокойствие не для европейцев, не для носителей христианской традиции. Между последними, с одной стороны, и Буддой и Конфуцием — с другой, находятся крест и распятый на нем Христос. В китайской и индийской цивилизациях (системах), где субъект не противопоставляется объекту, где они суть единство, нет такой остроты, такой напряженности отношения к Смерти, к конечности существования. Конечность существования — расплата за индивидуальную субъектность, равно как смерть — это расплата за многоклеточность. Одноклеточные бессмертны. Христианство, помимо прочего, было средством смягчить расплату, подготовить индивидуального субъекта к ней морально. Подготовить к взрослой жизни, т. е. жизни, основанной на свободе выбора и несении полной ответственности за него — без иллюзий и надежд на вознаграждение, без надежд на Вечность, на переход в нее из Времени. Свобода и ответственность — сами по себе вознаграждение, за них приходится платить. Быть может, вопрос о соотношении человеческого и божественного следует поставить так: нет Бога, кроме человека, и Мухаммед, а также Моисей, Иисус и другие суть лишь пророки его. Они учили скоточеловеков быть людьми. Божественное нейтрализует скотское — получается человек: вот и вышел человечек. А Бог — это просто планка, поднятая высоко-высоко, для тренировки, чтобы в высоком прыжке скотское, тяжелое отвалилось. К тому же на соревновании трудно показать результат выше, чем на тренировке. Обычно — наоборот. Вот и приходится прыгать тем, кто хочет быть человеками: смертельный номер, нервных просим покинуть помещение. Христос и приходил, чтобы принести планку (сын плотника), установить ее и показать, как ее брать — фюсберри флоп на кресте. Смертельный прыжок. Христианство и было системой тренировок, подготовки к таким прыжкам, к «соревнованиям» по ним. Я думаю, ныне христианство сделало свое дело и уходит. С ним можно попрощаться, его можно поблагодарить. Но нельзя вернуть. Теперь — без Бога, только с Христом. Как с человеком. Сильным человеком, который осознал, что его Бог умер, и потому пошел на крест. В XX в. умер Бог европейского человечества. Верить в Бога после этого — не удел ли слабых и страшащихся взглянуть реальности в лицо? Не являются ли внеположенные человеку Бог и Вечность ложными проблемами? Не есть ли Вечность, как и Бог, — сам человек, Homo Universalis христианской (а может, и послехристианской) эпохи? А противостоит ему, этому носителю универсальной социальности, выкованной Капиталистической и Русской Системами (а следовательно, в какой-то степени и христианством тоже), асоциал, Homo Robustus. Культурно-антропологическое противоречие двух этих типов Homo sapiens, скрывавшееся религией и классовыми различиями в течение двух тысячелетий, отныне обнажается в качестве центрального социального или даже «производственного» противоречия. Маски сброшены. Неужели традиционная проблема Русской Системы — проблема «лишнего человека» — становится социоантропологической проблемой Европейской цивилизации, «европейского человечества» (человечество бывает только в универсалистских культурах, в локальных оно невозможно и ненужно; в них человечество — это все равно что «хлопок одной ладонью»)? Человечество — как изоморфа христианского Бога? Это — далеко не единственный вопрос, который требует ответа. Причем в такую эпоху, как наша, трудно давать ответы и готовые рецепты. Наша эпоха во многих отношениях финальная. Мы живем в конце эпохи или даже в конце нескольких эпох сразу. И — одновременно — в конце Ночи Современности. Ночь эта прошла в значительной степени при свете факелов фашизма и пожаров революций, устроенных коммунистами, и под запах то ли дыма пожаров, то ли пороха от разрывов. Именно эти Колоссы Паники задали Современность XX в. «Нравится нам это или нет, — писал Г.Иванов, — мы должны признать, что современность — не столько английский парламент, сколько германский хаос, не Ватикан, а фашизм, не новые мировые демократические республики, а огромное, доведенное до предела страданий и унижений планетарное «перекати-поле», где, как клеймо на лбу, горят буквы — СССР. Ватикан, английский король, демократия, вековая культура, правовой порядок, совестливость, уважение к личности — все это скорее «обломки прошлого», существующие лишь постольку-поскольку. Настоящее — Рим, Москва, гитлеровский Берлин. Хозяева жизни — Сталин, Муссолини, Гитлер. Объединяет этих хозяев, при некотором разнообразии форм, в которых ведут они свое «хозяйство», — совершенно одинаковое мироощущение: презрение к человеку».[23] Либеральные диктатуры среднего класса послевоенной эпохи отвечали — вынуждены были отвечать, иногда в панике — на вопросы, поставленные Колоссами, двигались по коридору, заданному ими, эдакие «странники в ночи, обменивающиеся взглядами». XX век был Ночью Современности — как XIX был ее Днем. Ночь вместе с Современностью кончилась. Всю эту Ночь человек, по крайней мере христианский, сражался с бесами, с «черными людьми» под красными знаменами, причем на одних знаменах были звезды, на других — свастика. Но с ними ли или только ли с ними сражался европейский бунтующий человек? …Месяц умер, Всю Ночь Современности не столько капитализм боролся с коммунизмом (и наоборот), сколько европейский человек, христианский субъект, как Сергей Есенин, которого я процитировал, сражался с самим собой. Победил капитализм? Победил. В том смысле, что «Я один… И разбитое зеркало». Люди ждали конца Ночи Современности с ее ужасами, фашизмом и коммунизмом. Она окончилась. Вместе с Современностью, Прогрессом, Светлым Будущим. Наступают рассвет и хмурое утро какой-то иной эпохи. Сейчас рано и трудно говорить о новой эпохе, но о ее содержании и контурах можно немного порассуждать. Причем — не с позиций капитализма и коммунизма. Колокола звонят не только и не столько по ним. Речь Истории, собственно, идет уже не об этих двух системах: vixerunt, — прожили. Или отживают — вместе с мировым средним классом. Ведь кто конкретно испытывает кризис капитализма в наибольшей степени? По кому он больнее бьет, или, точнее, кто острее ощущает боль? Например, страдают ли от него австралийский абориген, бушмен из пустыни Калахари, индеец, живущий в лесах Амазонки, кочевник из Мавритании? Нет. Они о кризисе и кризисах не слыхали. Их жизнь мало меняется. «Давно сидим». Ощущает ли кризис беднота, самые низы Калькутты и Марселя, Рио-де-Жанейро и Лагоса, Мехико и Манилы? Нет, не ощущают. Разумеется, они живут очень тяжело — на грани выживания. Но так они существуют в течение многих поколений. К тому же, как показывают исследования, социальные низы живут данным моментом. Не они предпринимают что-то, а нечто происходит, случается с ними. Они — дети случая и находятся на таком минимуме, на такой глубине существования, которых практически не достигают бури и кризисы. Вся их жизнь — замороженные буря и кризис. Произошли изменения в жизни значительных групп населения, скажем, в Перу и Афганистане, Руанде и Таиланде. Причем изменения эти связаны с мировой тектоникой, с мировыми кризисными явлениями. Но для этих групп и племен рост населения, межплеменные бойни, миграции — часть их многовековой истории. Бывало лучше, бывало хуже. Явно не ощущает кризиса, хотя и знает о нем, мировая верхушка. Ее богатство — это волнорез, способный пока что гасить волны почти любого экономического шторма. Так кто же главный объект и жертва изменений последней четверти XX в.? Это — мировой средний класс и мировой рабочий класс в их разнообразных региональных и страновых вариациях и эквивалентах. Средние слои и рабочие. Вот они-то и суть главный объект кризиса, они-то и ощущают его и знают о нем. Со всеми вытекающими отсюда последствиями. Но средние и рабочие слои (классы) — становой хребет Капиталистической Системы, современного общества. И здесь перед нами еще одно свидетельство системного кризиса. Мировой средний класс был тем социальным мясом, которое наросло на костяке Капиталистической Системы — на ее центральном противоречии. Противоречие выработано, костяк ослаб, он не может удержать прежнюю социальную массу, да еще в среднем — с точки зрения благосостояния — положении. Тогда и начинает История отсекать кусочки массы-мяса, словно повар-турок с вращающегося на огне донер-кебаба. Вот только кто едоками будет? Исчерпанность системообразующего противоречия капитализма говорит о конце олицетворяемой им системы. Но только ли этой системы? Или еще какой-то или каких-то. Не является ли кризис Капиталистической Системы тем ключом, который отпирает «кладезь бездны» исторической? Не выводит ли капитализм своим финишем и другие системы на последний или предпоследний рубеж, так сказать, к последней черте, к барьеру? Не имеем ли мы дело с кризисом, «сконструированным» по принципу матрешки или Кощеевой смерти (на мой вкус предпочтительнее название «Кощеев вариант»). Маркс писал, что быть радикальным — значит доходить, докапываться до сути вещей, не останавливаясь до тех пор, пока качество (в нашем случае — социосистемное) не исчерпано. Вот и заглянем за фасад кризиса коммунизма и функционального капитализма, приподнимем холст и отопрем потайную дверцу. Быть может, так мы узнаем, по ком звонят Колокола Истории? Что же за холстом и дверцей? XLIXТам — Современность (Modernity) в целом. Другими словами, блок «субстанциональный капитализм + функциональный капитализм» — две формы капитализма, две эпохи капиталистической истории. За ними, в будущее, устремлен постмодерн, а в прошлое уходит еще одна эпоха (1648–1789) капиталистической истории — Старый Порядок. Таким образом, перед нами предстает Капиталистическая Система в целом. Но капитализм как система, как eine Formation — лишь фаза, вторая после феодализма, в истории Европейской цивилизации, Западной Системы. С этой точки зрения системный кризис капитализма — это, как минимум, структурный кризис Европейской цивилизации. Последняя — не самая большая социальная «матрешка» (матрица) в наборе, есть и крупнее — христианский исторический субъект. Он охватывает не только Европейскую цивилизацию, но также и хроноклазм V–IX или V–X вв., включая, с одной стороны, сеньориальную революцию (т. е. «феодальную революцию»), с другой — позднюю (имперскую) Античность. Капитализм на экономической основе и экономически, материально реализовал социальную и духовную универсалистскую задачу, возникшую с христианским историческим субъектом, как результат его возникновения. Именно посредством капитализма христианский исторический субъект придал своему универсализму адекватную ему — мировую, земшарную, истинно и единственно универсальную с точки зрения конкретных условий планеты Земля форму, выполнил свою миссию. Именно посредством капитализма линейное христианское время распространилось (по крайней мере, на какой-то срок) на земное пространство — и как мировое, и как совокупность локальных пространств, подчинило его. Функция капитала, таким образом, есть одновременно меч и крест христианского исторического субъекта. В своем негативе — по отношению как к капитализму, так и христианству — меч и крест превращаются в серп и молот коммунизма. Антихристианство коммунизма сопоставимо с его антикапиталистичностью как негативная функция. Вне Европы в капиталистическую эпоху христианство в лице миссионеров, иезуитов и т. д. (что бы они сами ни думали о целях своей деятельности) объективно играло роль функции капитала, решало его задачи. Но и капитализм выполнял задачу христианского исторического субъекта. Как и коммунизм, объективно обеспечивавший распространение европейских универсалистских ценностей в революционной и антикапиталистической форме в тех зонах мировой системы, где они не могли утвердиться эволюционно и капиталистическим путем. В этом смысле коммунизм и — шире — марксизм занимают в Капиталистической Системе ту нишу, которую в Европейской цивилизации занимает христианство. Наложение двух систем создает некую зеркальность, которая проявляется во многом: от антиевропейской, антизападной направленности коммунизма до неблагостного люциферовского облика основателя и главного святого марксизма — тоже еврея, но не из Галилеи, а из Трира, и сына не плотника, а адвоката. Капитализм и коммунизм, либерализм и марксизм — вот те клещи, в которые христианский исторический субъект взял мир. Кому-то был дан и показан крест, а кому-то — меч, кому-то — молот, а кому-то — серп. Крестом и мечом, серпом и молотом — вперед, к победе христианского исторического субъекта. С этой точки зрения, падение коммунизма и упадок марксизма как идеологии — это стук Судьбы в дверь не только капитализма, но и христианского исторического субъекта. Исчерпан ли список этим субъектом? Нет. Системный кризис капитализма подвел к определенному рубежу весь субъектный поток исторического развития, куда входят Античная и Европейская цивилизации и, соответственно, античный и христианский исторические субъекты. Только в двух этих цивилизациях — в отличие, например, от китайской, индийской, исламской и других — субъект фиксируется социально, в самом обществе, что находит институциональное выражение. Но и это не все. Капитализм охватил, включил в орбиту — свою, Европейской цивилизации и христианского исторического субъекта — общества и цивилизации неевропейские, весь системный («несубъектный») поток исторического развития, весь мир. Более того, насаждая свои экономические, политические и интеллектуальные институты в неевропейском мире (а этот мир в свою очередь перенимал их, чтобы приспособиться к Западу, сопротивляться ему), капитализм создал поразительные формы — своеобразных социальных киборгов, субъектных и западных по форме, но незападных, несубъектных или антисубъектных по содержанию. Партии, под маской которых скрываются племена, возглавляемые людоедами; аристократические кланы, уже 100–200 лет контролирующие свои провинции; политические ассоциации, за которыми на самом деле скрываются касты; фирмы, в одеждах которых выступают традиционные торговые дома с характерными для них коллективизмом и монополией; государства, под вывеской которых прячутся преступные группировки, бывшие эмираты и султанаты или даже империи. Ныне, по мере ослабления политической хватки капитализма и коммунизма в мире, эти киборги, оборотни, похожие на странных существ с полотен Босха, эти джинны выпускаются или сами выходят из распечатанной бутылки Истории. Они начинают вести себя все в большей степени как action man — и это в то время, когда активность европейцев в мире, похоже, снижается, будь то «буржуи-космополиты» или «коммунисты-интернационалисты», когда они не могут решить те проблемы, которые 20–25 лет назад, в эпоху Холодной войны были бы разрешимы или просто не возникли. Началось, пожалуй, американскими заложниками в Тегеране в 1980 г., затем — уязвимость американцев в Сомали в 1993 г. Были аналогичные ситуации и у СССР/России в последнее десятилетие. Показателен недавний случай с захватом в Афганистане российского самолета с экипажем и американского самолета — тоже с экипажем. Кто захватил? Талибы, некое движение Талибан. Американцев отпустили, русских удерживают (на момент написания этих строк) в Кандагаре. Но дело даже не в этом, а в самом факте задержания самолетов двух могущественных мировых держав неким сугубо местным движением. И в принципе никто ничего не может сделать. Почему? Почему, например, невозможна совместная русско-американская показательная полицейская акция — по типу тех, что проводил последний великий римский полководец Аэций по отношению к варварам — гуннам, готам и другим, если они захватывали римских граждан (подданных Римской империи)? Конечно, акции подобного рода нужно уметь осуществить. До сих пор только израильтяне в Энтеббе продемонстрировали филигранное исполнение и показали, как надо наказывать бандитов. Но умение — вопрос второй. Прежде всего, нужна политическая воля и чувство солидарности в противостоянии надвигающемуся хаосу. А вот этого, увы, нет. За державу обидно. Конечно, наказания без вины не бывает. Турбулентный поток, который охватил Афганистан, в меньшей степени Иран, еще в меньшей степени Пакистан, т. е. тот регион, который иногда (хотя и не все) именуют «Средним Востоком», противопоставляя Востоку Ближнему («левантийскому») и Средней Азии (экс-советской), — в значительной степени дело рук СССР и США. «Не буди лиха, пока оно тихо», «не выпускай джинна из бутылки». Разбудили и выпустили. США поддерживали шаха Ирана в его политику модернизации и вестернизации страны. Получили исламскую революцию 1979 г. со всеми вытекающими последствиями. СССР в том же году (какое совпадение!) ввел войска в Афганистан. Официальная реальная цель — стимулировать там модернизацию в виде коммунизации, советизации (о других возможных реальных целях, но уже не государства, а «групп интересов» можно лишь гадать и размышлять). Результат — «семилетняя война», которая, как заметил О.Руа, была не последней басмаческой войной, а первой войной Север — Юг в рамках Советской империи или советской зоны влияния в мире. Итог — уход из Афганистана, который из некогда стабильного и дружественного по отношению к СССР (России) превратился в нестабильный и недружественный — одна из худших комбинаций. А кто помогал моджахедам? США и Пакистан. Тот самый Пакистан, который, согласно жалобам афганских дипломатов, стремится ныне дестабилизировать обстановку в этой стране, поддерживает Талибан, появившийся будто из ничего, словно «человек ниоткуда». Ну что, поработали на славу. СССР. США. Съемка окончена. Всем спасибо. Так кризисные явления мировой системы XX в. и ее подсистем — капиталистической и коммунистической — перерастают прямо или косвенно в мировой кризис. Нынешний кризис капитализма становится мировым кризисом, кризисом планеты и по другой линии — по линии отношений с природой. По этой линии кризис могут ощутить и бушмен, и индеец с Амазонки, и кочевник из Мавритании. Вот уж действительно — без вины виноватые. И здесь мы доходим до конца социального качества и переходим к качеству природному или, точнее, социоприродному, поскольку оно связано с общим динамическим равновесием в природе, между природой и обществом, с экологией человека, демографией и т. д. Системный кризис капитализма включает его отношения с природой, биосферой. Это кризис Капиталистической Системы как элемента Биосферы. Капитализм основан на необратимой эксплуатации природы, как и коммунизм (только у коммунизма больше экономических потерь, чем приобретений). Это конкретное проявление природоборчества христианского исторического субъекта, Европейской цивилизации. Кризис мировой системы — планетарный кризис. СПИД, озоновые дыры, «пули Дьявола» (результат мутации сине-зеленых водорослей), прионы, угроза исчезновения мужского гена — все это может оказаться лишь цветочками по сравнению с биологическими мутациями в XXI в., так же как конфликты XX в. — всего лишь прелюдией к жесточайшей борьбе за ресурсы (еда, вода), воздух, биологические органы человека, пространство, борьбе за сознание и подсознание — и в них; в киберпространстве — и за него. Эти аспекты борьбы могут достичь необычайной остроты, особенно если нынешние убаюкивающие прогнозы относительно того, сколько населения может выдержать Земля, лживы или просто ошибочны и если правы в своих оценках Н.Тимофеев-Ресовский и Н.Моисеев. Они, каждый используя свои принципы подсчета, пришли к выводу, что максимальная численность населения, которую Земля способна выдержать и которой может обеспечить достойную жизнь, — это 600 млн. — 1 млрд. человек. На это, казалось бы, можно возразить: да уже сейчас население Земли в 6–10 раз больше. Но речь-то идет о достойном существовании, а не по принцип «сельди в бочке» или «лемминги накануне массового самоубийства». Распихав людей по концлагерям и резервациям, покрыв последними земной шар, можно, наверное, расселить на планете и 100 млрд. Но нужно ли это кому-нибудь? И что за мир это будет? По собачьей конуре на рыло населения в 2100 г.? Согласно прогнозам, производство продовольствия в начале XXI в. сконцентрируется в ядре Капиталистической Системы, и оттуда продовольствие будет экспортироваться в мир. Опустошение сельских районов Юга, его неспособность прокормить себя, накопление населения в мегаполисах как разбухающих «зонах неправа» — все это максимально обострит противоречия между Севером и Югом, между «точками» Севера и окружающими их зонами Юга. В такой ситуации не исключены локальные или даже региональные призывы «сарынь накичку», идейным обоснованием которых могут стать новые религиозные или экологические культы. Мы начали с капитализма, а кончили Биосферой. Но внутри капитализма, рядом с функциональным капитализмом находился его негативный близнец — коммунизм. И умер он раньше функционального капитализма, который по-осеннему отходит, но еще не отошел. Таким образом, коммунизм, его падение, а не упадок капитализма оказывается самой маленькой «матрешкой», иглой Кощеевой смерти, находящейся в яйце (а яйцо — в щуке, а щука — в утке, а утка — в волке и т. д.). Коммунизм держал (на взаимных началах) функциональный капитализм и, таким образом, капитализм, его мир в целом. Теперь все — finita. Кончился коммунизм — и мир зашатался, оказавшись у некой черты, перед лицом нескольких кризисов, вырвавшихся из «кладезя бездны» Истории, а точнее — с многоголовым и многослойным социальным кризисом, у которого к тому же есть сильнейшее социоприродное и природное измерения. Заказывали кризис? Кушать подано. «Игла смерти» сломана, кладезь бездны отперли. Коммунизм и капитализм — ключ к ней. Стуцали — и отверзлось. Разумеется, дело не обстоит так, что рухнул коммунизм и поэтому — по «принципу домино» — посыпалось все остальное. Ситуаций иная: надломился капитализм, в котором «сконденсировались» и Европейская цивилизация, и христианская субъектность, и субъектный поток исторического развития. И первым от надлома рухнул коммунизм. Но по закону обратной связи это еще более подрывает капитализм как мировую политико-экономическую систему, подталкивая ее к последней черте, а вместе с ней и другие системы, из которых он вырос и в которые он пророс.
Из схемы видно, как капитализм стержнем проходит сквозь остальные целостности, подводя их вместе с собой к определенной черте. Что же находится за этой чертой? Каким должен быть постсовременный мир, посткапиталистическая фаза Европейской цивилизации — логически, исходя из тенденций прошлого и нынешнего развития? Историческая картина, конечно же, будет разнообразнее и богаче содержанием и формами по сравнению с логическим типом. LМир, который рождается под звон Колоколов Истории и который должен будет остановить этот звон, будет некапиталистическим. В нем могут быть и более или менее антикапиталистические зоны или точки (это зависит от способа и обстоятельств их возникновения), но, естественно, не на коммунистической основе. Коммунизм — это параллельный капитализму и, так сказать, внутрисистемный антикапитализм; значительно более страшным может оказаться антикапитализм посткапиталистический и вне(или пост)системный. Все это, впрочем, не исключает наличия капитала как социальной формы — капитал в неформационном смысле существовал в докапиталистических обществах, он может существовать и в посткапиталистическом. Капитализм реализовал, завершил универсалистскую программу христианского субъекта, и этим он вызвал в XX в. партикуляристские антисовременные реакции (антикапиталистические реакции XIX и значительной части XX в. — до иранский революции 1979 г. — были универсалистскими). Ныне мы можем наблюдать упадок универсалистских идеологий — либерализма и марксизма, и потому логично предположить неуниверсалистский, партикуляристский характер новых систем идей. Деуниверсализация европейских ценностей и христианского субъекта способна привести к острейшей социокультурной коллизии. Христианство, христианский субъект всегда претендовали на универсальность; последние 200 лет марксизм и либерализм, коммунизм (1917–1991 гг.) и капитализм — каждый по-своему — пропагандировали и распространяли европейско-христианские ценности во всем мире, стремясь представить их в качестве универсальных, общечеловеческих. Не случайно падение коммунизма и осень капитализма сопровождаются аккомпанементом различных партикуляристских, неоязыческих форм. Кто знает, может быть, не так уж далек от истины П.Бурдье, полагающий, что XXI в. станет временем триумфа неоязычества. В любом случае в следующем столетии перед Европейской цивилизацией, по-видимому, встанет выбор: либо «изобретение» новой религии откровения (это кажется маловероятным), либо партикуляризация европейских ценностей, признание принадлежностью только Европейской цивилизации, что неизбежно усилит неоконсервативные элементы, тяготеющие к неоязычеству. Партикуляристский, неуниверсалистский субъект — возможно ли это? В принципе — да. Такой субъект был характерен для Античности. Правда, в Античности он был прежде всего коллективным. Реальным социальным индивидом и субъектом выступал полис. Попытка отдельного человека стать социальным индивидом, что возможно лишь в форме личности, как правило, приводила либо к изгнанию, либо к его гибели (как в случае с Сократом). И даже кризис, упадок полиса и возникновение имперских форм привели не столько к общественной фиксации личности (это — достижение христианства), сколько к приватизации коллективного бытия социального индивида. После двух тысяч лет существования христианства партикуляризация и хотя бы частичная коллективизация европейского христианского субъекта, например, на этнической, локалистской или экодвиженческой основе, на основе того или иного меньшинства — сексуального, религиозного — представляется социоинженерной задачей не из легких. Впрочем, национал-социализм и коммунизм уже продемонстрировали попытку подобной социальной инженерии на узконациональной и узкоклассовой основах. Вообще опыт большевиков и национал-социалистов интересен, помимо прочего, с точки зрения экспериментов по выходу из капитализма и из современного общества, Модерна. Коммунизм был попыткой построить антикапитализм («посткапитализм») на универсалистской основе, иными словами, покинуть капитализм по универсалистским рельсам. Национал-социалисты играли не только по другим правилам, но и на другом поле. Они хотели уйти не из капитализма (он сохранялся), а из современного (modern) общества и создать капиталистический социум и райх на партикуляристской, антиуниверсалистской основе. Отсюда — неприятие как христианства, так и либерализма и, естественно, либеральной (буржуазой) демократии. Аналогичное неприятие было характерно и для советского коммунизма — с существенным, однако, нюансом. Коммунизм отрицал христианство и либерализм как частные формы универсализма с позиций другой частной (для коммунистов, естественно, единственной верной) формы универсализма же. Таким образом, по линии «универсализм — партикуляризм» советский коммунизм парадоксальным образом оказался ближе к западным демократиям, чем к национал-социалистическому рейху. Однако, конечно же, не это определило то, что СССР и западные демократии оказались союзниками по антигитлеровской коалиции, а прежде всего два других фактора. Во-первых, чисто геополитические и военно-стратегические соображения, о чем говорили прямо Уинстон Черчилль и иносказательно Иосиф Сталин. Во-вторых, тот факт, что СССР не был положительным элементом Капиталистической Системы, был вне ее, представляя антикапиталистическую мировую систему. Внутри самой Капиталистической Системы континентальная Германия представлялась для Великобритании и США большей угрозой, чем СССР, который был частью Капиталистической Системы лишь функционально-негативно. СССР не был участником борьбы за гегемонию внутри Капиталистической Системы, «капиталистической мир-экономики». В такой ситуации универсализм коммунизма стал лишь дополнительной идейной гирькой на чаше весов выбора. Однако по линии «антикапитализм-некапитализм» для CCCP были неприемлемы как союзники, так и «осевики» вместе взятые. Не вдаваясь в фактографию, отмечу принципиальную логическую справедливость изображения ситуации в хулимом ныне многими у нас и на Западе «Ледоколе» В.Суворова. Другое дело, что война, которая могла задумываться одной из сторон как мировая классовая, межсистемная, реально в истории оказалась внутрикапиталистической, внутрисистемной. Антикапитализм выступил на стороне одного капиталистического сегмента против другого, обеспечив своей демографической массой, пространством и готовностью ради победы пожертвовать огромной частью населения победу США в борьбе за гегемонию в «капиталистической мир-экономике». То, что война получилась именно такой, свидетельствует не столько о торжестве случая (Сталин «опоздал» на две недели, и Гитлер будто бы упредил его), сколько о мощи Капиталистической Системы и железной хватке ее законов в первой половине XX в.: логика внутрикапиталистической борьбы оказалась сильнее, подмяла, подчинила себе, интериоризировала и раздробила логику борьбы коммунизма с Капиталистической Системой. Это — лучшая иллюстрация функциональности и негативизма, т. е. вторичности коммунизма по отношению к капитализму. Впрочем, военный, военно-стратегический аспект взаимодействия Русской и Капиталистической Систем, коммунизма и капитализма — особая тема для отдельного разговора. В обеих попытках (коммунистической и нацистской) экспериментирования с выходом за пределы капитализма и Современности были заключены свои внутренние противоречия — разной силы и разной степени соответствия XX в. В одном случае капитализм — универсально-планетарная и универсалистская система — отрицался на универсалистской же основе, с ее использованием, но со знаком минус. В другом случае капитализм использовался для отрицания универсализма; антиуниверсализм становился идейной основой капиталистического общества германского рейха. Это внутреннее противоречие было в случае национал-социализма значительно более острым и опасным для него, чем в случае коммунизма. Во-первых, сам коммунизм как система был в качестве особой зоны вынесен за рамки капитализма, находился вне ее, а национал-социализм занял место в самом ядре, в самом сердце капиталистической мир-экономики. Это была внутренняя для нее угроза, намного более опасная. Коммунизм не угрожал экономике капитализма непосредственно. Во-вторых, универсализм в значительно большей степени соответствовал функциональному капитализму XX в., самому этому веку как Великой Функциональной Эпохе. Национал-социалистская идеология XX в. в целом не соответствовала. Она пришла слишком поздно (или слишком рано). Капитализм — универсальная система, у нее не может быть партикуляристской основы. Национал-социализм — это капиталистический колосс на глиняных идейных ногах; капитализм, в который пускают по расово-этническому принципу — только арийцев, не мог устоять. Ясно, что при прочих равных условиях такая система в XX в. более уязвима, чем те, чья идеология носит универсалистский характер. Помимо чисто военно-экономических факторов это стало одной из причин поражения Германии. Для людей на Западе коммунизм — антидемократический универсализм — оказался более приемлемым, чем национал-социализм, антидемократический партикуляризм, а Сталин более приемлемым, чем Гитлер. Разумеется, при этом не следует забывать и о том, что Гитлер был под боком, а Сталин — далеко, а потому казался менее опасным, т. е. о чистой геополитике, которая играла решающую роль в выборе союзников. Формально-логически партикуляристским должен был быть антикапитализм (т. е. коммунизм), а универсалистским — капитализм. Но история — не учебник формальной логики. Кроме того, коммунизм, будучи полным функциональным отрицанием капитализма, мог быть только универсализмом. Но с противоположным знаком. Национал-социализм такую роскошь себе позволить не мог. Национал-социалистский режим не выходил за рамки капитализма, капиталистической организации общества. Поэтому он мог выступать только как иной капитализм — не универсалистский, а антиуниверсалистский, партикуляристский. Отсюда — ловушка, угол, в который он себя и загнал. Это, однако, не значит, что «этносоциализмы» (точнее «этнокоммунизмы») в принципе невозможны. Они возможны — на антикапиталистической основе. Или, скажем, в посткапиталистическом и постсовременном мире. «Беда» коммунистов и нацистов заключалась в том, что, живя в обществе, которое одновременно было современным и капиталистическим, они отрицали один из его важнейших интегральных аспектов с помощью другого: либо капитализма с помощью универсализма как формы Modernity, либо саму Современность на основе капитализма. Коммунистическая стратегия отрицания, «коммунистическая отрицаловка», разумеется, в определенном геоэкономическом и геополитическом контексте, оказалась более успешной. Некапиталистический партикуляризм (или партикуляристский некапитализм) — вот по-настоящему логичная формула общества XXI в., практический идейно-политический путь в XXI в. Учитывая экологический кризис, это общество, помимо прочего, должно перестать быть природоборческим, что опять же ослабляет позиции христианского исторического субъекта. Разумеется, все это — упражнения в логике истории. Но существует «история истории», она-то и есть история. В любом случае, однако, посткалиталистический социум, чтобы состояться, должен будет решить противоречия не только капитализма, но и остальных систем, чей кризис вызвал капитализм, чьей иглой Кощеевой смерти он оказался. Вполне возможно — и скорее всего так и будет — не найдется одной-единственной системы, модели, формы, способной решить, устранить противоречия всех потоков и систем, оказавшихся у одной черты. Наиболее вероятно наличие нескольких вариантов «постистории», «постразвития» (посткапиталистического, постсовременного и т. д.) как способов отрицания старого, как форм преодоления нескольких кризисов, кризисов нескольких целостностей. Едва ли всех, но, скажем, трех-четырех в одном случае, двух-трех в другом и т. д. Хотя в большей или меньшей степени новые системы должны будут реагировать на проблемы всех исторических целостностей, указанных в схеме. В любом случае разнообразный, пуантилистский и в то же время целостный в многообразии мир — как цельными кажутся издалека картины, выполненные в пуантилистской манере, — вот, скорее всего, облик XXI в. LIОсновоположники марксизма-ленинизма любили повторять, что марксизм — не догма, а руководство к действию. Деятельностный характер марксизма был сформулирован Марксом еще до оформления марксизма — в одиннадцатом тезисе о Фейербахе. Активизм марксизма — это лишь одно из проявлений активизма Европейской цивилизации, христианского исторического субъекта. В их традициях знание, даже теоретическое, всегда имеет мощный практический аспект. Не случайно в Европе изобретения, как свои так и чужие, быстро превращались в нововведения, т. е. социально утилизовались. Знание — сила. Чтобы действовать, надо знать. Чтобы действовать в конце эпох, в часы на закате и на рассвете эпох, а также между этими фазами, когда рушатся или дают трещины социальные системы, у конца эпох, когда падает дух их идеологических и властных защитников, надо обладать новым знанием. Не знанием новых фактов, а знанием, имеющим новую структуру, новые методы, новый угол зрения, новые базовые объекты исследования и единицы анализа; надо иметь не новые ответы, а новые вопросы. Новое понимание. Речь сейчас пойдет не о таком новом знании в целом, не о его принципах и формах организации — это самостоятельная тема, а лишь о двух его сферах, тематически связанных с данной работой, — об анализе социального упадка и революций. Прежде всего, необходимо знать, как кончаются, умирают, рушатся исторические системы — будь то империи, формации или цивилизации. Современное социальное знание носит в известном смысле ювенильный или, по крайней мере ювенильно ориентированный характер. Науку об обществе интересуют главным образом ранние стадии и периоды расцвета. Значительно меньше внимания уделяется закатным эпохам, эпохам конца. Им не везет еще и в том отношении, что если к ним и обращаются, то чаще всего под определенным углом: стараются найти и подчеркнуть ростки нового. А когда последних не видно, интерес исчезает почти полностью. Это как в жизни, где молодые и дети вызывают больше интереса, чем старые. Понятно, но несправедливо и неправильно, напоминает логику Буратино, изгоняющего сверчка из каморки Папы Карло. «Осень Средневековья» Й.Хёйзинги так и не стала исходным пунктом некоего мощного направления исследований «социальной осени». Пример ювенильно-ориентированной науки — изучение Древних Афин. Мы знаем историю Солона, Фемистокла, Перикла войн с персами; в меньшей степени — Пелопоннесской войны, Демосфена и… все. Античные Афины как бы оканчиваются IV в. до н. э., внимание и интерес смещаются к Македонии, затем — к Риму. А что же Афины, они, что, исчезли? Их смыло потопом, как когда-то, по версии саисских жрецов и Платона, легендарные Афины, противостоявшие атлантам, вместе с этими последними и страдой — Атлантидой? Нет, не смыло. Поздние Афины (261 г. до н. э. — 80 г. до н. э.; первая дата — утрата Афинами права чеканки собственной монеты; вторая — разгром Суллой демократов-террористов) — это очень интересная и поучительная страница в истории. Поздние Афины — это Афины, отказавшиеся от богини Афины как символа величия города и заменившие ее Афродитой: не мудрость, а любовь; не ум, а тело. Это Афины, объятые восточными культами, боготворящие царей (Птолемеев). Это город богатых и знатных; город демоса, который не любит демократию. Ж.-Ф. Ревелю, написавшему книгу «Как гибнут демократии», следовало бы использовать Афины в качестве классического случая. Но для подавляющего большинства Афины — это Перикл и демократия. Повезло ли больше финалу европейского Средневековья, второй половины XIV–XV вв.? Нет. Написано-то много, но в основном в ракурсе выявления «ростков нового». Ныне смещение фокуса на «темные эпохи» — закатные и органически вытекающие из них раннерассветные — не только теоретический, но и практический императив. Анализ поздних фаз и упадка социальных систем, сравнение нисходящих фаз в исторической перспективе — важнейшая актуальная практически-теоретическая задача. Нам необходима новая «дисциплина», нечто вроде «социальной эсхатологии» (или «историко-системной финалистики»,[24] чтобы не нарваться на социальный апокалипсис. Нынче модно говорить о кризисе и о кризисах. О кризисах экологическом и демографическом, экономическом и политическом. Слово — затаскано. Порой кажется, что употреблением его — впопад и невпопад — говорящие пытаются то ли заслониться от пугающей реальности, то ли спрятать реальный кризис от других и самих себя, то ли заставить себя и других привыкнуть к тому, что отстраненно. остраненно и туманно именуют «кризисом». Имеет смысл — и вообще, и в рамках социальной эсхатологии — присмотреться к крупным или, как теперь любят выражаться, «глобальным», злоупотребляя этим словом, кризисам (хотя, по-видимому, глобальный кризис — впереди, и он, похоже, будет единственным в истории человечества, если, разумеется, «забыть» о кризисе верхнего палеолита). Или, скажем скромнее, к системным кризисам. Например, к европейскому кризису второй половины XIV — первой половины XV в. (закат Средневековья, ранний-ранний рассвет Нового времени). Социальные революции конца XIV столетия, которые историки ХIХ—ХХ вв., как либералы, так и марксисты, снисходительно-высокомерно называют «крестьянскими войнами», надломили и так уже гнувшийся хребет феодального общества. Тем самым они открыли путь «новым монархиям», странному и страшному миру Макиавелли, Босха и Шекспира. Не менее интересен кризис Римской империи III в. н. э. Для нас он особенно важен тем, что, в отличие от позднесредневекового кризиса, включает разлом по линии центр — периферия, метрополия — варвары. Ну и, наконец, великий кризис Средиземноморской системы XII в. до н. э., когда переселялись народы, рушились царства и возникали страшные, державшиеся только на военной силе державы. Разумеется, в истории не бывает повторений, и, скажем, в том кризисе, в который въезжает Капиталистическая Система, видны черты всех трех кризисов, которые я упомянул. Плюс кризис в отношениях с природой. Одна из немногих оппозиций, которую капитализм не может интериоризировать, превратить в свое внутреннее противоречие и решить в качестве такого, — это противоречие Общество — Природа (Капиталистическая Система — Планетарная Биосфера). Кстати, аналогичная ситуация имела место в обществах «азиатского» способа производства, где социум не может решить в собственных рамках свои противоречия с «локальной биосферой» и они «решаются» с «помощью» либо антисистемных восстаний, либо кочевых завоеваний — в ходе и тех и других вырезается «избыточная» часть населения; и те и другие представляют собой механизм восстановления равновесия общества с природой и равновесия внутри общества. Но для этого приходится выходить, хоть и негативно, за рамки самого общества. Аналогичным образом НТР может предложить решение противоречия Общество — Природа путем создания искусственной природы. Многие специалисты считают, что завершением НТР должна быть биотехнологическая фаза. И логически так оно и должно быть. Но это означает выход за рамки капитализма (с непредсказуемыми для него последствиями: логически в случае капиталистической гомогенизации мира энергия капитализма уравнивается с его энтропией, исчезает разность потенциалов) и может произойти только за его социальными пределами. Более того, все это предполагает пересмотр идейных и ценностных основ не только капитализма, но и христианства. В этом смысле НТР в самом своем начале, уже самим фактом своего бытия снимает не только главное, системообразующее противоречие капитализма — между субстанцией и функцией. Устраняя последнее, она социопроизводственным образом снимает и центральное, осевое противоречие христианства — между духом и материей. Таким образом, НТР оказывается Терминатором не только капитализма, но и христианства. В этом нет ничего удивительного. Ведь капитализм создал ту систему производства, которая являлась наиболее адекватной христианству: великая мировая, внелокальная, универсалистская природоборческая система. Капитализм есть, кроме всего прочего, опроизводствление христианства. Не случайно «Великая Капиталистическая революция» 1517–1648 гг. начиналась как фундаменталистская, как возвращение к раннему христианству, к основам. НТР подводит черту под историко-культурной и социогенетической программой не только капитализма, но и христианства. С капитализмом умирает христианский Бог. Мир НТР, мир Постмодерна и есть Страшный Суд — христианства и над христианством. Как знать, быть может, сохранение европейских ценностей, Европейской цивилизации возможно лишь вне христианской оболочки, с признанием локального характера Европейской цивилизации при универсалистском характере христианско-европейской личности. Но в таком случае христианство становится сугубо индивидуальным выбором без надежды на воздаяние и прогресс, чем-то, похожим на стоицизм Поздней Античности с его светлым пессимизмом разума, но оптимизмом воли — как это продемонстрировал Марк Аврелий, упорно творивший свой limes. Христианство без христианского Бога, христианство, сведенное только к личностному измерению, «сжимающееся христианство» только внешне напоминает христианство первоначальное. И дело не только в том, что между ними — две тысячи лет. Дело в том, что христианство XXI в. не может не быть пессимистично-разумным. Это христианство руин. Провалились и рухнули все проекты, обусловленные им. Политические проекты XVIII в. XIX в. хотел добиться того же экономическим путем — неудача. XX в. пытался реализовать социальный проект. Результаты — те же, что и у предшественников. Остается личность, да и она — не крепость, уязвима для наркотических и психотропных средств. Но если личность начала христианства завоевывала мир, весь мир лежал перед ней, то ныне эта личность отступает, оставляя целые зоны «бесхристианскому капитализму», который есть триумф капитала, но не капитализма, который в тенденции есть возвращение к капиталу докапиталистических обществ. Христианство оформилось одновременно с правом — римским правом, они тесно связаны друг с другом. Поэтому возникновение «зон неправа» — это и удар па христианству. Нынешние успехи некоторых азиатских обществ — это успехи, особенно в перспективе, по пути не капитализма, а декапитализации Капиталистической Системы, возникновения (возрождения) докапиталистических (некапиталистических) макрорегионов-зон производства и обмена, возникновения мира, где капитализм из господствующего, системообразующего элемента становится одним из элементов иной системы, мира без господства христианского субъекта и универсалистских ценностей. Очень показательны в этом отношении идейные сдвиги, происходящие в азиатско-тихоокеанском регионе. Как заметил А.Дирлик, возрождение конфуцианства в этой зоне есть попытка создать восточноазиатскую идеологию, направленную против гегемонии США и Европы в капиталистической мир-экономике. Однако это «новое» антиевропейское конфуцианство резко отличается от традиционного. Его задача — встроить конфуцианство в «менеджерский капитализм», а самому этому капитализму, в котором акцентируются организация и солидарность всех работников фирмы, их беспрекословное подчинение старшим, привить азиатскую (неуниверсалистскую!) идентичность. Перед нами попытка укрепления капитализма на партикуляристский манер, социометодологически чем-то похожая на национал-социалистский опыт, но, в иной, регионально-цивилизационной, а не национально-расовой (по крайней мере реализуемая пока) форме. Поэтому ныне эта региональная форма привлекает даже американских менеджеров, но в будущем вовсе не исключен расовый партикуляризм, смешанный с конфуцианством. В мусульманских странах азиатско-тихоокеанского региона упор делается на ислам. В новой системе разнообразных «капитализмов» на место капитала заступает Организация, в которой капитал и капитализм будут выполнять скорее функциональную, служебную роль. Главным же будет сохранение, самовоспроизводство Организации в региональных рамках. Организация-регион. На этнокультурной, цивилизационной основе. Цель, характерная для докапиталистических обществ: самовоспроизводство в региональных рамках. Средство наряду с другими: капитал. Внешне — докапиталистический динозавр. По сути — неодинозавр. Организации такого рода — не ТНК, не государство, а нечто совершенно новое, для чего еще нет термина. Они скорее всего будут олицетворять единство политики и экономики (похоже на «докапитализмы»), контролировать социальные и духовные факторы производства (как при коммунистическом порядке), акцентировать коллективистские ценности («докапитализмы», коммунизм) на партикуляристской основе (национал-социализм в модифицированном виде этносоциализма, этнокоммунизма, этноколлективизма), накапливать капитал (капитализм), используя для этого современнейшую технику (поздний капитализм, НТР). И речь необязательно во всех случаях идет о смешении; иногда возможно и более или менее органическое единство с иерархией подуровней, причем иерархия эта может быть гибкой и меняющейся — tangled hierarchy, как на картинах М.Эшера. Чем-то подобные Организации, их иерархии могут напоминать Венецию самого конца Средневековья, Ост-Индские компании, чей расцвет приходится на генезис и самую раннюю фазу капитализма, на вход в капиталистическую эпоху. Показательно, что и «Военно-торговый дом Венеция», и Ост-Индские компании пришли в упадок по мере развития капитализма. Появление сходных организаций на «выходе из капитализма», т. е. располагающихся симметрично во времени, кажется мне и симптоматичным, и индикативным — указывающим на развитие в сторону некоего нового мира. В таком мире, внешне напоминающем военно-торговые зоны арабского мира, ал-Хинда, Юго-Восточной Азии или Восточной Европы той эпохи, которую для Западной Европы называют Средневековьем, — даже если его агенты-Организации не провозгласят официально свой не(или анти)капиталистический характер, — капитализму (и даже капиталу) вовсе не гарантированы передовые позиции. Напротив, «капитализм» и «государственность» могут оказаться уделом наиболее отсталых и архаичных зон, полурабских гетто постсовременного мира, его «рудников Лавриона», составляющих в совокупности «нижний мир», «туннель» под постсовременным миром, в котором путь в капитализм означает путь в отсталость и аномию бидонвилей, трущоб и плантаций. Разумеется, это — гипотеза или даже воображение. Но, как в свое время показал Ч.Райт Миллс, социологическое воображение в определенных ситуациях — полезный метод. У вступающей в такой мир личности христианского типа, независимо от того, идет ли речь о верующем или атеисте (атеизм возможен только в христианстве), по сути, нет ничего, кроме нее самой, кроме мыслящей точки. Нет надежд ни на социальные, ни на экономические, ни на политические проекты. Все они пошли прахом. Думаю, этот личностный пуантилизм соответствует грядущему пуантилистскому миру. Единственная незыбкая субстанция, которой обладает человек, — это личностность, универсальная социальность как таковая. Это единственный материал, из которого можно строить новую структуру (постсовременную, посткапиталистическую, «христианско-постхристианскую», партикуляристскую) Европейской цивилизации. Или, точнее, начинать строительство Европейской цивилизации как локальной после двухтысячелетнего блестящего универсалистского ее периода. Выше уже шла речь о том, что капитализм по сути не создал своей цивилизации — он положительно антицивилизационен, а также о том, что капитализм как формация адекватен христианству, производственно-технически выполняет его историко-культурную программу. Есть еще одно существенное сходство между христианством и капитализмом: христианство в известном смысле не менее антицивилизационно, чем капитализм. Только у капитализма это качество имеет производственную основу, материальную, а у христианства — культурно-историческую, духовную. Но здесь мы должны прежде всего договориться о терминах, точнее — о термине, о том, что подразумевается под «цивилизацией». Согласимся с Декартом — Il faut definir le sens des mots. LIIТермин «цивилизация» затаскан. Его еще более обесценивает то, что нередко в различных контекстах, а иногда даже именно в одном и том же в него вкладывают принципиально различное содержание. В результате «цивилизация» становится столь широким и всеобъемлющим понятием, что лишается научного и практического смысла, — всё цивилизация. Говорят о «мировой цивилизации» и о «цивилизации бушменов», о «капиталистической» и «китайской» цивилизациях, о цивилизации «верхнего палеолита» и «американской», о «христианской» и «буддийской». Естественно, что в такой ситуации цивилизационность как качество, с одной стороны, конкретизируется до предметов быта, обихода, с другой — становится максимально — абстрактным. Эта комбинация и создает ложное впечатление простоты и ясности того, что скрывается за термином «цивилизация», и, упрощая, ошибочно сводит к одному понятию несколько совершенно различных явлений, различных по принципу конструкции исторических систем, а не просто неких культур. Я не имею в виду различия, зафиксированные в свое время, например, Энгельсом и Шпенглером. «Капиталистическая цивилизация», «христианская цивилизация», «китайская цивилизация» — в каждом из этих трех случаев качество «цивилизационности» и принцип, критерий определения цивилизации различны и как минимум ставят под сомнение друг друга. Разумеется, повторю, это в том случае, если цивилизация есть для нас некое ограниченное понятие, а не концептуальный надувной мешок, в который с чувством глубокого удовлетворения можно запихнуть почти все, что угодно. Например, если мы говорим о «китайской», «индийской» или даже «античной цивилизации», то речь идет о локальных партикуляристских исторических формах. «Христианская цивилизация» — это уже нечто иное, универсалистская система, отрицающая именно те качества цивилизации, которые характерны для китайской, античной или майяской цивилизаций, отрицающая их цивилизационность, то, что лежит в основе последней и определяет ее. «Европейская цивилизация» — еще одно новое качество. В отличие от всех других целостностей, именуемых цивилизациями, эта последняя на несколько порядков сложнее по конструкции: она многосоставна, многоклеточна, представляет собой органическое (хотя и напряженное) единство нескольких традиций — античной, иудео-христианской и германской. Такой сложности, комплектности нет вне Европы (хотя, разумеется, за сложность, как за многоклеточность, надо платить; одноклеточные, например, бессмертны, а эволюция — это не выживание наиболее сложного, а survival of the fittest). Наконец, «капиталистическая цивилизация». Что это такое? Европейская цивилизация эпохи капитализма? Если да, то термин «капиталистическая цивилизация» не имеет смысла, он — лишний. Если нет, то суть явления, скрывающегося за этим термином, непонятна: чем тогда «капиталистическая цивилизация» отличается от «капиталистической формации»? Ну а с «мировой цивилизацией» и того хуже. Что это: совокупность всех цивилизаций, сваленных в одну кучу, или некая целостность? «Цивилизация по совокупности» невозможна, это ясно. Целостность? Кто субъект этой целостности? Человечество? Тогда речь должна идти о «земной цивилизации» как цивилизации, созданной Homo sapiens и не имеющей никаких частных особенностей. Но это уже такое измерение «цивилизационности», которое имеет мало отношения к исходному и воспринимается скорее как метафора. Мы постоянно смешиваем метафорическое и понятийное определения цивилизационности. Причем, когда речь идет о «земной цивилизации», мы помним о большей или меньшей метафоричности этого словосочетания, когда же о «мировой» и «капиталистической» — начисто об этом забываем и пользуемся ими как собственно научными понятиями. Если с мировой и капиталистической «цивилизациями» ситуация закавыченности в общих чертах еще прояснима, то с тем, что именуют Христианской и Европейской цивилизациями, дело обстоит сложнее. Как только мы ставим их в один ряд с индийской, китайской, древнеегипетской или инкской, да и друг с другом тоже, гармония и логичность ряда исчезают. Уж очень разные целостности оказываются под одной крышей. Каким из них отдать предпочтение в качестве цивилизации в строгом смысле слова? Это зависит от критерия — с чего начинать. Если начинать с капитализма, то все остальное — недоцивилизации. Если же руководствоваться принципом историзма, подходить историко-генетически, то базовые, исходные понятия и определения цивилизации следует давать по более ранним, первым цивилизациям, т. е. по локалистским формам. Именно они суть базовые, исходные единицы, те качественные исторические состояния, по которым и из которых определяется, что такое цивилизационность, цивилизация. И тогда последняя — явление по определению локальное. Ни Европейская, ни Христианская к таким не относятся. Что же такое цивилизация? Шпенглеровское различение культуры и цивилизации здесь не поможет. У Шпенглера речь шла о различиях в рамках одной социокультурной целостности, меня же в данном случае интересуют различные целостности, принципы и исходные состояния для определения их качества как особых целостностей. Ныне цивилизации нередко противопоставляют формациям, «хороший» и «правильный» цивилизационный подход — «плохому» и «неправильному» формационному. И то и другое — крайности. Цивилизационность и формационность суть два различных аспекта, два различных лица исторической субъектности, исторического субъекта. Они тесно и зачастую хитро связаны друг с другом, но не сводятся друг к другу. Например, то, что именуют Европейской цивилизацией, существует в трех (или двух — в зависимости от включения или невключения античности в Европейскую цивилизацию) различных формационных вариантах. Напротив, неевропейские цивилизации так или иначе не выходят за рамки того, что именуют «азиатским» способом производства, представляя его локальные варианты, связанные с местными комплексами природных производительных сил. Цивилизационность исходно есть качество локальное, локалистское. С этой точки зрения христианство не просто нецивилизационно, оно — антицивилизационно. Можно, конечно, провозгласить наличие различных уровней цивилизационности. Но что взять в качестве критерия? Есть ли такой? Формации еще как-то можно сравнивать между собой по уровням: они соотносятся во времени и образуют временной, стадиальный ряд — если не исторически, то логически. АСП — рабовладение — феодализм — капитализм. И если соотношение антично-рабовладельческого и феодального социумов — вопрос сложный, то трансформация феодализма в капитализм посредством социальной революции очевидна, превращение налицо, но — в рамках одной цивилизации. Однако никогда не было прямого превращения одной цивилизации в другую: китайской цивилизации в индийскую, древнеегипетской — в шумерскую и т. д. Цивилизации соотносятся друг с другом не во времени, а в пространстве. Если формационные типы можно сравнивать друг с другом по тому вещественному и энерго-информационному потенциалу, которым они обладают, — абстрагируясь от противостоящей им «локальной биосферы», от геолокуса, от того, что евразийцы называли «месторазвитием», — то с цивилизациями так не выйдет. Они представляют собой единство социума со «своей» «местной», «частной» природой, со своим пространством. Цивилизации суть социоприродные комплексы. Поэтому такой критерий, как степень свободы социума от природы, не решает в данном случае проблем дефиниции. От какой природы? Каждой цивилизации противостоит ее локальная природа, к которой она адаптирована, с которой она составляет целостность. Как измерить «локальные» степени свободы общества от природы? Пока что у меня нет ответа на этот вопрос. И я не уверен, что сам вопрос корректен: когда природные факторы производства суть интегральные элементы социального процесса (и наоборот), как противопоставлять общество — природе? Капитализм создает искусственную природу, но это уже другая «лига» и другая степень свободы, принципиально иной тип свободы (и зависимости). Докапиталистические формы с христианской «начинкой» — феодализм, с одной стороны, Европейская цивилизация — с другой, занимают как бы промежуточное место между цивилизациями, с одной стороны, и капитализмом — с другой. Вот такой «неправильный» ряд. Итак, цивилизационность тесно связана с пространством, тогда как формационность — со временем. Точнее: связана в большей степени. Цивилизационность — это преимущественно социопространственное, локалистское (с эпохи капитализма — партикуляристское) измерение субъекта, здесь время как бы упрятано, закатано в пространство. Формационность — единовременное измерение, а следовательно, в нем теоретически заложена (но не гарантирована) возможность развертывания циклического, одноплоскостного («пространственного») времени в универсалистскую линию, стрелу времени. Формационность определяет, задает только общие социосистемные характеристики общества. Цивилизационность же — это более сложное и в то же время более конкретное историческое качество, в котором фиксируется конкретный способ фиксации или нефиксации субъекта в системе, конкретная для данного геолокуса форма соотношения субъектности и системности, отношений общества — с природой, индивида — с коллективом. Если формации суть социальные типы, то цивилизации — это скорее социальные индивиды, монады. Социальная фиксация в обществе индивидуального субъекта, иначе говоря, субъекта внелокального, универсального завершает цивилизационность как качество, как бы закрывает его и переводит развитие в иную (надцивилизационную, суперцивилизационную) сферу. Отсюда — одна цивилизация в нескольких формациях, бег во времени и с помощью этого — охват огромного, внелокального пространства. Собственно цивилизационное развитие здесь возможно главным образом как превращенно формационное, как усложнение и увеличение разнообразия исходного цивилизационного качества за счет включения в его органику — на каждой из новых социовременных стадий — иных культурных традиций, соответствующих этим стадиям. Разумеется, таких традиций, которые вписываются в исходное качество, соответствуют ему, сочленяются с ним. Но это — по принципу обратной связи — и означает исходную открытость данного качества. Последнее возможно только в том случае, если субъект не совпадает с системой, не растворяется в ней, социально фиксируется в ней, что размыкает ее, устраняет замкнутость, делает систему асимметричной и открытой. Но это, подчеркиваю, формационный источник развития цивилизационности, более или менее внешний по отношению к ней. Пример — Европейская цивилизация, на каждом новом витке своего формационного развития включавшая и усваивавшая органически новые цивилизационные, этнокультурные традиции. Нефиксация субъекта в обществе запирает развитие в локальных, пространственно-цивилизационных рамках, множа разнообразие пространственных, цивилизационных форм, но не выходя за рамки одного социовременного типа (одна формация в виде разнообразия нескольких цивилизаций). LIIIСоздав индивидуального субъекта с мощным универсалистским потенциалом, христианство сломало цивилизационность в ее исходном соционатуральном, природно-локалистском качестве и предложило иной, нецивилизационный алгоритм и вектор развития. На место цивилизации заступил Универсум — Христианский Универсум. Однако этот Универсум не мог не занимать некое пространство, не обладать некими пространством и характеристиками — локальными, средиземноморско-европейскими. Имея свой геолокус и будучи универсалистским, Универсум начал расширяться и довольно быстро включил в себя те локальные традиции, которые обладали индивидуалистским потенциалом (античная, германская). В этом смысле Европейская цивилизация не относится исключительно ни к исторически «чистому» ряду (локальных) цивилизаций, ни к Христианскому Универсуму. Она есть процесс и результат снятия противоречий между христианским универсализмом и цивилизационным локализмом, исторический компромисс между ними. Это противоречие было интериоризировано в том, что именуется «Европейская цивилизация», придав ей фантастическую, невиданную в истории динамичность. Европейская цивилизация стала уникальной исторической машиной, цивилизацнонные детали которой оказались самыми приспособленными к универсалистскому потенциалу,[25] а внелокальный индивидуальный субъект — мотор — обрел единственно возможную для себя цивилизационную форму. Не случайно Европейская цивилизация — цивилизация с «христианским мотором» оказалась единственной постоянно расширяющейся, ломающей свои естественные пределы. Причем этот процесс резко активизировался тогда, когда неевропейские цивилизации освоили все свое «естественное» локальное пространство и в XI–XII вв. в основном застыли у его границ. Именно в XII в. Европа взорвалась, и к XVI в. достигла «естественного» максимума, что резко обострило противоречие между цивилизационно-пространственной и универсально-временной компонентами Европейской цивилизации. Капитализм устранил это противоречие, снял его в себе как в мирового масштаба Капиталистической Системе. Последняя, таким образом, функционально заняла место Европейской цивилизации в субъектном потоке исторического развития, став новой, подлинно и единственно универсальной (в смысле: мировой) формой универсалистского внелокального христианского субъекта. Капитализм находится еще дальше от цивилизационности, чем христианство и Европейская цивилизация. Он — нецивилизационное решение противоречия между европейским пространством и христианским временем, между цивилизационностью и христианским универсализмом. Он — альтернатива решению, предложенному Европейской цивилизацией, и в то же время ее функциональный наследник, призванный выполнить ту же, что и она, задачу, но другими средствами и в другом масштабе. На мой взгляд, здесь проявляется еще один срез неоднородности и сложности субъектного потока исторического развития, оказывающегося своеобразным «историческим кубиком Рубика», стороны которого можно выложить по-разному. Например, можно представить субъектный поток так, как это делают чаще всего, — состоящим из двух цивилизаций: Античной или Европейской; можно предложить модификации: одна — Западная — цивилизация, представленная двумя формами — локальной (Античной) и универсалистской (Европейско-христианской). Другая картина — ряд из трех формаций: рабовладение, феодализм, капитализм. Но возможен и еще один ряд:
На первый взгляд этот ряд может покажется алогичным, ведь в нем смешаны цивилизационное и формационное. Однако такое впечатление обусловлено нестрогим определением понятия «цивилизация» и еще некоторыми обстоятельствами, о которых здесь нет места говорить. Главное же заключается в том, что перед нами три логически и исторически стадиальные, сменяющие друг друга системы субъектного потока. Первая — Античная цивилизация — это как бы одномерная система. Европейская цивилизация — система второго порядка, двумерная, возможна лишь как «опространствливание», ограничение в пространстве универсального по потенции и интенции христианского исторического субъекта. Наконец, капитализм — система третьего порядка, трехмерная. В ней и с ней христианский исторический субъект овеществляется и реально завершается как универсальный — мировой, планетарный: мир-система, мир(планета) — капитализм, мир-Христос (правда, в XX в. возник антимир, но это, как говорится, Бог в помощь). Пока не знаю, какими терминами определить то, что я гипотетически назвал системами первого, второго и третьего порядков, выстроив некий ряд. Ясно, что ряд этот не совпадает ни с формационным, ни с цивилизационным. Оба последних характерны как для субъектного, так и для системного потоков развития. Здесь же речь идет скорее о различных формах, стадиях, системах, имманентных только субъектному потоку развития, хотя это предположение нуждается в разработке и проверке. Однако в любом случае, Европейская цивилизация и капитализм существуют в качественно иных по содержанию и конструкции сферах, чем цивилизации. Со всеми вытекающими отсюда последствиями столкновений этих систем с (неевропейскими) цивилизациями. Успех Запада в краткосрочной и среднесрочной перспективе не означает автоматически успеха в долгосрочной, например поздне- и посткапиталистической, перспективе, поживем — увидим. Благодаря функции капитала, автономной от любой субстанции, от любой локальности, Капиталистическая система становится универсалистской и экономически. Функция капитала — вот реальное социопроизводственное воплощение христианского Бога. Ныне капитализм исчерпал (или почти исчерпал) то земное пространство, которое ему «по зубам», т. е. пространство «чистых форм», поддающееся темпорализации с помощью собственности, вещественной субстанции. Ныне капитализм оказался в том положении, в котором обнаружили себя наиболее развитые азиатские общества к XII в. или феодализм и Европейская цивилизация в XIV–XV вв. В мире больше нет америк, африк и австралий. Экспансия окончена. Для универсалистской компоненты Европейской цивилизации, капитализма нет больше адекватного пространства, а тенденция к макрорегионализации мира грозит сократить, демондиализировать имеющееся и уже освоенное пространство. Объективно это ослабляет универсалистскую компоненту, регионализирует ее, придает, ей цивилизационные черты. Ну что же, в этом нет ничего удивительного. Ослабление универсалистской компоненты христианства не означает конца европейского исторического субъекта, Европейской цивилизации. Когда-то с Античностью и Средневековьем окончились их локально-региональные фазы. Ныне подходит к концу — универсальная. Однако европейский субъект остается внелокальным. По-видимому, новой формой внелокальности и должен стать макрорегион «Единая Европа», хотя трудностей на том пути значительно больше, чем это можно себе представить ныне. Вообще, намного более трудным станет бытие универсалистского субъекта, который не может в прежней мере рассчитывать на такую опору, как универсалистская и универсальная система, каковой и была Капиталистическая Система в эпоху Современности (1789–1991), когда она выступала как «современная мир-система» в строгом смысле слова. Как знать, может быть, центральным противоречием Европейской цивилизации XXI в., мотором ее развития (но в перспективе — и иглой «Кощеевой смерти») станет противоречие между универсальным характером исторического субъекта и партикуляризмом самой системы, в которой ему суждено жить или даже которую ему суждено строить. Внешне, абстрактно-типологически это выглядит как историческая инверсия: не от Античности к христианству, как две тысячи лет назад, а наоборот, как бы от христианства к «Античности» с как бы превращением христианства в ядро последней. Сюрреализм. Но в истории может случиться если не всякое, то многое. Итак, социально-исторический финал (финиш) капитализма в то же время объективно оказывается, по-видимому, преддверием социально-исторического финиша и христианства, вновь низводит последнее до положения лишь одного из элементов Европейской цивилизации, сводит к личностному измерению с пессимистическим привкусом. Христианство с Маркаврелиевым или Экклезиастовым привкусом. Надо ли печалиться по этому поводу? Думаю — нет. Христианство как религия выполнило свою культурно-историческую миссию. Теперь, если говорить всерьез, оно может быть лишь внутренней позицией индивидуального субъекта, трезво, без иллюзий и надежд смотрящего в глаза реальности. Точнее, одна надежда есть — на то, что удастся достойно прожить в качестве индивидуального субъекта во все более коллективистском и все менее субъектном мире. Быть может, это и есть счастье — настолько, насколько оно возможно для конечного существа в бесконечном мире? В любом случае, индивидуальная субъектность, выкованная христианством, должна остаться главной ценностью посткапиталистичсской, создаваемой заново Европейской цивилизации. Этого отдавать нельзя. Аналогичный процесс оживления, а точнее, воссоздания и реконструкции цивилизации после господства Модерна происходит и в неевропейском мире. Но здесь, как ни парадоксально, поздний, энтээровский капитализм — это «путь вверх», а не «вниз», как в европейско-христианском случае. Здесь макрорегионализация имеет тенденцию совпадать с этноцивилизационными зонами, ареалами, которые эпоха НТР помогает структурировать как новые цивилизационные (и в то же время геоэкономические) блоки. Получается, капитализм) играет различные роли в разные исторические эпохи. В одном случае он способствует созданию мировой, планетарной системы, мир-экономики, в другом — действует в диаметрально противоположном направлении, оформляя несколько геоэкономик с цивилизационным «дном». Или иначе: логика развития капитализма (самовозрастания стоимости капитала) длительное время стремится к мировому уровню, преодолевая локальные и макрорегиональные различия, а затем с какого-то момента начинает двигаться в противоположном направлении. По-видимому, здесь возможны расстыковка, развод между логикой развития капитализма и современной мировой (мир-)системой. Да, у закатных эпох своя логика. Тем более необходима разработка такой сферы знания, как социальная эсхатология. LIVКонструирование социальной эсхатологии (историко-системной финалистики) ставит под сомнение, если не ломает, привычную структуру дисциплин наук об обществе. Она оформилась в XIX в. и является капиталоцентричной в том смысле, что сама сетка дисциплин, их терминология отражали и отражают структуру буржуазного общества. Аналогичным образом ставит под сомнение привычную структуру дисциплин еще одна сфера знания, которую необходимо создавать и которая должна быть тесно связана с социальной эсхатологией — наука (знание) о социальных революциях, об общественных разломах, не об эпохах стабильности, а о периодах резких качественных изменений. Нынешнее знание об обществе ориентировано на изучение устойчивых, равновесных состояний. Это естественно. Оно оформилось в ядре Капиталистической Системы в то время, когда основные социальные потрясения в нем (1789–1848) остались позади. Более того, сами социальные науки в соответствии с социальным заказом были (понятийно, методологически и содержательно) ориентированы на исследование устойчивых положений, стабильных ситуаций, эволюционного развития. То, что не помещалось в такой фокус, объявлялось отклонением, причем чаще всего не социальным, а психологическим, следовательно, подлежащим коррекции. Таким образом, из социальной науки выталкивалось все тревожное и опасное для Капиталистической Системы. Лишь в марксистской традиции социальным революциям уделялось особое внимание. Однако, во-первых, делалось это в заидеологизированной догматической манере; во-вторых, и в марксизме не были выработаны ни методология, ни особый понятийный аппарат для анализа неравновесных состояний, ситуаций общественного разлома, разрыва социального времени. Марксистская теория XX в. системоцентрична, тогда как революции суть взрыв субъектной энергии, они не сводятся целиком ни к логике предшествующей им эпохи, ни к логике последующей. Если бы дело обстояло иначе и революции складывались только по сумме неких «объективных факторов», то их легко было бы предсказывать на структуралистский манер в духе представителей так называемого «третьего поколения теорий революции» (Дж. Пэйдж, Т.Скочпол и др.): такая-то социальная структура, такая-то экономическая и внешнеполитическая конъюнктура — получите революцию такого-то типа, «исторический бифштекс с кровью». Но на самом деле революции приходят и происходят неожиданно, возникая и вырастая как бы из ничего, «когда б вы знали, из какого сора». Это общая черта всех революций. Поэтому их следует изучать в сравнении друг с другом в большей степени, чем в традиционной связке с развитием предшествующего им местного периода (хотя и это важно). У революционного времени различных эпох значительно больше сходства между собой, чем с эпохами, с которыми они связаны, и чем у этих эпох между собой. Адекватный такому материалу анализ требует особой «дисциплины» («революциологии») или как минимум новых подходов. Марксизм при всей своей практической и теоретической ориентации на революции таких подходов не дал. Впрочем, повторю, это неудивительно. Все революции XIX–XX вв. были внутрикапиталистическими, они не потрясали саму основу капитализма как системы. Фундаментальной социальной революцией был генезис капитализма, Великая капиталистическая революция 1517–1648 гг. Не случайно именно та эпоха дала ряд людей, заложивших (каждый по-своему) основы изучения революционных процессов самих по себе — Макиавелли, Шекспир, Гоббс. Все они обращались к человеку как субъекту, действующему в условиях ослабленного поля социосистемной гравитации, в ситуации, когда «век вывихнут». В марксизме же с присущим ему теоретическим потенциалом для анализа социальных флуктуаций и бифуркаций, потенциалом, объективно усиливаемым определенным типом властной практики, проблема революций, по крайней мере в теории, была сведена к вопросу о перерастании производительными силами (предметно-вещественными) производственных отношений (социальных) и возникновении в результате острейшего социального противоречия, ведущего к революции. На самом деле ситуация значительно сложнее, хотя и «перерастание», и «революция» имеют место, но иначе. Что мы видим на поздних, финальных стадиях развития систем? Революции в производстве, которые ломают систему и обостряют ее внутренние противоречия, делая их неразрешимыми? Нет. Мы видим такие сдвиги, которые решают (снимают, а не обостряют) основное противоречие системы, оно затухает, притупляется. Оно — снято. Вот после этого-то и возникают самые серьезные для системы трудности. А для историков — самые серьезные проблемы в понимании (или непонимании) эпох социальных революций. Есть несколько стандартных ходов в описании и объяснении революций, которые позволяют подойти к революционной проблематике «от противного» и таким образом лучше понять ее специфику. Я не стану делать экскурс в сферу теорий социальных революций в целом, приведу лишь несколько типичных примеров. Часто историки объясняют само возникновение революции (т. е. «материализацию» неких противоречий в революцию), причины перерастания кризиса в революцию внешними факторами: война (мировая), военная авантюра. Если говорить о нашей истории, то это мировая война 1914–1918 гг. и две локальные — русско-японская начала века и советско-афганская его конца. Еще один подход — это «теория заговоров», суть которой объяснять не надо. Наконец, нередко акцентируется значение мелочей, случая, которые выступают либо в виде какого-то незначительного на первый взгляд события: «Ленину удалось добраться до Смольного». Либо в виде какой-то личности: «Если бы не Распутин, империю удалось бы спасти»; «если бы Николай II не дрогнул и не подписал отречение, революции не произошло бы»; «если бы не Хомейни, не его личность, то иранская революция никогда бы не произошла». Подобные объяснения не удовлетворяют меня не своим сослагательным наклонением. История — не закрытая система и не фатально-мистический процесс. Всегда существует несколько более или менее вероятных вариантов, реализация одного из которых ведет к свертыванию других. Поэтому частица «бы» меня не пугает. Не сомневаюсь я и в значении того, что обычно именуют «субъективным фактором». Мои претензии иного рода — методологические. Уязвимое место объяснений с позиций «заговоров», «случайностей» и действий отдельных лиц заключается не столько в подчеркивании значимости этих факторов, сколько в их концептуализации и терминологизации. С точки зрения конвенциональной социальной науки, ни случай (единичное явление), ни отдельное лицо, ни «субъективный» или «внешний» фактор не могут играть решающую роль. И это правильно с точки зрения конвенциональной науки и тех явлений, которые она изучает в качестве базовых — массовые, объективные процессы, устойчивые стабильные структуры, государство (отсюда — акцент на внутренние факторы). В такой реальности и в картине мира, которая ее отражает, ни случай, ни внешние факторы не могут играть решающую роль, в лучшем случае — дополнительную. Однако в эпохи кризисов и революций ситуация меняется. И дело не в том, что резко вырастает роль «субъективных» и «внешних» факторов, случайностей и отдельных лиц по отношению к факторам объективным и внутренним. Суть — в ином. Привычная реальность, в которой сосуществуют все названные выше факторы, в эпохи резких изменений исчезает, а потому грань между «закономерным» и «случайным», «объективным» и «субъективным», «личностью» и «массой», «внешним» и «внутренним» стирается. Это — ситуация, когда случай перестает быть случаем, а личность (или несколько личностей, вступивших в сговор и организацию) приобретает вес, равный или почти равный массе системы. Такие ситуации невозможны и необъяснимы с точки зрения конвенциональной социальной науки. И с этой точки зрения неправы представители последней, отбрасывающие в качестве «случая» или «заговора» то, что «случаем» или «заговором» по своему содержанию и последствиям применительно к неконвенциональной ситуации не является. Когда снято, выработано главное противоречие системы, когда устраняется ее системообразующая ось, более нет системных средств и возможностей решать даже небольшие проблемы, возникающие в процессе функционирования общества. А потому даже небольшие проблемы, с которыми нельзя управиться системными средствами, заставляют систему напрягаться, прибегать к внесистемным средствам, к непропорциональной затрате усилий, что еще более подрывает ее, помимо прочего усиливая эти внесистемные средства и факторы. Сняв главное противоречие, система уже не может решать «имманентными» средствами никакие другие противоречия и связанные с ними проблемы. Она вообще покидает то поле, где решаются, оказываются разрешимыми противоречия и вступает в «зону неразрешимости», в зону, где любая малость оказывается миной, где система превращается в сапера-смертника. Малые проблемы ведут к большим и разрушительным последствиям? Нет, в эпохи системных кризисов и упадков меняется прежний масштаб и ломается привычная масштабная линейка. Самая серьезная проблема здесь даже не в том, что ранее бывшее малым стало великим и наоборот, а в том, что становится трудно, часто невозможно, определить масштаб и значение события: ломается прежняя системная связь причин и следствий, и за мелкой (ранее) причиной вдруг возникает не привычное или ожидаемое следствие, а кошмарная конфигурация. Как в игре в сквош — не знаешь куда отскочит мяч. Вступление в системный кризис — это переход от «социального тенниса» к «социальному сквошу». Тогда-то и возникает соблазн заключить: если бы не то или иное событие, то история пошла бы иначе, могла бы пойти. Не могла. В том-то и дело, что катастрофические последствия «мелочей» и есть нормальный способ функционирования механизма системного кризиса, нормальная жизнь революционных эпох, в которые уценяется и уравнивается то, что раньше было разноценным и разновесным. Мелочи остаются мелочами на ранней и особенно зрелой стадиях. На социальном финише различие масштаба событий и явлений исчезает, любая мелочь может стать фактором огромного значения — ей ничто не противостоит, не способно противостоять. Отсюда — последствия. Внешне получается, что ошибка Керенского оказывается погибелью России. Конечно же, дело не в ошибке Керенского и не в Распутине. Системный кризис — это кризис социального иммунитета, это возможность летального исхода от легкой «социальной простуды», это невозможность и неспособность выхода из сложившейся ситуации путем структурного изменения, социосистемная импотенция, устранить которую можно только созданием новой системы. А для этого нужны энергия, субъектный взрыв, социальная революция; в ходе последней «субъективный фактор» превращается в субъектный. Субъект, даже отдельная личность в момент кризиса начинает «весить» столько же, сколько исчезающая структура. Или порой даже перевешивать ее, вступая в союз с Историей. LVЕсть еще одна причина, почему под звон Колоколов Истории кардинально меняется соотношение социальных весов и масс. Это — резкое ускорение в периоды системных кризисов социального времени, его сжатие, концентрация — в такой степени, что адекватным ему персонификатором становятся не столько система или подсистема, сколько отдельный человек с сильным субъектным потенциалом. В этом смысле борьба лиц и групп в кризисные эпохи — это борьба различных концентраций (и концентратов) времени. Причем борьба эта происходит в иной, чем в восходящие и зрелые («нормальные») периоды развития, сетке причинно-следственных связей, в рамках иного типа этих связей. Тривиальная констатация, но тем не менее: причинно-следственные связи в общественных процессах — вещь непростая. Даже если свести общество, как в ортодоксальном марксизме, к трем измерениям и сферам — экономической, социально-политической и духовной, к базису и надстройке, то и в такой схеме есть нюансы, которые вносят существенные изменения в жесткий детерминизм и определяемое им поле возможностей. Размышлявший над этим вопросом В.В.Крылов рисовал такую схему: 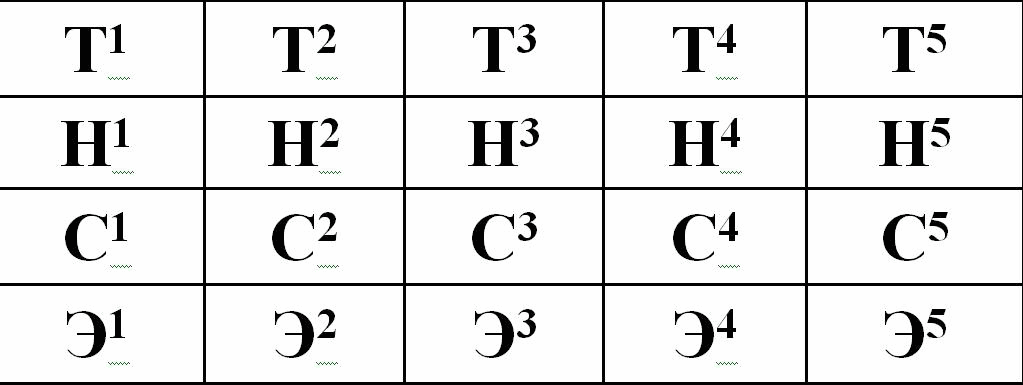
«Поскольку причина действует раньше, чем проявляется следствие, при прочих равных условиях состояние Э1 есть причина не С1, а С2, а это состояние, в свою очередь, — причина Н3, так как на реализацию процесса нужно время (Т1, Т2, Т3). В свою очередь обратное воздействие надстройки на социально-политическую сферу и экономику предполагает состояние С4 и С5. Таким образом, даже в марксистской схеме, будь то классическая или ортодоксальная, определяющая роль одного элемента системы (экономика) по отношению к другим элементам системы (социальному строю и надстройке) проявляется не в КАЖДЫЙ ДАННЫЙ МОМЕНТ, НО В ПРОЦЕССЕ СМЕНЫ ОДНОГО МОМЕНТА ДРУГИМ, Т.Е. НА ПРОТЯЖЕНИИ ВРЕМЕНИ».[26] Кто-то скажет: опять «базис», «надстройка» и прочая марксистская муть. Не надо торопиться, господа. Во-первых, муть бывает и немарксистской — последние десять лет можно наблюдать этот поток с близкого расстояния. Удивительно, но факт: поток этот тем мутнее, чем громче кричат о прощании с Марксом и марксизмом. Может быть, потому, что активнее всех прощаются бывшие неистовые ревнители марксизма? Во-вторых, разделение общества на «экономику», «политику» и «культуру» характерно для всей социальной науки, а не только марксистской. Будучи в какой-то степени условным, такое членение в целом верно отражает реальность зрелого капиталистического общества в его ядре, реальность субстанционального капитализма. Другое дело, что в ортодоксальных марксистских интерпретациях экономика определяет все остальное. И опять же это в значительной степени так для ядра Капиталистической Системы в его зрелом состоянии. Однако помимо капитализма есть и иные типы общества. Да и в самом капитализме, в различных его «зональных вариантах» и, самое главное, в различные периоды его истории степень обособленности друг от друга и соотношения друг с другом различных сфер была разной. Следовательно, не только возможны, но и должны существовать иные типы причинно-следственных связей, даже если исходить из марксистской или либеральной схем; только при этом нужно брать их на излом, на «болевой прием». Об этих нелинейных вариантах и написал В.Крылов, противопоставив их им же зафиксированному линейному порядку. Из приведенной схемы В.В.Крылова вытекает возможность двух различных типов причинно-следственной связи: «протяженного» (линейного) и «моментального» (нелинейного). В нормальном эволюционном течении общества, на который ориентирована нынешняя социальная наука и которому она понятийно-методологически соответствует, доминирует «протяженный», линейный тип, при котором все происходит чинно: у Э1, С2, Н3 — свои времена Т1, Т2, Т3, и они чинно следуют друг за другом. В такой ситуации ясно — чтo есть причина, чтo есть следствие, что после чего. Но это все так, если мы берем диахронный срез (Т1, Т2…). Взятые синхронно, одновременно, т. е. либо в Т1, либо в Т2 и т. д. экономика, социальный строй и надстройка (духовная сфера) не могут быть причиной развития друг друга (для этого необходимо Т1 + Т2 + Т3 и т. д.). Поэтому при синхронном срезе детерминирующим факторов является совокупный общественный процесс, иными словам» общество в целом, господствующее как система над каждым своим элементом. Короче говоря, по В.В.Крылову, в каждый отдельный (отдельно взятый) момент господствует целостный, моментальный тип причинно-следственных связей. При нормальном, без серьезных потрясений эволюционном течении такая синхронизация может носить главным образом абстрактно-теоретический характер, рассматриваться в качестве теоретически возможного варианта. Ситуация резко меняется в периоды упадка, когда общество стремительно — все быстрее — катится под гору, в эпохи социальных революций, когда синхрон, краткосрочная перспектива становятся доминирующими. Если взглянуть с точки зрения различных типов причинно-следственной связи на социальную борьбу в разные периоды, то вырисовывается такая картина. Доминируют и побеждают обычно те силы, которые в наибольшей степени воплощают целостные аспекты развития общества. В «диахронии» это чаще всего блоки, союзы различных групп, контролирующие свои сферы и свои «отрезки» времени. Они адекватны совокупности, цепи событий. В «протяженной» временной ситуации едва ли можно найти одну силу, которая контролирует все. Подобное возможно лишь в «моментальных» ситуациях, когда время сжато — несется, но одновременно как бы застыло в «синхроне», когда краткосрочная перспектива вместила в себя все остальные и какое-то время удерживает их в себе. В такой ситуации целостный аспект общественного развития может быть выражен, с одной стороны, и небольшой группой людей или даже одним лицом, окрашивающим развитие в свои личностные тона, а с другой — не цепью событий, а одним-единственным событием, которое оказывается бифуркацией. То, что в кризисно-революционные времена законы развития целостности или даже совокупности всех сфер общества, сжатых в Т1, подавляют воздействие векторов отдельных сфер или оказывают параллельное влияние, резко усиливает значение и роль «случайных», точнее — событийных факторов. В таких социальных ситуациях случай превращается в Событие. Точнее, событие обретает такое качество и такой масштаб, в котором снимается противоречие между случайностью и закономерностью; и то и другое растворяется в событийности. В контексте революционных эпох мысль Ф.Броделя «событие — это пыль» ошибочна, и мы в таком контексте вправе сказать: «Фернан, ты неправ». Иными словами, в эпохи великих социальных революций — и чем более великих, тем в большей степени, — событийность, словно вдруг взбесившись, делает прыжок и выскакивает по ту сторону закона и случая, в такую социальную вселенную, где различие между ними практически иррелевантно. Событие, таким образом, превращается в бытие. Событие — бытие революционных эпох. По крайней мере, единственно значимое бытие. Событие и человек, отдельный человек с его поступками — вот что значимо в революциях. Революции сингулярны, они суть социальные сингулярные точки, все в них сведено в одну точку: общество, пространство, время. Когда у всех сфер — одно время Т, одно на всех, уплотненное, сжатое и ускоренное, тогда решение политического лидера или один законодательный акт или одно лицо и его «ндрав» может перевесить значение «объективных» экономических факторов, которые на самом деле утрачивают объективность — в кризисные эпохи все субъективно и объективно одновременно; упадки и особенно революции находятся по ту сторону объективного и субъективного. Раздерганная, ослабленная, распадающаяся система — не более, а скорее менее объективна, чем индивидуальный субъект или малая группа, вокруг которых как центра притяжения возникает новый социум. Внешне кажется, что свобода воли ломает необходимость, а исторический субъект торжествует над социальной системой Короче — праздник Истории. Или наоборот: тризна, поминки. В любом случае в ситуациях системного кризиса, в состоянии «социосистемной невесомости» уравниваются веса «властных» личностей и «властных» подсистем. Непонимание этого ведет к тому, что даже очень умные люди начинают наивно рассуждать, например, о падении коммунизма и распаде СССР в терминах «предательства Горбачева», «заговора трех обкомовцев». По-видимому, действительно бывают ситуации, когда можно «предать» систему. Они возникают тогда, когда на самом деле предавать уже нечего. А следовательно, термин этот не годится, и вопрос должен ставиться иначе. Еще один немаловажный вариант причинно-следственных связей в обществе — горизонтальное воздействие одних подсистем друг на друга в различные отрезки времени, не Э1 С2 Н3, а Э1 Э2 и т. д.; С1 С2 и т. д.; Н1 Н2 и т. д..[27] Ясно, что каждая отдельная подсистема внутри данного общества будет выступать как автономная и саморазвивающаяся тем более, чем менее интегрированный характер имеет система. Последнее особенно типично именно для периодов системных кризисов, так называемых «переходных» эпох. Они характеризуются не только тем, что повышается роль нелинейных форм причинно-следственных связей, но и тем, что возникает система «многоукладности», сосуществования всех этих типов, сочетания причины и следствия: вертикальных и горизонтальных, одновременных и разновременных, целостных и частных, моментальных и протяженных. Все это запутывает социальный процесс, повышает роль событийности, делает развитие малопредсказуемым. Время как бы сжимается в сингулярную точку момент-эпохи, и это сжатие ломает и крушит хребет нормальных, диахронных причинно-следственных связей, плодя на свет иные — необычные и даже уродливые формы этих связей. Формы-уродцы словно мстят человеку и истории за свое уродство, создавая безумный мир революционной эпохи, в котором почти невозможно ориентироваться. Мир, в котором побеждают рациональные безумцы с железной волей. Быстрый темп изменений в период системного кризиса, общественных трансформаций диктует, казалось бы, быструю реализацию в социальной сфере тех сдвигов, которые произошли в экономике (Э1 — С2). Однако период, о котором идет речь, характеризуется расстыковкой различных сфер, усилением их автономии, поэтому результат может проявиться не в социальной сфере, а сразу — в политико-идеологической и уже «оттуда» оказать влияние на социальную (инверсия сфер и типов воздействия). Горизонтальный тип причинно-следственных связей ломает обычный, вертикальный. Другой пример: воздействие целостных факторов на социальную сферу и от нее — на экономику (инверсия вертикальных связей). Привычные причины и следствия как бы меняются местами и следствие может оказаться причиной того, что само принято считать причиной! Наконец, дисфункция общественных подсистем в периоды упадка и кризиса может вести и к тому, что воздействие не выходит за рамки отдельной сферы, и причина становится собственным саморазрушительным следствием. Тогда в силу вступают уже законы социального регресса, распада, деградации, инволюции. Становится трудно разобраться: прогресс ли выступает форме реакции или реакция в форме прогресса. В подобной ситуации то, что для одного общества в один период его развития (например, в его нормальном функционировании) принято считать «путем вверх», конструктивной формой, в другом обществе и в период упадка может стать формой распада, «путем вниз». Или в лучшем случае — средством камуфляжа для приходящих в состояние распада, упадка и гибели социальных групп, стремящихся подать себя в нетрадиционном, непривычном, а потому — обманчивом и обманывающем виде: «рынок», «капитал», «правовое государство». Как там у Чехова? «А заглянешь в душу — крокодил». «…Раздавить гадину тоталитаризма» во имя правового государства, рынка (капитала) и демократии — трех источников, трех составных частей посткоммунизма — вот лозунги почти недавнего прошлого. Десять лет прошло, и не осталось ничего от лозунгов, не говоря уже о том, что не построено правовое государство, что не создан рынок, что демократия стала бранным словом. Осталась дырка от бублика, почти в буквальном смысле — в том смысле, что значительная часть общества лишилась вещественной субстанции, того, без чего невозможно существование частной собственности, правового государства, демократии, того, что ныне разрушено. Как заметил в своем дневнике И.Дедков, это «разрушение вломилось в каждый по сути дом. Эти дома только-только — усилиями нескольких поколений — стали походить на человеческие жилища. Только-только в этих домах стали возрождаться или складываться свои традиции, преемственность поколений. И хотя эта медленная жизнь, медленно строящиеся дома еще не вобрали в себя многих полубездомных, но она все-таки их вбирала и расширялась».[28] Здесь необходимо сделать два замечания, которые корректируют мысль И.Дедкова, но от которых тем не менее не легче. Во-первых, «вбирать и расширяться» медленная жизнь перестала на рубеже 70–80-х годов, когда для огромной массы населения она замедлилась совсем. Во-вторых (правда, от этого не легче), все это уже было в Русской Истории — не в первой: много вещественной субстанции было унесено Ветром Русской Истории, Ветром «Северовостока» (М.Волошин). В этом ветре вся судьба России — Опричники, гвардейцы Петра, большевики — все эти хирурги и мастера Чрезвычайки не только давили человеческий фактор, но и сметали, разрушали (перераспределяя остатки) вещественную субстанцию, накопленную «медленной жизнью». Вместе с самой жизнью разрушали то, что было сделано несколькими поколениями до них: четырьмя — до опричников, тремя-четырьмя — до Петра и его команды, семью-восемью — до большевиков. Нынешнее разрушение (слава Богу — без централизованного террора, а, так сказать, экономическими методами, по крайней мере до сих пор, до начала 1996 г., когда пишутся эти строки) пришло через два-три (три — если считать с 1917 г., два — если с 1945 г.) поколения, самый короткий промежуток между вещественной десубстанциализацией. Так ведь было же нам сказано: ускорение — «грядут перемены, и они коснутся каждого» (М.Горбачев). Коснулись и ускорились с очередным северовосточным «ветром перемен» (Т.Кибиров): Ускорение, брат, ускоренье… Так что менялось? Собачья голова и метла — на щит и меч? Тройка — на трактор? Но этот птица-трактор, как и гоголевская (метафизическая) птица-тройка, — пуст. «Куда подевалась материя, вещественная субстанция?» — вот третий (после «Кто виноват?» и «Что делать?») великий русский вопрос (без ответа; впрочем — вру, Карамзин ответил). Однако это лирико-метафизическое отступление — к слову. Вернемся к системным кризисам. LVIСистемный кризис, эпоха упадка и социальной революции, разрыва времен (хроноклазма) оказывается ситуацией многочисленных возможностей, котлом возможностей, когда связи между причинами и следствиями носят нелинейный, «искривленный» или пунктирный характер. И когда субъектное действие или просто событие может по сути изменить или деформировать историю. В таких условиях, когда необходимость как бы дает свободе воли передышку и время порезвиться (что не отменяет ни социальных циклов, ни логики социального развития), когда быстро меняются ориентации личностей и фракций, быстро возникают и столь быстро распадаются политические группы, оппоненты быстро перехватывают друг у друга аргументацию и программы (как говаривал Ленин, надо уметь и украсть, когда нужно), надевают несвойственные себе идейные наряды. Вот в такой-то кутерьме рождаются новые эпохи, которые приходят (сначала) в виде Истины Слова, открываясь не многим и не сразу и отсекая, подобно социальной бритве Оккама, все исторически лишнее, а затем опять вводят человека в мир более жестких, социально-аскетических причинно-следственных связей. Нынешнее социальное знание оперирует одним временем и отражает только его. На самом деле времен и соответствующих ему реальностей несколько: линейное эволюционное, линейное революционное, линейное регрессивное, циклическое. Каждому из них должен соответствовать свой тип знания. Можно ли будет создать из нескольких типов один, найти общий знаменатель в каком-то одном времени и в какой-то одной реальности — на вопрос у меня пока нет ответа, его даст только практика конструирования новых типов знания: чтобы понять вещь, нужно ее сделать. В любом случае межсистемность, социальная революция — это нечто особое, не укладывающееся полностью ни в логику предшествующей системы, ни в логику будущей. «Переходные», а точнее — промежуточные периоды можно сравнивать только друг с другом, а потому рядом с социальной эсхатологией необходима сфера знания, изучающая революции, социальные разрывы, — революциология, клазмология (от греч. «клазмос» — разрыв). Возникает, правда, вопрос, в какой степени это науки, а в какой — описание, точнее: в какой степени описательная сторона может быть в данном случае концептуализована? Ведь социальная наука системоцентрична, а мы попадаем в субъектоцентричную ситуацию, которая, как правило, возникает на грани эпох и систем. Системы не рождаются путем превращения одной в другую, путем филиации одной из другой. Их разъединяет и соединяет исторический субъект, точнее — периоды, эпохи взрывов субъектной активности, сметающей остатки одной системы и закладывающей фундамент другой. Это эпохи социальных революций. Великие социальные революции, будь то антично-полисная, христианская или великая капиталистическая 1517–1648 гг., всегда суть хроноклазмы, взрывы времен, «вывихи века». Шекспир устами Гамлета впервые сформулировал: «The time is out of joint». Этот-то вывих и есть историческое поле деятельности субъекта, творящего новую систему. Результат великих социальных революций — не обязательно приход к власти неких новых социальных сил. И не становление (т. е. ранняя стадия) новой системы. Это — генезис новой системы. И, самое главное, в ходе великой социальной революции выковывается тот новый исторический субъект, который способен создать, установить и упрочить новую социальную систему. Потому революции всегда и начинаются в мозгу — то монаха, то философа, то сквайра, то помощника присяжного поверенного. Новые системы как бы наращиваются на нового субъекта, он разрастается ими. Новый субъект Русской Истории В.И.Ленин был Властью и Системой в одном лице. Вокруг него сложилась новая система — «партия нового типа», из мутаций и трансформаций которой впоследствии вырос коммунистический порядок. До Сталина Ленин и Партия были равновесны — и почти тождественны. Партия и Ленин — В этих строках четко зафиксировано не просто и не только тождество, но и относительное равновесие «исторических гирек» под названием «Ленин» и «Партия», То же можно сказать о Петре I (с его гвардией) и «остальной России». Ситуация субъектно-системного равновесия вообще характерна для эпох революций и смут. Если говорить о нашей истории в XX в., то Сталин, движимый логикой Русской Системы и Русской Власти, помимо прочего, должен был покончить с фазой субъектного взрыва Русской Истории. Парадоксальность ситуации заключалась в том, что он был последним субъектом этой фазы, уничтожавшим, отменявшим ее и тем самым упрочивавшим новую систему. Сталин закрыл Крышкой Истории котел исторических возможностей, и персонификатору этого котла — ленинской партии пришла «крышка». Но последним, по иронии истории, под крышку угодил сам Coco Первый (и последний). Устранение его «хрущёвцами» (название условно) означало окончательный финал субъектной фазы. Теперь были возможны лишь отголоски субъектности в виде «волюнтаризма», впрочем, тоже вскоре заглушенные в эпоху (и эпохой) безбрежного реализма брежневского «реального социализма», в позднезрелой и поздней стадиях коммунистического порядка. Вот что интересно. Подавление в системе (и системой) «волюнтаризма», субъектного начала свидетельствует о ее зрелости, точнее, о расцвете-конце зрелости. Но в то же время это и начало конца, наступление поздней фазы, когда с «волюнтаризмом» система теряет жизненные силы, витальность. Подавление субъектности означает устранение важнейшего для любого социума, пребывающего в субъектном потоке исторического развития, противоречия между субъектом и системой. Как только это противоречие устранено, возникает потребность в новом субъекте (который может быть только антисистемным; просистемные же субъекты закатных эпох — фигуры трагические, обреченные, будь то Дмитрий Шемяка, Александр II, Столыпин или Горбачёв, терпящие поражение вместе с системой) и в новой системе, которую этот субъект будет создавать. Поздние фазы, точнее их начало — самые тихие и спокойные. Их любят вдвойне — и сами по себе, и по контрасту с тем, что за ними следует. Так, и пореформенная Россия конца XIX в., несмотря на постепенно усиливающееся общественное гниение и упадок и социальную болезнь, и брежневская эпоха, по крайней мере до ввода войск в Афганистан и Олимпийских игр 1980 г., останутся в памяти как два «бабьих лета» — самодержавия и коммунизма. Но при этом необходима и другая память: под покровом желтых опавших листьев в обоих названных случаях совершалась более или менее тихая социальная революция. В тихом омуте черти водятся. Из обеих «тихих» (но не бархатных, ой, не бархатных) революций вылезли черти, бесы: Расплясались, разгулялись бесы (М.Волошин) «Явление бесов народу» — такая картина еще не написана русскими живописцами, а ведь исторически она для нас актуальна, архиважна, как любил говорить один великий деятель выстуженного (им же в том числе) северо-востока. Кому Христос является, кому — бесы: по трудам их. И ведь не только являются, но и становятся вожатыми в буране, средь неведомых равнин, сбивая в пути: В поле бес нас водит, видно, В поле Русской Истории бесы, похоже, покружили много и зло. Но, как известно, в русской традиции — зло не абсолютно, с ним можно договариваться, между ним и добром нет четкой жирной черты. И соблазн договора с бесами особенно силен в эпохи упадка и революций, когда новые системы как бы конденсируются вокруг людей с мощным субъектным потенциалом, зарядом. Конденсация новых систем вокруг отдельных людей огромным субъектным потенциалом, вокруг индивидуальных субъектов — черта не только Русской Истории или Нового времени. Так было и в эпоху упадка Античности. «В период между 200 и 400 гг. н. э., — пишет Р.Браун, автор одной из интереснейших книг о конце Античности, — люди Средиземноморья пришли к принятию (с энтузиазмом) того, что божественная сила не столько является простым смертным прямо или посредством давно установленных институтов, сколько представлена на земле ограниченным числом исключительных человеческих существ (human agents). Эти существа уполномочены нести ее (божественную силу. — А.Ф.), распространяя среди последователей с помощью разума или того сверхъестественного, которое было их личным качеством… Отсюда важность этого периода, подъема христианской церкви. Христианская церковь выступала как импрессарио более крупных изменений… Радикально новые и устойчивые институты вырастали вокруг людей, в которых, считалось, божественное величие существовало как необратимое[30] (подч. мной. — А.Ф.). Таким образом, центральная роль в качественном социальном изменении принадлежит субъекту, но он-то, как правило, в отличие от системы и ее элементов, трудно уловим и вообще, и методами и понятиями конвенциональной социальной науки в частности. С социосистемной точки зрения качественный сдвиг практически неуловим, не дает себя прочитать. И возникает соблазн, в том числе у Брауна, свести все к постепенным количественным изменениям: «…на изменения, которые происходят в Поздней Античности, лучше всего смотреть как на перераспределение и переоркестрацию компонентов, которые существовали в течение многих столетий в средиземноморском мире… Позднеантичный мир — это очень старый мир. Изменения в нем происходили не как тревожные неожиданности извне; в основном они случались — все более насильственно — путем сложения из кусочков старого и знакомого материала».[31] С системной точки зрения Браун прав: новое возникает постепенно, как рекомбинация кусочков старого. Но новое — это не столько старое вещество или его «кусочки», сколько новые связи, новые функции, новая энергия и информация, меняющие социальное вещество и структуру. Причем носителями новой социальной энергии и информации первоначально становятся не структуры и институты, а индивиды, в лучшем случае — группы, к которым постепенно притягиваются, переоркестрируясь, «кусочки старого». В этом смысле — субъектном — Браун неточен; более того, отчасти нарушает собственную же логику акцентирования индивидуальнo-субъектного начала. Разумеется, ни мелодраматизировать, ни демонизировать эпохи упадка (и социальных резолюций) не надо, но качественные изменения общества, которые прежде всего выражаются в появлении нового исторического субъекта, не сводятся только к рекомбинации элементов старого. Для этого процесса необходим субъект; «кусочки» могут быть старыми, субъект — только новым, будь то христианский проповедник, сеньор, капиталист или чекист в кожаной куртке со «спешащим ему на смену молодым человеком». Изменения в системе накапливаются постепенно, и нередко по своему содержанию элементы двух состояний общества, разделенных эпохой революции или так называемым «переходным периодом», мало отличаются друг от друга. Так, А. де Токвиль верно заметил сходство между многими чертами предреволюционного Старого Порядка и режима 1820–1830 годов во Франции. Внешне изменилось не так много. Только люди другие — и то не все, не всегда и не сразу. В этом смысле о Франции 1788 г., о России 1916 и 1986 гг., с одной стороны, и о Франции 1808 г., о России 1926 и 1996 гг. — с другой, можно, сталкивая Парменида с Гераклитом, сказать одновременно: «Ничего не изменилось» и «Все изменилось». Оценка зависит от того, под каким углом зрения смотреть, на что смотреть (каков объект) и каким угломером пользоваться. Действительно, изменения в системе количественно накапливаются, но для системного изменения необходимы разрыв старых связей и установление новых — функция определяет элемент. Выполнить задачу «разрыв — установление» может только новый исторический субъект, который и возникает, выковывается в ходе великих социальных революций. С этой точки зрения, эпохи упадка, переходящие в революции, — это не мелодрама, а трагедия. Под углом зрения нарастания количественных изменений трагедия может быть малозаметной и даже непонятной, как и само возникновение нового. А.Фейерверкер заметил, что специалисты изучили экономическую историю Западной Европы буквально по минутам, но до сих пор не ясно, как возник капитализм. Из тысяч количественных изменений и фиксаций их историками не складывается одно качественное изменение — из тысячи джонок нельзя сделать один броненосец, как любил говорить некий «любимец партии». И когда броненосец все же появляется на горизонте, наблюдателям остается только удивляться. Однако под субъектным углом зрения ситуация проясняется. Исторический субъект, соединяющий и разъединяющий системы посредством революции, — вот ключ к загадкам качественных изменений в Истории. В субъекте в момент-эпоху его социального взрыва, т. е. революции, снимается противоречие между «объективным» и «субъективным», между «структурой» и «волевым усилением». Отсюда ясно, что (и почему) ни «структуралистские», ни «волюнтаристские» концепции революции не объясняют свой объект исследования. Здесь уместна аналогия с мыслью одного античного философа о смерти: «Когда мы есть, смерти нет. Когда смерть есть, нас нет». То же самое, по крайней мере внешне, со структурализмом и волюнтаризмом в объяснении революции: когда структуры есть, «волюнтаризма» как социально значимого практически нет; когда торжествует «волюнтаризм», структур практически нет. Я не случайно сделал оговорку, внешне, ибо дело не обстоит так, что «структура» и «воля» поочередно господствуют друг с другом: То одна сверху, то другая. В социальной революции, как в субъектном взрыве, вообще устраняется противоречие между «необходимостью» и «волей», структурой (системой) и субъектом. Революция — это момент относительного единства и (или) тождества субъекта и системы; она — по ту сторону «структурализма» и «волюнтаризма». Даже если принять «структуралистские» и «волюнтаристские» теории революции, модифицировав их, — представив первые как теории вызревания предпосылок, а вторые как теории самого взрыва, — остается необъяснимым и даже невидимым переход от предпосылок к их реализации. Точка (миг-эпоха) перехода оказывается невидимкой, и только когда революция в своих процессах и героях умирает, когда стекленеет ее кровь, то становятся видны очертания, но уже не революции, а ее трупа и новой структуры господства, кристаллизующейся на основе затухающей, овеществляющейся энергии. В целом революция как процесс перехода от одного системного состояния к другому может быть неплохо описана в терминологии теории И.Пригожина. Кстати, теория диссипативных структур И.Пригожина — первая, сместившая фокус с равновесия на флуктуацию. В ней, упрощенно говоря, не изменение — промежуток между двумя стабильными, равновесными состояниями, а равновесие — промежуток между двумя флуктуациями. Несмотря на то что И.Пригожин — биохимик, методологически его теория важна тем, что создает новую картину мира, как в свое время это сделали теория относительности и квантовая механика. И хотя наше время — в значительно большей степени ключ к теории И.Пригожина, чем последняя — к нашему времени, она, тем не менее, имеет важное методологическое значение. Если пользоваться терминами И.Пригожина, то революция как кризис системы означает, что она достигла точки бифуркации, т. е. того пункта, за которым кончается порог устойчивости системы. За этим порогом она уже не может отделаться от Истории созданием новой структуры, за ним наступают неустойчивость, неравновесие, неопределенность. Короче, возникает ситуация, когда система получает свободу выбора. Но реализовать эту свободу может только новый субъект в острой борьбе с другими субъектами. Эта борьба — «отец всего» в европейском потоке развития — и есть социальная революция, знаменующая одновременно конец и начало, сводящая вместе концы и начала, закат и рассвет, иначе говоря, искривляющая время. Субъект, помимо прочего, и есть Великий Деформатор Времени. И одновременно его дефлоратор. LVIIЧто еще происходит в финале развития различных социальных систем? Помимо прочего — резкое уменьшение «общественного пирога». Обычно господствующие группы стремятся компенсировать нехватку «субстанции» внутри общества и таким образом избежать взрыва действиями вовне, за счет внешних акций. Но поскольку общество уже ослаблено, попытки подобного рода, как правило, терпят крах — система перенапрягается, перегревается, за чем нередко следует революция. Это-то и вводит в соблазн объяснять революции поражением или просто военным либо внешнеполитическим перенапряжением. На самом деле налицо не просто комбинация внутренних и внешних факторов, а по сути исчезновение если не различия, то значимой границы между ними. Это — черта всех революционных эпох. Различием между внешними и внутренними факторами не исчерпывается список граней, исчезающих или становящихся почти неразличимо пунктирными линиями в эпохи системных трансформаций. Есть и другие, что тоже вытекает из логики и специфики развития фаз исторических систем. Если же говорить о Капиталистической Системе, то есть такое размывание, истончение граней, которое связано уже не просто с упадком этой системы, с кризисом капитализма, а с конкретной особенностью, которую нашей эпохе придают НТР и внедрение компьютеров. Речь идет об исчезновении грани между реальным и воображаемым миром. Известный французский социолог Э.Морэн однажды выразил несогласие с теми, кто упрекает Маркса в недооценке силы идей. Силу идей, считает Морэн, Маркс оценивал высоко; чтo он недооценивал, так это силу воображаемой реальности, воображаемых миров. Думаю, в целом Э.Морэн прав. Например, коммунизм как идея — это одно, как воображаемая реальность — это другое. Ныне воображаемая реальность становится практически — виртуально, virtually — чем-то настоящим, подлинным. Виртуальной реальностью, киберпространством человека, подключенного к компьютеру. Виртуальная реальность киберпространства — не просто реальность, в известном смысле — сверхреальность, сюрреальный мир. В этом смысле компьютеры и видеошлемы завершают то, что начали, но о чем и помыслить не могли сюрреалисты в «длинные 20-е». Сюрреалисты — такая же предтеча НТР, как и большевики с их ВТР — властно-технической революцией. Кстати, большевики ведь тоже создали сюрреальный мир. Силу воображаемой реальности демонстрируют и литературные миры — Толкина и Джойса, «1001 ночи» и Бальзака, Дюма и Голсуорси, Жюля Верна и Кафки. Однако есть огромная разница между воображаемой реальностью и виртореальностью. Между воображаемой реальностью и реальностью физической есть грань, в наличии которой человек отдает себе отчет. «Находясь» в воображаемой реальности, человек пассивен, активны лишь его интеллект, воображение, но не тело. В случае с виртореальностью, в которой человек находится уже без кавычек, происходит инверсия: активно тело, тогда как интеллект в большей степени пассивен. Индивид растворяется в киберпространстве, оно — реальный субъект, а он, если и субъект, то в лучшем случае — виртуальный. Виртуальны интеллект, эмоции; реально тело. Киберпространство выступает средством (и одновременно социально-внесоциальным пространством) отчуждения человека — античное рабство наоборот, главное не тело, не вещественные факторы, а социальные и духовные, человек в целом. Может быть, в этом и заключен эксплуататорский смысл и потенциал НТР, создающий орудия некапиталистических (посткапиталистических) форм эксплуатации и угнетения и одновременно, что не менее, а быть может, и более важно, небывалые, невиданные до сих пор средства их социальной культурной маскировки? Подобные средства в принципе могут создать невидимую, анонимную власть, за одно упоминание существовании которой грозит смертная казнь — ситуация, описания С.Лемом в «Эдеме».. А что нам «Эдем»? С 1572 г. на Руси употребление слова «опричнина» велено было бить кнутом. Не было никакой опричнины. Забудьте. Короче, слово и дело. Слово скрывает дело. В случае с виртореальностью — не слово даже, а образ. И не с помощью кнута, а эффективнее — посредством киберпространства. Киберпространство, виртореальность выполняют в совокупности, в их неразрывности целый комплекс функций. Это развлечение, с ним не нужны никакие гладиаторские бои — можешь стать гладиатором, а то и просто убийцей, а также чемпионом мира по шахматам, динозавром, бедуином — кем угодно; на то и виртореальность! С ней не нужна пропаганда — все в одном: видеошлем, подключенный к компьютеру. И реклама не требуется — киберпространство может представить ее в сгущенном, супердоходчивом виде. В этом смысле киберпространство — триумф техники и технологии потребления. Потребление и досуг сливаются, у человека отчуждается не рабочее время, а свободное, да и сама грань между ними стирается — как при коммунизме. Вот как сбываются мечты Маркса, на могиле которого следовало бы водрузить видеошлем. Виртореальность может стать самым любимым объектом потребления, любая свобода выбора которого (и в котором) оборачивается зависимостью, причем внутренней. Когда-то Маркс писал, что единственное пространство человека — время, а единственное настоящее богатство человека — свободное время, досуг, в котором он и реализует себя в качестве человека. Отчуждение свободного времени, таким образом, похищает у человека самого человека, его главное богатство, его время и пространство одновременно. И в то же время резко усиливает социальный контроль: объект социального контроля превращается в точку потребления — специфического, к которому потребитель привязан тонко, но прочно, как «Раб» Микеланджело. У последнего руки связаны тонкой веревкой, почти ниткой. Но она — сверхпрочна, это обеспечивается внутренними рабством и обезволенностью. В такой ситуации цепи не нужны. С виртореальностью происходит пуантилизация социального контроля: каждому — по персональному «колпаку». Виртореальность — это единство социального контроля и социальной терапии. Она. может создать ощущение полного счастья (что, несомненно, породит киберкульт). Виртуализация реальности — это дереализация мира, т. е. тот же самый эффект, который обеспечивают наркотики. Не случайно П.Вирилио пишет об электронной наркомании и «наркокапитализме электроники». Становясь не только средством потребления, но и вожделенной целью, виртореальность объективно вытесняет другие цели и таким образом становится средством отчуждения у человека его фундаментальной функции — целеполагания. Уже коммунизм продемонстрировал систему отчуждения целеполагания, но на неадекватной выполнению этой задачи производственной основе. Виртореальность решает указанную задачу на производственной основе, апеллируя не к страху, а к удовольствию, не к светлому будущему, а к светлому настоящему. А потому она значительно более эффективна, чем, например, коммунизм (а может, даже и АСП) в отчуждении целеполагания. Остается надеяться лишь на силу сопротивления западного общества, на его полисубъектность, на традиции и ценности эпохи Великой капиталистической революции, Спедневековья и раннего христианства, способные противостоять посягательствам на человека. Хотя, разумеется, не следует ни преувеличивать чрезмерно силу этих традиций и ценностей, ни забывать о тех тенденциях развития самого буржуазного общества вообще и позднекапиталистического общества в частности, которые работают против этих традиций и против человека, будь то Homo sapiens или Homo sapiens occidentalis. Конечно, не надо сгущать краски. Но и без этого ясно, что киберпространство может стать мощнейшим социальным оружием сильных против слабых в позднекапиталистическую и посткапиталистическую эпохи. Оно способно скрыть, замаскировать любой кризис, любую новую систему господства, новую систему контроля. Оно и само-то есть не что иное, как средство социального контроля, которое контролируемый с радостью принимает. Виртуальная реальность — это великолепный туннель под реальным миром для перехода господствующих групп капитализма в посткапиталистический мир — в виде его новых невиртуальных, a реальных господ. Господ нового мира, в котором контроль: навязывается не извне, как об этом писали Дж. Оруэлл и Е.Замятин и как это было отчасти в коммунистическом порядке, интериоризирован в качестве «электронного наркотика» и как 6ы вырастает изнутри. Сам же переход в посткапиталистический мир виртуально может быть представлен как достижение конечного пункта развития, «конца истории» (разумеется, либерального), обретения «новой Аркадии»; живущие люди — как «поколение, достигшее цели», а тревожный звон Колоколов Истории — как нежно успокаивающие звуки клавесина. Сиди и слушай. Да и сам переход к новому, все менее единому, менее универсальному и еще более неэгалитарному миру может быть виртуально («уж не сумлевайтесь») представлен как движение к единому глобальному и разумно устроенному миру, где выравниваются различия между странами и классами, где царит стремление к справедливости. Нарастание партикуляризма можно представить опять же под углом зрения справедливости — мультикультурализм, борьба с культурным империализмом. Это — сознательная и полусознательная мистификация реальности, в которой заинтересованы многие группы, стремящиеся закамуфлировать перестройку Капиталистической Системы в иную систему, мир-экономики — в мир-коммуникацию. О том, что в нынешнем мире, особенно в тех его частях, которые, не будучи энтээровскими, страдают от язв энтээрства, объективно присутствует и даже усиливается тенденция к выпадению из мировых процессов, к замыканию, к деглобализации, на примере Африки интересно рассказывает Ж.-К.Рюфэн. В одной из своих книг он приводит две карты Африки — 1932 и 1991 гг. На первой карте черным цветом были изображены хорошо изученные районы, серым — не очень хорошо изученные, белым — неизученные. На карте 1991 г. черным помечены районы, контролируемые государством, центральной властью, серым — зоны небезопасности, а белым — «новые терра инкогнита», т. е. зоны, куда лучше не соваться, где в течение многих лет идут партизанские или межплеменные войны, где ситуацию контролируют вооруженные кланы и т. д.; зоны, которые объективно выпали из мира, отложились от него. Так вот, черной краски в 1991 г. стало больше, но существенно больше стало и белой краски; белые пятна-32 слились в белые массивы-91. Да и разница есть: «еще не изученные» в первом случае и «уже не изученные» во втором. Произошла дежюльвернизация Африки — и не только Африки. Не надо сгущать краски, но имеет смысл трезво оценить ситуацию и поставить вопрос: не присутствуем ли мы при очередном, третьем, «закрытии мира» (точнее миров), аналогичному тем, что произошли в IV и XIV вв. н. э. — с упадком в одном случае Римской и Ханьской, в другом — Великой Монгольской империй? Отрицательный ответ на этот вопрос вовсе не очевиден. Глобализация, как уже говорилось, может оказаться виртуальной или, как минимум, не единственной тенденцией развития, очевидна и диаметрально противоположная. Информационное (мир-коммуникация) единство мира может оказаться фиктивным или, по крайней мере, селективным, частичным, имеющим и оборотную сторону — разъединение. У последнего могут быть самые разные причины: политические, экологические, финансовые (как богатство, так и особенно бедность), эпидемические (пандемические). Деструктивные, разъединительные возможности человека увеличиваются вместе с конструктивными, объединительными, равны им — как минимум. Мир-коммуникация — это не столько единая мировая система, сколько сеть неравномерно и не жестко связанных анклавов, точек Севера в земном (и, как знать, околоземном) пространстве. Термин «мир-коммуникация» и связанный с ним подход к нынешней реальности позволяет, по мнению А.Матляра, «понять логики мондиализации, не мистифицируя их. В противоположность преподносимой нам глобалистской и эгалитаристской картине планеты эти логики напоминают: мондиализация экономик и систем коммуникации неразрывно связана с созданием новых форм неравенства между различными странами или регионами и между различными социальными группами. Иными словами, это источник новых исключений (из процесса обладания общественными благами. — А.Ф.), Чтобы убедиться в этом, достаточно взглянуть на принципы, которые лежат в основе создания особых рынков или региональных зон свободной торговли, этих опосредующих региональных пространств между мировым пространством и пространством национального государства. Глобализация сопрягается с фрагментацией и сегментацией. В этом — два лика одной и той же реальности, находящейся в процессе распада и нового соединения. 80-е годы были временем стремления к объединяющей и унифицирующей глобальной культуре, носителями которого выступали крупные транснациональные компании, изгонявшие «культурные универсумы», чтобы обеспечить распространение своих товаров, услуг и сетей на мировом рынке, но они же (80-е. — А.Ф.) стали также временем реванша уникальных, единственных в своем роде культур».[32] Культур, противостоящих универсальной культуре и ее ценностям и соответствующим неким культурно-(этно-)пространственным локусам, зонам или даже точкам. Мировое («глобальное») качество «мир-коммуникации» имеет не столько реальный, сколько виртуальный характер. Точечный, пуантилистский мир, строго говоря, в единой мировой системе и не нуждается. Любая точка этого мира может быть виртуально представлена как «мировая система» — достаточно провалиться в «черную дыру» киберпространства. Вселенная или точка — иррелевантно. Релевантно то, что целые группы могут творить свой мир на основе этой иррелевантности, эксплуатируя ее и с ее помощью эксплуатируя (но уже в другом смысле) других, подключая сюда фрейдизм, генную инженерию и многое другое, о чем мы и не догадываемся. А какие возможности новым господам предоставляет вытеснение социальных конфликтов в киберпространство? Существа из альбома «Человек после человека» Д.Диксона и ситуации типа Фредди Крюгера, преследующего и убивающего свои жертвы в их снах, могут оказаться цветочками, что, однако, не должно ни пугать (пугаться — поздно и бессмысленно), ни лишать воли к сопротивлению. Другой вопрос, сколько времени понадобится людям, чтобы выработать средства сопротивления, адекватные посткапиталистическим формам угнетения и эксплуатации. Над этим нужно думать уже сейчас. LVIIIВ прежние эпохи сначала возникала система эксплуатации и ее господа, затем формировались угнетенно-эксплуатируемые группы, затем, с еще большим опозданием — адекватные новой системе формы борьбы, сопротивления ей. Нынешняя эпоха, по-видимому, иная. Ее информационный характер позволяет (теоретически, по крайней мере) новым формам сопротивления и борьбы возникать по сути одновременно с новыми формами отчуждения. Дело — за «малым»: превратить: теоретическую возможность в практическую; социальную борьбу позднекапиталистической эпохи за «козыри истории» посткапиталистического мира — в сопротивление формирующимся господам этого мира; так сказать, сработать на упреждение. Ясно, что такую задачу легче провозгласить, чем осуществить. Во-первых, воля к борьбе и ясность мысли — это не самые распространенные из качеств. Во-вторых, социальные конфликты позднекапиталистической эпохи заслоняют, затеняют или просто делают невидимыми конфликтные точки, контуры и объекты борьбы будущей эпохи; конфликты последней как бы свернуты и спрятаны в конфликты сегодняшнего дня и трудно отделить одни от других. В-третьих, что еще более осложняет ситуацию, потенциальные господа посткапиталистического (и посткоммунистического) ныне реально борются с экономическими, социально-политическими и идейными формами Капиталистической Системы, выступая против нее и характерных для нее эксплуатации, угнетения, отчуждения. В такой ситуации сопротивление должно стать особым искусством. Более того, оно должно стать наукой, точнее, опираться на особую науку сопротивления (любым формам господства), которую еще предстоит разработать — как и соответствующую ее идейно-нравственную основу. Именно в азарте борьбы переходных эпох, направленной против старых господствующих и эксплуататорских групп, выковываются новые, формы господства и его персонификаторы. Поднявшееся на борьбу общество, трудящиеся сами выдвигают и выковывают их — закон самообмана. Эпоха революций — это эпоха создания новых господ, превращения тибулов и просперо в новых толстяков. Или, по крайней мере, подготовка плацдарма для такого превращения, сервировка нового социального стола. В борьбе революционных эпох все помнят о плохом старом и мечтают о хорошем новом, забывая, что хороших социальных порядков — ни новых, ни старых — не бывает; бывают — выносимые и невыносимые; борются со старым и не думают о борьбе с новым в новой эпохе — зачем, это будет прекрасный новый мир. Именно в момент борьбы с господами старого мира, отрекаясь от них и от этого мира, люди сажают себе на шею новых эксплуататоров — как Синдбад-мореход, наивно подставивший шею старику-«шейху моря», которого потом долго носил на себе. Главная задача, стоящая перед человеком в революционные, «переходные», вывихнутые эпохи, — не дать обмануть себя и, что еще важнее, не обманывать себя, избежать соблазна самообмана, питаемого и усиливаемого нежеланием нести ответственность, делать самостоятельный выбор и участвовать в длительной психологически изнуряющей борьбе. Говорят, генералы всегда готовятся к прошедшей войне. Аналогичным образом дело обстоит в революциях: люди воюют с прошлым, они готовы к прошлому врагу, но не готовы, не видят нового субъекта с хлыстом, или в котелке, или во френче, или в свитере. Другой вопрос, что задача определения Грядущего Господина трудна сама по себе и что, даже вычислив его, нелегко превратить теоретическое знание в практику в ходе социальной борьбы — ведь в таком случае оказываешься между двух огней. Но, с другой стороны, и «огни» можно направить друг на друга, как это делал капитал в течение последних 200–250 лет. Это та ситуация, где практика действительно оказывается критерием истины. Опыт прошлого показывает, что в любой социальной схватке необходимо трезво смотреть не только назад, но и вперед, с упреждением вырабатывая интеллектуальные и властные «антитела», способные исходно ограничить новых хозяев. Искусство сопротивления не только прошлому, но и будущему — вот что должно шлифоваться и отрабатываться. И, соответственно, знание, необходимое для этих целей. Это знание должно вырабатываться и совершенствоваться спокойно, но неуклонно — как йоги и мастера кун-фу оттачивали свое умение в монастырях в ходе длительной истории своих цивилизаций. Посткапитализм, похоже, окажется длительным, «асимптоматическим» периодом, так что время будет. И начинать нужно с нового типа понимания и знания. Знание — не просто сила, а власть. В эпоху, когда информационные факторы производства — знание, наука, идеи, образы — становятся решающими и отчуждаются у человека (а вместе с ними и он в целом — иначе быть не может), когда они становятся полем реальной социальной борьбы, последняя (равно как господство и сопротивление) не может не иметь научно-информационной основы; более того, эта основа становится объективно самой важной сферой знания, которую новые господствующие группы, должны будут секретить, табуизировать, виртуализировать. А для этого — скрывать реальность, мистифицировать, виртуализировать ее. Здесь сопротивление — это сражение за реальное представление о реальности. Но это — максимально общая («методологическая») характеристика. Точечный, пуантилистский характер грядущей эпохи подсказывает: массовой, зональной, годной для всех и в этом смысле универсальной «науки сопротивления» быть не может. В каждой точке она может быть различной. Универсальность ее будет носить иной характер: не наука сопротивления кому (феодалу, капиталисту, номенклатурщику), а прежде всего кого. Если главной антиэксплуататорской задачей человека станет остаться человеком вообще, то объект сопротивления имеет куда меньше значения, чем субъект. Новая «наука сопротивления» должна и может быть только субъектной, все остальное — методы, приемы, средства — относительно. В этом смысле мы как бы возвращаемся к истокам христианства, уже на рациональной основе: «Иисус, дай нам руку, помоги в немой борьбе». Разумеется, наука сопротивления не гарантирована от превращения в науку нового господства, эдакую «социальную прокрустику», как это произошло, например, с марксизмом на рубеже XIX–XX вв. Но марксизм — такова была эпоха — представлял собой объектную, объектоцентричную «науку сопротивления», отсюда и метаморфозы. Субъектный характер новой «науки сопротивления», нового «сопротивляющегося знания» в значительной степени является иммунитетом против перерождения. Впрочем, все это определяется и логикой самой социальной борьбы. Поэтому в нынешних конфликтах необходимо обладать двойным, стереоскопическим и инфракрасным (помимо нормального) зрением, двойным видением — дневным и ночным (и его приборами). Необходимо внимательно приглядываться ко всем агентам текущего мира и его конфликтам, прикидывая на будущее. Сегодняшний друг или нейтрал может оказаться завтрашним врагом — и наоборот. Сегодняшний вроде бы безобидный пес завтра может превратиться в Шарикова. Так, может, лучше сразу его пристрелить или, по крайней мере, не прикармливать? А то выйдет как с «ленинской гвардией»: И свято веря в правду Класса, (Н.Коржавин) Псам-людям, собакоголовым Шариковым, что разорвали Швондеров и попутно, к сожалению, многих других. Разумеется, двойное, перекрестное видение, разработка действий на его основе (не говоря уже о реализации) — задача исключительно сложная, требующая создания принципиально новой формы организации знания, методы которого позволят рассекать нынешнюю реальность и вскрывать в ней семена, эмбрионы и формы будущего в их взаимодействии, то, что день грядущий нам готовит. Иначе — беда. В любом случае важно понять: в современные социальные конфликты ввиду специфики эпохи, вплетены, уже присутствуют чаще всего в скрытом, искаженном, нечистом виде формы противоборства грядущего «странного мира». Они проявляются по-разному и в разных сферах: в росте преступности и этнических чистках, в росте значения иррационального знания и отступлении универсализма, в новых научных концепциях и формах досуга, наконец, в приходе той виртуальной реальности, о которой шла речь. Между прочим, возможность виртуальности была предсказана несколько десятилетий назад. Ст. Лем в «Сумме технологии» размышлял о неких фантоматических машинах, о фантоматике, позволяющей человеку «как бы» чувствовать себя акулой или крокодилом, посетителем публичного дома или героем на поле битвы. Он говорил о передаче ощущений, цереброматике и прочих штуках, которые в конце 60-х годов казались фантастикой. 30 лет спустя сказка стала былью. Хотите почувствовать, как вы распиливаете бензопилой соседа? Получите видеошлем. Секс через компьютер? И об этом уже пишут — читайте журнал «Пентхаус». Вот вам и передача ощущений. С киберпространством не нужна собственность в прежнем смысле слова. Здесь другие средства контроля: киберпространство отчуждает у человека информацию, духовные факторы производства. Киберпространство — это сладкий концлагерь, значительно более эффективный, чем лагеря коммунистов и нацистов. Вот когда производственно сбывается афоризм Ежи Леца «В смутные времена не уходи в себя — там тебя легче всего найти». Человек эпохи НТР — Homo informaticus, в массе своей, социологически, т. е. по логике возникающего социума, должен быть, Homo disinformaticus. Это только на прямолинейно-просвещенческий взгляд кажется, что в эпоху господства информационных технологий, духовных факторов производства все должны быть умниками и творцами. Совсем наоборот! Если духовные факторы производства, информация являются решающими, то это значит, что господствующие группы будут отчуждать именно их, именно на них будут устанавливать свою монополию, лишая этих факторов основную массу населения. У пролетария не было капитала, у арендатора — земли, у раба — собственного тела. У Homo (dis)informaticus не должно быть реальной картины мира, рационального взгляда на мир; этот homo не должен быть духовным. В логическом завершении — он не должен быть Homo. И не должен знать, мыслить. Знать, мыслить — значит быть. Cogito ergo sum. Homo disinformaticus — жилец (или скорее нежилец, нежить) антидекартовского мира. Современность прошла под знаком Декарта. Постсовременность, похоже, будет диаметрально противоположной. Или, по крайней мере, может быть, если не противостоять этой тенденции (но для этого человек сам должен стать Точкой-Вселенной, Homo universalis). Ныне астрологи, экстрасенсы и иже с ними не просто очередной раз явились в Смутное время мира, но и (на этот раз) активно работают на будущее антидекартовского мира и его господ, мостят им путь к власти, создают удобный объект новой «властесобственности». Удел этого объекта — фантомат, дезинформированность или неинформированность, вера в НЛО и «психотэрапэутов», в экстрасенсов и в сглаз, в астрологов и «жизнь после смерти». Неважно во что. Важно, чтобы он привык верить в иррациональное, чтобы не знал и не понимал, что происходит в мире — для этого не надо перекрывать информацию; наоборот, утопить его в ней, и он сам заорет нечто вроде: «Не хочу политики, чернухи, эпидемий, катастроф; хочу покоя и развлечений». Вот тут-то ему на блюдечке — виртуальная реальность, в которой живут счастливые Homo virtualis. По ту сторону счастья и несчастья, свободы и достоинства. Как несколько десятилетий назад набросились на Б.Скиннера за его книгу «За пределами свободы и достоинства» («Beyond Freedom and Dignity»). А ведь он всего лишь предвосхитил некоторые реальные тенденции (другой вопрос — его пораженческое отношение к ним). Нынешнее все усиливающееся мировое пристрастие к оккультному и иррациональному имеет два источника. Один — характерное для всех закатных эпох, фаз упадка, чувство страха и неуверенности. Второй — объективная заинтересованность господствующих групп идущего на гребне НТР «виртуального капитализма» (а за ним — посткапитализма) в дерационализации и деинтеллектуализации широких масс и сознания в целом. Можно сказать, что нынешний бум интереса к магии и т. д. и т. п. есть, помимо прочего, процесс экспроприации у людей духовных факторов производства, политика нового «огораживания» — огораживания информационных полей определенными рамками, первоначальное накопление средств интеллектуального производства. В свое время, играя словами, Р.Дебре писал: «L’ere de l’intelligentsia sera celle de la plus grande inintelligence» («Эра интеллигенции будет эрой самой большой неинтеллектуальности»).[33] Я бы только дополнил и поправил: эры интеллигенции не будет, эра интеллекта не будет эрой интеллигенции, энтээровская эпоха не требует интеллигенции, она требует господ и контролеров интеллектуального и эмоционального труда. С другой же стороны она требует массы Homo virtualis, homo, который является человеком лишь виртуально. А заглянешь в душу — крокодил, совокупляющийся с крокодилихой (мазохистам можно предложить богомола, паука или еще кого-нибудь из членистоногих). Или лев, рвущий на части только что задранную антилопу гну. Короче, есть где разгуляться нашему рептильному мозгу! И действительно, у Homo virtualis мозг должен быть сведен в основном к Р-комплексу (подсоединенному к дереализованному миру) и функционировать как бикамеральный. Психолог Дж. Джеймс заметил, что такое явление, как целостность личности (как целостная личность), возникло в истории человеческого рода на удивление недавно, в Европе — не ранее трех—двух с половиной тысяч лет назад. Связано это было с появлением и развитием письменности, точнее — с буквенным письмом соответствующим ему общим усложнением культуры. До этого полушария мозга — левое и правое — в определении социального поведения действовали относительно независимо друг от друга: речь могла генерироваться правым полушарием, а восприниматься левым. Это и есть бикамеральность мозга и, по сути, раздвоенность, расщепленность личности (как индивидуальности). Сигналы, передающиеся из правого полушария, выступали средством социальной регуляции поведения коллективистского типа («культура стыда») и действий, в которых не предполагалось самоанализа. Например, герои «Илиады» не размышляли и не анализировали, за них это делали боги.[34] Исторически конец бикамеральному мышлению и связанному с ним поведению, считает Джеймс, пришел примерно в VII в. до н. э., что нашло отражение в изменениях значения слов «псюхэ» и «сома». Если первоначально их значением было «жизнь», «живое состояние» и «труп», «неживое состояние», то с Пифагора значение этих слов изменилось: «душа» и «тело». Это было отражением изменения в поведении, обусловленным возникновением самосознания и потенциала «культуры совести». Знаковая, письменная культура; которая с XV в. в Европе превратилась в «галактику Гуттенберга», создает цельность личности и фиксирует оппозицию «душа — тело». Компьютерные виртореальность и киберпространство заставляют человека покинуть «галактику Гуттенберга», поскольку оперируют не знаками, а образами и именно к ним адаптируют человека. Последний в таком случае оказывается отброшен не только в догуттенберговскую эпоху, в XIV в., но проваливается в Колодце Времени значительно глубже — в эпоху до VII в. до н. э., не в допечатную, а вообще в дописьменную эпоху. Виртореальность, таким образом, воспроизводит ситуацию трехтысячелетней давности, стирает различие между телом и душой (результат — живой труп), на место «культуры совести» опять водружает «культуру стыда» и разрушает цельность личности. Псевдоцельность виртореальной личности обретается только электроннонаркотически — в киберпространстве, придатком к которому становится человек (человек ли?). Однако три тысячелетия человеческой истории, крышку над которыми открывает виртуальная реальность, — это еще далеко не самое дно, сулимое этой реальностью. Самое дно — за пределами человеческой истории, человеческой социальности вообще, ближе к рептилиям, динозаврам. LIXР-комплекс (или «рептильный мозг»), который упоминался выше, — это, согласно П.Маклину,[35] морфологически самая древняя часть мозга, доставшаяся нам в наследство от рептилий (первых существ, у которых количество информации в мозгу превышало, таковое в генах). Следующая эволюционная система, наслоившаяся на Р-комплекс, — это лимбический мозг, достижение млекопитающих, а на этот последний уже наслоился неокортекс — штука человеческая, слишком человеческая. Между тремя мозгами существует некое разделение труда. Неокортекс («новая кора») «отвечает» за специфически человеческие (волевые, целеполагающие) познавательные усилия, включая использование знаков, предвидение событий, сопереживание, и ряд других функций. Лимбическая система, в глубине которой находится гипофиз, генерирует яркие эмоции, связанные с радостью открытия нового, с эстетическим восприятием мира, с альтруистическим поведением, восприятием вкуса, творчества. Наконец, «рептильный мозг» играет важную роль в агрессивном, ритуальном и территориальном поведении, в установлении социальной иерархии, в том числе через половое поведение (контроль над самками) и контроль над территорией. Здесь нет эмоций и обратной связи, но бесстрастное осуществление любого поведения, диктуемое одним из полушарий мозга или просто генами. Как заметил К.Саган, эпилептический припадок, отключающий, обеспечивающий значительную часть неокортекса и лимбического мозга, отбрасывает человека на сотни миллионов лет назад. Ясно, что виртореальность тоже отключает неокортекс и лимбический мозг, сохраняя (и многократно усиливая) значение самой древней части мозга, ведающей «агрессивно-послушным» поведением,[36] и таким образом на время перемещает человека в далекое (дочеловеческое) прошлое в качестве в значительной степени дочеловеческого существа, не меняя при этом его морфологию, физическую организацию. Разумеется, такие путешествия не могут быть бесследными, тая в себе возможность регрессивной эволюции, социальной деградации человека до Homo saurus, до гомозавра. Если хотя бы отчасти прав Ю.Плюснин,[37] полагающий, что социальные формы существуют независимо (я бы сказал: относительно независимо) от биологических («правило Эспинаса»: нет несоциальных животных, т. е. биологическое и социальное суть два аспекта — вещественный и информационно-энергетический — одного и того же явления, причем соотношение их эволюционно подвижно в обе стороны) и обладают своей эволюцией или даже не столько эволюцией, сколько историей, то воспроизведение в человеческом обществе социальных черт и отношений не (или до-) человеческого типа («бабуинизация», «муравьезация» и т. д.) при физической неизменности носителей социальности, регресс последней — явление вполне реальное объяснимое. И это — не биологизация, а именно регресс человеческой социальности в дочеловеческие формы социальности же. И хотя XX в., а отчасти и XIX дали тому немало примеров, мы до сих пор не только не осмыслили, но и, похоже, не осознали их. Итак, виртуальная реальность — это широко и соблазнительно распахнутые ворота и одновременно позолоченный мост на пути в регресс человеческой социальности, который она же и скрывает, искажает, представляя дочеловеческое как человеческое. У нее для этого много возможностей. LXКонкретный пример возможностей дереализации мира, сокрытия или искажения современных процессов приводит А.Матляр, известный специалист по мировым коммуникациям. Ныне постоянно приходится слышать — от сладкоголосых политиков, ооновских чиновников и обслуживающих их журналистов — глобализации мира, о его «мондиализации», о создании единого мирового информационного пространства и т. д. и т. п. Как правило, именно такого рода рассуждения противопоставляют идеям и прогнозам о распаде единой мировой экономической системы на несколько регионов-геоэкономик, о деуниверсализации мира, о том, что целые блоки будут выпадать (или стремиться выпасть и обособиться) из некогда единого мирового процесса индустриальной и особенно позднеиндустриальной — американо-советской, «холодновойновой» эпохи. На самом деле, логика развития энтээровской эпохи ведет именно к утрате миром единства и целостности; не хочется внешних аналогий, но так и вертится на языке что-то вроде «неофеодальной неораздробленности» («новое средневековье» уже дважды занято, в этом «теремке» поселились Н.Бердяев и А.Мэнк). Однако современные средства массовой информации стремятся убедить в противоположном, в том, что мир становится все более единым и тесным, что его «накрывает единая мировая информационная сетка» (это, кстати, хорошая фрейдовская проговорка: в сети и сетями-сетками ловят рыбу, бабочек и вообще слишком доверчивых). Соответствует ли реальности «глобализация» и «мондиализация» мира? Или — нарисовано на холсте? По логике развития позднего капитализма и НТР должно быть верно второе. Упоминавшийся П.Вирилио подтвержает это. Нет никакой мондиализации мира, говорит он, есть виртуализация этого процесса, т. е. создание иллюзии становящегося все более единым мира. Реально мондиализируется текущее мгновение, настоящее время, миг; точка во времени (опять пуантилизация!) становится уникальным в истории — мировым — временем. Но это время, подчеркивает Вирилио, виртуальное, создаваемое средствами коммуникации. Если Ф.Бродель говорит о «мир-экономике», а И.Валлерстайн — о «мир-системе», то, как считает А.Матляр, наступает время «мир-коммуникации». При этом, добавляю уже я, «мир-экономика» распадается на макрорегионы геоэкономики. И это естественно: если решающую роль играют «информационные факторы производства», то (виртуально-) реальное единство мира осуществляется на их, а не на индустриально-вещественном, уровне. Энтээровский «мир-коммуникация» вообще снимает противоречие «глобальный — локальный». И это уже нашло отражение в появлении неологизма «глокальный» (глобальный + локальный). Глобальное и локальное сжимается в точку, которая есть и локус, и мир одновременно. Пуантилистский мир — это глокальный мир. «Глокус» — вот главный враг и мир-системы, и национального государства, и универсалистской культуры. «Глокусу», этому дитя НТР, адекватен партикуляризм, способный узаконить новые формы эксплуатации и неравенства. Затухание системообразующего противоречия имеет еще одно следствие. Социальная борьба утрачивает адекватную ей социальную (социосистемную) форму и начинает примерять иные одежды; этнические, этнокультурные, этнолингвистические, религиозные или даже расовые. Короче, социальная система уже не может обеспечить своим конфликтам социосистемную же форму, придать им характерную для нее социальную форму. У нее нет для этого ни сил, ни возможностей, и она начинает поиск в себе — за пределами социального, а также за пределами самой себя. Это негативный способ выхода системы за собственные рамки, на чем она, как правило, и ломается, поскольку в ходе борьбы внесистемных (и внесоциальных для данной социальной системы) форм появляются новые социальные формы, из которых, как из процесса конфликта, из процесса борьбы, и возникает новый системосоциум. В этом смысле генезис систем и их упадок внешне похожи. Так, в первые столетия истории капитализма его социальные конфликты идейно не принимали чисто классовую форму. Для их идейного оформления хватало старых средств — христианской религии. И Великая капиталистическая революция началась как религиозная. C конца XVIII и по последнюю четверть XX в. конфликт Капиталистической Системы обрели адекватную им форму, классовую, которая получала и свое особое, новое и чистое идейное оформление — идеологию. Соответственно именно зрелые фазы развития Феодальной Системы и Античной Системы демонстрировали формы, сходные с классово-идейными или эквивалентные им. Правда, в наши дни имеется существенное отличие. Античность, феодализм и капитализм суть элементы субъектного потока исторического развития, для которого революция есть имманентная форма социального движения. Революции здесь, как и социальные конфликты, со времен христианства происходили в поле и под знаменем универсалистских форм. Ныне в Капиталистической Системе, в которую капитал насильственно включил общества несубъектного потока развития, конфликты, возникающие в период затухания системообразующего противоречия, все более обретают неуниверсалистскую или даже антиуниверсалистскую форму, будь то религия или этнокультура. В этом — резкий контраст между «входом» в капитализм и «выходом» из него. Но это естественно: выйти так же, как войти, — нельзя. Вход — противоположность выходу. И это — еще одна причина, заставляющая переосмыслить суть этнорелигиозных движений позднекапиталистической эпохи и не вешать на них ярлык национализма. Эпоха национализма и национализмов закончилась. Этнорелигиозные и расово-культурные конфликты необходимо изучать по-новому. Возможно, и для этого понадобится создать новую сферу знания. Итак, многослойный кризис, о котором шла речь, кризис-бутерброд, «биг мак», которым не подавиться бы; осенний характер нынешней эпохи — все это подталкивает к разработке новых сфер знания, к переосмыслению нынешней его структуры, к созданию новой системы рационального знания. Это императив и для нас, и для Запада — как для Русской Системы, так и для Западной, если она не хочет уйти в прошлое вместе с капитализмом. Разумеется, говоря о киберпространстве, о Homo disinformaticus, я отмечаю некие тенденции, возможные варианты — преимущественно негативные. Во-первых, потому что негативы чисто статистически чаще побеждают в истории. Во-вторых, лучше быть предупрежденным о худшем и быть готовым к нему. Осознать необходимость такой готовности важно и для Запада, и для нас. Мы входим в пуантилистский энтээровский мир по негативу, именно мы по принципу «язычники, страдающие от язв христианства», можем быстрее и сильнее подорваться на «минах» виртореалъности и киберпространства без НТР и ее позитивов (эффект ситуации индейцы и «огненная вода»). Конечно, русская реальность всегда отчасти (и часто от части большой) была как бы виртуальной Иначе не возник бы у нас фантастический реализм Гоголя и особый русский юмор, смеховая культура, в которой может быть и смешно, и страшно одновременно. Конечно, западная виртуальность может поломаться при столкновении с доэнтээровской российской — как «ломаются» об российских тараканов самые что ни на есть сильные западные инсектициды. Хуже другое, а именно: русская «виртуальность», усиленная западными формами. Большевики уже провели один эксперимент. Поэтому, повторю, над проблемам последствий виртуализации мира стоит размышлять и нам, и Западу. LXI«И нам, и Западу». Написал эти строки и подумал: не совершаю ли я логическую ошибку, когда говорю: «нас», «мы», рассуждая о судьбах капитализма и особенно Европейской цивилизации? Причем здесь мы, русские, Русская Система? Что нам Запад? Что мы ему? Связь здесь, однако, есть, но не непосредственная, а более тонкая, не столько физическая, сколько метафизическая. То, что Запад нам не поможем выбраться из наших трудностей, — это ясно. Во-первых, не может, даже если очень захотел бы. Россия — неподъемная ноша как для Капитала, так и для Запада вообще. Конец XIX в. уже продемонстрировал ситуацию «Бедненький бес под кобылу подлез». Помочь можно Чехии, Шри Ланке, Коста-Рике, короче — «жеребятам», в крайнем случае — Мексике. Но не России. Во-вторых, Запад не хочет по-настоящему нам помогать. И это естественно. Кому нужны сильные конкуренты, новая сильная структура Русской Системы? «Помощь» предусмотрена ровно настолько, чтобы ситуация в России не превратилась в хаос. Не более того. Когда Запад может и хочет, он помогает. Реакция США на финансовый кризис в Мексике в начале 1994 г., с одной стороны, и на советско-российский кризис — с другой, красноречивее многих доводов. В-третьих, у Запада хватает своих проблем, и чем дальше, тем больше. Понятно, что отсутствие надежд на помощь Запада, которые у нас почему-то особенно питали в течение последних лет, может многих напугать не меньше, чем книга Шпенглера «Закат Европы» напугала некоторых русских людей в начале 20-х годов. «Неужели, — спрашивал я себя, — Шпенглер действительно прав, неужели к Европе и впрямь приближается смертный час? Но если так, то кто спасет Россию?» — писал Федор Степун.[38]«Привыкли верить мы, что нам без немцев нет спасенья», — отвечу я ему словами Чацкого, а точнее — Грибоедова. Поэтому строки из пролетарского гимна «Никто не даст нам избавленья» оказываются очень актуальными. Свобода от иллюзий — один из источников силы. Лозунг гимна «пролетариев», которые сажали в лагеря, логично дополнить лозунгом непролетариев и пролетариев, которых в эти лагеря сажали: «Не верь, не бойся, не проси». В частности, помимо прочих: не верь Западу, не бойся его и не проси у него. Почему? Да потому, что у Запада свои интересы, и исходя из этих интересов, по крайней мере краткосрочных и среднесрочных, он будет действовать так, как он действует. Политики и бизнесмены, как правило, живут в краткосрочной перспективе, в перспективе краткосрочной выгоды. Именно этим объясняется политическая близорукость Запада в 20–30-е годы по отношению к Германии и СССР, в послевоенный период — по отношению к СССР, в последние годы — по отношению как к кризису в бывшей Югославии, так и к России (но уже иначе, чем в отношении CCCP). Учет долгосрочной перспективы в политике или бизнесе — вещь настолько редкая, что от нее можно абстрагироваться. Полагаю, именно в долгосрочной общеисторической перспективе сильная Россия нужна Западу не меньше, чем он ей. Но, повторю, в даль истории мало кто смотрит. Синица в руках — это реально. Отсюда — конкретные, действия. Поэтому ясно, например, что 3апад заинтересован в топливно-сырьевом развитии России (а нам нужен и ВПК) в сохранении некоторой напряженности между Россией и Украиной (а нам здесь нужно совсем другое). Запад будет поддерживать в России те политические силы, которые смотрят на Запад снизу вверх. Или поощрять тех ученых-обществоведов, предоставлять гранты тем, кто говорит на языке конвенциональной западной социальной науки, меря Россию в ее настоящем, прошлом и будущем западной меркой, используя западную терминологию и методику, набрасывая на незападную реальность западную дисциплинарную сеть. Запад будет поддерживать тех экономистов (и те правительства), которые станут слушать Международный валютный фонд (МВФ). Показательно, что, когда в начале 1994 г. МВФ попытался учить несколько крупнейших американских корпораций и правительство США, жестко-насмешливая отповедь последовала незамедлительно. Смысл ее был таков: играйте, но не заигрывайтесь — не путайте Запад со странами Восточной Европы, СНГ и Третьего мира, им и советуйте. О том, что Запад не сможет и не захочет реально помочь (в чем есть свой резон; резон этот не плох и не хорош, он реальность; плохи, т. е. вредны были надежды на помощь) можно было догадаться еще на рубеже 80–90-х годов, понять это сквозь рукоплескания Запада («давай-давай, рус-Иван, карашо!»), сквозь белозубые улыбки его лидеров. Ведь тогда, в конце 80-х — начале 90-х годов, Запад рукоплескал не СССР и не России, а их ослаблению, демонтажу — тому, что (и чего) уже можно больше не бояться, — элементарное геополитическое соображение, за которое едва ли можно предъявить Западу счет. Счет следует предъявлять тем, кто, подобно Буратино, думал, что их ведут и пускают на Поле Чудес (забыв при этом, что Поле Чудес — это свалка в Стране Дураков) растить золотые. Впрочем, предъявлять счет и поздно, и глупо. Падение коммунизма и распад СССР — объективный процесс, но вот формы его, особенно те, что связаны с геополитикой, могли быть намного более достойными или хотя бы менее болезненными. Могли бы — теоретически, но не практически. Причин тому — несколько. Остановлюсь на одной, быть может, не самой главной, но часто упускаемой из виду. Думаю, Хрущевым заканчивается то поколение советских руководителей, которые не имели комплекса неполноценности по отношению к Западу.[39] У Ленина и его «гвардии» такого комплекса быть не могло, потому что они не отделяли себя от Запада, а в качестве персонификаторов антикапиталистической мировой революции ощущали свое превосходство над своими западными союзниками и противниками. Сталин и сталинцы, последним из которых был Хрущев, ощущали зловещее и циничное властно-интеллектуальное превосходство над западными лидерами. Вся история контактов Сталина с Черчиллем и Эттли, Рузвельтом и Трумэном показывает, что чувство превосходства имело реальную основу, Сталин практически все время переигрывал своих западных оппонентов. В этом смысле он был не так уж далек от истины, говоря младшим соратникам, что после его смерти «империалисты обманут вас как котят». Вышло несколько иначе и не сразу так. Переломным стал Карибский кризис, когда Хрущеву (он полагал, что «молокосос-президент» будет собирать «ихний конгресс» так долго, что советские автоматчики уже будут где надо, чуть ли не у Белого дома) «было строго указано» тем самым «молокососом». Соотношение сил оказалось в пользу США. Когда же в начале 70-х силы выровнялись и был достигнут примерный паритет, не только чувства превосходства уже не было, но начал возникать комплекс неполноценности, психологической зависимости.[40] Во второй половине 80-х годов этот комплекс проявился со всей очевидностью. Тому есть несколько причин, немаловажной среди которых была нарастающая провинциализация советского руководства начиная с брежневского времени (хотя предтечей в некоторых отношениях был Хрущев). Под провинциализацией, провинциальностью здесь имеется в виду не место происхождения — в этом смысле все советские лидеры, начиная с Ленина и Сталина и кончая Горбачевым и Ельциным, были провинциалами, выходцами из провинции. Речь о другом. Под провинциальностью имеется в виду отсутствие широкого взгляда на мир, адекватного этому миру, умение мыслить глобально, а не воспринимать мир как лишь увеличенную область, край. Было бы ошибкой полагать, что Запад свободен от таких лидеров. Не свободен и, по-видимому, чем дальше, тем больше будет несвободен. Но в отличие от СССР, где практически все определял генсек, на Западе всегда существовали политические и особенно экономические институты и формы, требовавшие глобального, я бы сказал, антипровинциального подхода к реальности. Они так или иначе, лучше или хуже, но корректировали лидера, особенно когда он нуждался в этом, как, например, Форд или Картер. В СССР же корректировать было некому и нечему. Адекватен был его лидер современному миру — хорошо; более того, он получал преимущество перед своими западными контрагентами, поскольку не был ограничен и связан институциональными «корректировками». А вот если не адекватен, если провинциален, то дело плохо, помощи ждать неоткуда и, более того, следует ожидать провинциализации окружения и роста комплекса неполноценности по отношению к Западу — комплекса «деревни по отношению к городу». Это — закономерный результат отсутствия реальных институтов в русской (и советской) истории, отсутствия, приводившего к тому, что специфика чрезвычайки или личность Властителя определяет ход событий напрямую. А.Белинков заметил, что современником Павла I, которого многие считали безумным и этим объясняли ход русской жизни в последние годы XVIII в., был английский король Георг III. Его тоже считали если не безумным, то «не вполне». Повлияло ли это «не вполне» на ход английской истории? Ни в коем случае. А в России повлияло. И это — не роль личности в истории, не субъективный фактор, а объективная логика функционирования системы, где власть — дистанционный моносубъект, а место институтов занимают чрезвычайные органы. Такая система если уж «коротит», то как следует. Полисубъектному обществу социальные «короткие замыкания» не страшны. Итак, Сталин и, пожалуй, Хрущев (хотя, повторю, здесь есть нюансы) были последними лидерами, у которых комплекса перед Западом не было, они в целом соответствовали миру, в котором жили. Короче, в 20–60-е годы с обеих сторон, нашей и западной, борьбу вели люди Центра, люди метрополии. С 70-х людям и структурам Центра на Западе все более противостояли люди нашей Провинции, Периферии с соответствующим кругозором и отсутствием мировидения, адекватного последней трети XX в. И это не просто психологическая, субъективная черта — с 60–70-х годов коммунистическая система именно такой тип выдвигала на первый план — так ей было спокойнее. Иными словами, перед нами социосистемная, объективная закономерность и причина (разумеется, не единственная). Но каждое приобретение есть потеря, за спокойствие, тишь и благодать надо платить: коммунистическая система в 60-е годы не выдвинула лидера, который был бы положительно адекватен наступающей энтээровской эпохе. Точнее, не только не выдвинула, не воспитала, но не пропустила бы, не дала бы ходу, задавила, если бы возник. Как не пропускала и тех, кто мог в какой-то степени «реставрировать» какие-то черты сталинизма или хотя бы обещал это сделать. И на Западе лидеры, соответствующие НТР, появились не сразу, Тэтчер и Рейган пришли в 70–80-е годы. Тех же Форда и Картера, если говорить о США, нередко обвиняли в провинциализме, но, как я уже говорил, во-первых, он лучше или хуже корректировался (рядом с Фордом был Киссинджер, рядом с Картером — Бжезинский). Во-вторых, одно дело — провинции и провинциалы энтээровского Запада, которые если чего еще не знали, то многое чувствовали, поскольку ощущали дуновение ветерка новой эпохи. Другое дело — провинциалы доэнтээровского СССР. В этом смысле советские лидеры ничего чувствовать не могли, все было тихо: «Речка движется и не движется, вся из лунного серебра». Итак, на рубеже 60–70-х годов произошла расстыковка между развитием СССР и Запада. Те, кто с точки зрения мировых императивов объективно должен был бы явиться в 60-е, пришли в СССР к власти в 80-е, с двадцатилетним запозданием (в отличие от Ленина и Сталина, явившихся в срок и нашедших свое время в той же степени, в какой время нашло их — но упаси Бог от таких находок) и, естественно, во многом оказались архаикой, провинцией по отношению к миру 80-х и центрам его развития. Но, повторю, это так с точки зрения мировых императивов, мирового развития, НТР. С точки же зрения императивов развития коммунизма — и как системы, и как процесса развертывания и следствия ВТР (властно-технической революции), происшедшей в России в «длинные 20-е» и увенчавшей Русскую Смуту 1861–1929/33 гг., приход к власти руководства типа брежневского («провинциального») был закономерным, более того, необходимым и, так сказать, прогрессивным для данной системы на данной стадии ее развития. Уже говорилось о том, что одним из последствий НТР на Западе, которое ныне дало себя знать, и, по-видимому, будет набирать силу, стало ослабление национального государства, грубо говоря — центра. Хотя этот процесс уже ощутим, он только начинается. Т. е. должно пройти несколько десятилетий, чтобы он набрал инерцию. Русский аналог НТР — коммунистическая ВТР, тоже поставившая во главу угла социальные и духовные факторы производства (но не на предметно-производственной основе), через несколько десятилетий закономерно, с необходимостью привела к ослаблению центра, к усилению среднего уровня власти — ведомств и обкомов в противовес тому, что у нас называли «государством». Реакционно-романтические попытки Хрущева укрепить это «государство» (реформы 1957 и 1962 гг.) в ущерб ведомствам, усилить территориальный («государственный») принцип в противовес производственному, ведомственному провалились. Брежневское время стало периодом торжества ведомств и обкомов, именно тогда по сути начинался распад СССР и подрыв коммунизма посредством явления, которое именуют «коррупция». Брежневская, позднекоммунистическая, ведомственно-обкомовская эпоха в истории коммунизма выдвигала и воспитывала соответствующих лидеров, которые решали задачи, поставленные перед ними системой, решали так, как это надо было системе, в соответствии с ее логикой и принципами самосохранения. Соответствуя объективным задачам и логике развития коммунистической системы, антикапиталистической зоны Капиталистической Системы, они в то же время не соответствовали, перестали соответствовать объективным задачам и логике мирового развития Капиталистической Системы в целом. Таким образом, в 60-е — первой половине 70-х годов произошла определенная расстыковка в мировом развитии между Первым и Вторым мирами, несовпадение фаз: Запад «уехал» в НТР при еще сильном национальном государстве, а СССР остался в индустриально-аграрной эпохе, забуксовал в ней, исчерпав экстенсивные ресурсы роста и возможности внеэкономической, вэтээровской организации (НТР обесценили последнюю полностью и испытывая все большее ослабление «коммунистического государства» — Центра). Это несовпадение фаз (или совпадение противоположных, восходящей и нисходящей, фаз) сыграло с СССР злую шутку. Аналогичное несовпадение фаз имело место в 20–50/60-е годы, но тогда проигрывал Запад. Русская ВТР создала властную организацию (и соответствующих ей лидеров), которая в рамках индустриальной системы производительных сил и особенно в 50–60-е годы («повышательная волна» кондратьевского цикла, «Кондратьев-А») обеспечивала СССР целый ряд преимуществ развития — экономического, геополитического. Это был период, когда советские лидеры колпачили Запад, переигрывая его лидеров, многие из которых будто бы задержались в XIX столетии. Кстати, наступление понижательной волны кондратьевского цикла совпало с НТР — двойной капкан, двойной удар по коммунизму. Все это означает, что если в 20–50/60-е годы векторы развития коммунизма и капитализма совпадали или. скажем так, прочерчивались в одном пространстве, если в тот период логика и задачи капитализма и его негативно-функционального двойника стыковались, то на рубеже 60–70-х годов совпадение кончилось, векторы пошли в разные стороны и с разными скоростями, произошли расстыковка, несовпадение фаз развития — стыковка в космосе «Союза» и «Аполлона» оказывается символом расстыковки СССР и США и вообще двух систем на земле. Точнее, совпали диаметрально противоположные фазы, причем вдвойне: технико-экономический рывок Запада при сохранении пока еще сильного центра (национального государства) и технико-экономические пробуксовка, отставание, инволюция (а., затем и регрессивная эволюция) СССР при ослаблении центра и подрыве социосистемных основ («коррупция» и т. д.). Двойной капкан. Со всеми последствиями международно-геополитического (Хельсинки-75 были, по сути, последним триумфом, подводившим итог ушедшему или уходящему периоду истории) и культурно-психологического характера, в том числе и для советского руководства. Последнее, особенно в 80-е годы, загонялось во все большую провинциализацию как положительно — логикой развития коммунистического порядка, необходимостью соответствовать ему, так и отрицательно — все большим несоответствием мировому развитию, раннеэнтээровской эпохе. Отсюда — психологический надлом и комплекс неполноценности, который проявился в действиях советского, а затем российского руководства на рубеже 80–90-х годов, когда это руководство вышло в «открытый мир» без реального знания об этом мире и без соответствующей такому выходу идеологии. Эта ситуация закономерна. На основе комплекса неполноценности, несоответствия миру невозможно выковать новое научно-идейное оружие, приходится цепляться за старые идеологические догмы, повторять их, словно заклинания, или выворачивать наизнанку. Дореволюционное большевистское и советское руководство 20–50-х годов обладало и знанием (пусть односторонним), адекватным той эпохе, и действенной идеологией мирового уровня и масштаба.[41] В 60–80-е годы нормальное развитие коммунистической системы исключало, табуизировало возможность реального изучения мира, капитализма и коммунистического общества. Вино 20–50-х перебродило и стало уксусом шестидесятничества, а за ним пошло «по слову и крови гнилостное брожение, как звон гитары» (или под звон гитары авторской песни бардов 70-х). Хотя начало психологического надлома советского руководства в отношении Запада произошло на рубеже 60–70-х годов, инерционно СССР продолжал брать верх в Холодной войне в течение всех 70-х. Связано это было с детантом, но об этом чуть позже. Сейчас — о том, что называют «поражением СССР в «Холодной войне»». Поражение было. Но не в Холодной войне. Холодную войну СССР не проиграл, он ее «покинул», сдал — как покидают корабль или сдают крепость. Поражение было результатом отказа от Холодной войны, той формы, в которой это было сделано. Именно отказ от Холодной войны означал глаза, опущенные долу. Как известно, в бою первыми терпят поражение глаза. LXIIХолодная война — очень интересное и полностью до сих пор не осмысленное явление истории XX в. К нему привыкли как к чему-то, что долго было повседневностью, а потом умерло. Холодная война воспринимается как метафора, что скрывает реальный смысл уникального явления, которое стоит за этим термином и не имеет аналогов в истории. Холодная война — не просто некий особый внешнеполитический курс. Точнее, это не столько внешнеполитический курс. «Политика», «внешняя» — здесь только формы. Холодная война есть нормальный способ противостояния коммунизма Капиталистической Системе в целом. Причем если буржуазные государства в истории международных отношений XX в. далеко не всегда противостояли коммунизму как система — системе (Советскому Союзу противостояли определенные капиталистические государства и их блоки), то СССР всегда исходил из своего противостояния Капиталистической Системе в целом и руководствовался этим, используя одни государства против других. Межгосударственные отношения были для СССР средством и элементом социосистемного противостояния, борьбы двух лагерей. И именно это новшество в подходе к международным отношениям привело СССР к ряду побед на международной арене. Можно прямо сказать: «внешнеполитически» «исторический» (некалендарный) XX в. остался за СССР. Это — констатация, безотносительно к оценке. В противостоянии Западу СССР воспринимал его как социальную систему, как качественно иной «лагерь»; Запад же воспринимал СССР скорее как некое государство, которое постоянно нарушает межгосударственный кодекс поведения Капиталистической Системы. В соответствии с логикой межгосударственной: системы капитализма так оно и было. Однако в соответствии с логикой коммунистической системы, которая есть отрицание только капитализма, но и государственности, СССР ничего не нарушал. Эта работа посвящена не социальной природе коммунизма — не только неклассовой и антиклассовой, но также негосударственной и антигосударственной, однако несколько слов сказать необходимо, иначе не будут ясны некоторые выводы. То, что называют «государством» в СССР, не являлось таковым в строгом, научном смысле слова. Это «государство» было не просто главным собственником, но вообще единственным (о колхозной «собственности» как особой могли говорить лишь «идеологи режима»). Собственность совпадала с властью, растворялась в ней. Перед нами — властесобственность, точнее — такая форма присвоения общественного продукта, в которой властная и собственническая функции не обособились из единого присваивающего целого, из единого, социально однородного процесса присвоения. Государство есть форма социального насилия, обособленного от производственных отношений и вынесенного за их рамки. Государство возникает на основе взаимообособления власти и собственности (государственности и классовости). Государство и класс (и, естественно, государство и капитал) суть две стороны одной реальности. Отрицание классовости и капитализма автоматически означает отрицание государственности, государства как формы организации власти и требует принципиально иной (негосударственной, антигосударственной) властной организации. Аналогичным образом, при коммунизме невозможна бюрократия. Бюрократ есть персонификатор политико-административной власти, обособившейся от собственности и от прочих форм власти — экономической, идеологической. Если перед нами такой социальный агент, который обладает, во-первых, не только государственно-политической, но также экономической и идеологической властью; во-вторых, обладает ими не как суммой, а как социально-однородным, гомогенным властным целым, как властью-насилием, то это кто угодно, но не бюрократ. Бюрократия (как классы, государство и политика) при коммунизме исключается по определению. Нормальное функционирование коммунистической системы есть, помимо прочего, воспроизводство отрицания государственности в качестве принципа организации власти и ценности — как внутри, так и вне этой системы. Антикапитализм, короче, есть не только антиклассовость, но и антигосударственность. Стряхнув «классовые привески» с государства в 1917 г., коммунизм уничтожил и само государство, которое без классов превращается в иную форму властной (присваивающей) организации. Постоянное давление СССР (коммунизма) на Запад (капитализм) было естественным для СССР способом существования, а не какой-то внешней политикой. Коммунизм как система, содержательно отрицая государственность,[42] вообще устраняет различие между внутренней и внешней сферами. Внешняя политика СССР, точнее, внешний аспект функционирования коммунистического порядка, — это качественно иное явление, чем внешняя политика буржуазных государств, как по содержанию, так и по целям. Международные отношения для коммунизма, для СССР — не просто внешняя политика. Это — внешний аспект процесса отрицания капитализма. Ведь даже в Конституции СССР 1977 г. говорилось о том, что главная задача советского правительства заключается в укреплении позиций мирового социализма посредством поддержки «борьбы народов за национальное освобождение и социальный прогресс». Короче, в перспективе — за торжество коммунистического строя. Даже последняя по счету Конституция вменяла правительству СССР борьбу за коммунизм во всем мире — так, будто бы советское правительство было мировым, надгосударственным. То, что именуют «коммунистическим экспансионизмом», по своим целям существенно отличается от экспансий и докапиталистических империй (дань, контроль над торговыми путями), и капиталистических стран XIX в. (колонии, вывоз капитала, усиление неравномерности развития), и нацистского рейха XX в. (господство немецкой нации и немецкого капитала над миром). Целью коммунистической экспансии была коммунизация мира, т. е. «выравнивание» мира по линии организации власти и собственности: весь мир должен был стать качественно однородным в социальном отношении. И это — не злой умысел лениных-троцких-сталиных, а логика развития системы, отрицающей капитализм, единственно нормальный для нее способ функционирования. По сути, поведение СССР на внешнеполитической арене было поведением не столько государства, сколько качественно иного типа властной организации, лихо комбинирующего в своей деятельности как государственные (внешне), так и антигосударственные шаги, проводя антигосударственные меры в государственной форме — и наоборот. Это систематическое нарушение правил часто ставило в тупик западных политиков, привыкших к определенным правилам, ставило в тупик и в мелочах, и в серьезных ситуациях. Вот как рассказывал о «мелочах» Н.Бухарин: «Сижу я частенько в кабинете Чичерина… Пугнем, говорю, Францию… Пусти-ка по прямому ноту в Варшаву!.. И Чичерин пугает… Мы-то с Чичериным хохочем, а из Варшавы, устами французских империалистов летит к нам по радио встревоженный и серьезный ответ… Мы, значит, в шутку, а они всерьез!.. Мы для забавы, а они за головы хватаются, и пупы у них дрожат!.. А что наш Красин в Лондоне выделывает! — заливался Бухарин, — Чудеса да и только!.. Англичане и во сне видят наши леса, нашу нефть, нашу руду и наш Урал… Международные политики, товарищи, — перешел на серьезный тон Бухарин, — в годы большого исторического сдвига, проделанного Российской Коммунистической Партией, оказались неподготовленными к тем формам дипломатии, которые выдвинул наш Ильич и которые так исчерпывающе полно и тонко схватил и понял наш Чичерин, хотя тоже старый царский дипломат… Вся ошибка и самое страшное для мировых дипломатов это то, что мы говорим определенным языком, и слово «да» на языке нашей коммунистической дипломатии означает исключительно положительную сторону дела, т. е. чистое утверждающее событие «да»; они же, выжившие из ума мировые дипломаты, в нашем открытом «да» ищут каких-то несуществующих в нем оттенков уклончивости, отрицания, и до глупого, до смешного бродят меж трех сосен… Вся, товарищи, суть дипломатии заключается в том, что кто кого околпачит!.. Сейчас, товарищи, мы колпачим!.. Может быть, настанет час, когда и нас будут колпачить, но сейчас, товарищи, повторяю, мы колпачим всю Европу!.. весь мир!., и на седой голове Ллойд Джорджа красуется невидимый для мира, но видимый нам, большой остроконечный колпак, возложенный нашими славными товарищами, Красиным, Литвиновым и Чичериным…».[43] Бухарин не скрывает, что Советская Россия ведет себя не как государство и не в соответствии с межгосударственным кодексом поведения. Более того, Англия, Франция и т. д. для большевиков — не государства, а другая — наднациональная и внегосударственная — социальная система. Система-враг, которую нужно колпачить всегда. Колпачили и в более серьезных делах, вызывая удивление, например после ялтинской конференции, когда Запад ожидал одно, а получал совсем другое. Аналогичной неожиданностью были действия СССР в Анголе, а затем в Афганистане, подорвавшие детант. Примеры можно множить. В течение всей истории отношений с СССР Запад постоянно приспосабливался к СССР, к его «правилам» поведения на международной арене. Это приспособление было единственным мирным способом иметь дело с СССР. С этой точки зрения история отношений между Западом и СССР с 20-х до середины 80-х годов может рассматриваться как постоянные уступки, отступление Запада, принятие им советских условий, постоянный проигрыш в Холодной войне. Шаг влево, шаг вправо от Холодной войны — либо к угрозе войны «горячей», либо к миру без Холодной войны — были чреваты для СССР поражением. Карибский кризис, с одной стороны, и последнее десятилетие — с другой, наглядно об этом свидетельствуют. Похоже, многие на Западе так и не поняли, что имели дело не с «плохим государством», а с социальной системой, для которой государственность и связанные с ней нормы и правила суть черты и ограничения, чуждые природе этой системы. Поэтому каждый договор с СССР, соглашение, даже сам факт переговоров того или иного капиталистического государства с ним, направленный на создание более безопасного мира, с одной стороны, объективно вел к усилению коммунистического порядка в мире, а с другой — создавал серьезные политические и идеологические проблемы для буржуазных государств. Движения на Западе за мир, против ядерного оружия, направленные против собственных правительств, были важным фактором для СССР в Холодной войне. В Советском Союзе во время афганской войны не было антивоенного движения, хотя бы отдаленно напоминавшего движение в США против войны во Вьетнаме. И дело не только в безразличии и апатии населения в одном случае, и его активности — в другом (хотя и в этом тоже). Главное, полагаю, в другом — в том, что внешняя политика традиционно воспринималась в СССР как «противостояние империализму» со всеми вытекающими отсюда последствиями. В коммунистической системе не было никаких иных ценностей, кроме власти, кроме самой системы, ее самовоспроизводства. Любая политика, тем более проводившаяся «во враждебном окружении», направленная на укрепление системы и означавшая ее выигрыш, принималась. Многие вещи поэтому не надо было скрывать, они не вызывали осуждения. Все рассматривалось сквозь классовую призму, и никаких общечеловеческих, абстрактных ценностей, «абстрактного гуманизма». На Западе же в господствующей либеральной идеологии имелся целый ряд постулатов, принципов и официально провозглашенных ценностей (свобода, права человека, ценность личности и т. д.), которые объявлялись общечеловеческими, универсальными и в соответствии с которыми официально оценивались внутренняя и внешняя деятельность системы. В результате многое приходилось скрывать (но нет ничего тайного, что не стало бы явным), прибегать к общественной лжи (которую можно разоблачить по причине идеалов или из-за денег). Вот как говорит об этом в одном из своих последних романов «Тайный пилигрим» писатель Джон Ле Карре устами своего героя Смайли: «…самое вульгарное в Холодной войне — это то, как мы научились заглатывать собственную пропаганду… Я не хочу заниматься дидактикой, и конечно же мы делали это (глотали собственную пропаганду. — А.Ф.) в течение всей нашей истории. Но когда в ходе Холодной войны лгали наши враги, они лгали, чтобы скрыть гнусный характер их системы. Тогда как, когда мы лгали, мы лгали, чтобы скрыть наши добродетели. Даже от самих себя. Мы скрывали как раз то, что создавало нашу правоту. Наше уважение к личности, нашу любовь к разнообразию и спорам… В нашей предполагаемой честности наше сострадание мы принесли в жертву великому богу безразличия. Мы защищали сильных против слабых, мы совершенствовали искусство общественной лжи. Мы делали врагов из достойных уважения реформаторов и друзей — из самых отвратительных властителей. И мы едва ли остановились, чтобы спросить себя: сколько еще мы можем защищать наше общество такими средствами, оставаясь таким обществом, которое стоит защищать».[44] Разумеется, Ле Карре идеализирует западную ситуацию. Но он прав в том смысле, что для буржуазных государств противостояние СССР, Холодная война представляли, под определенным углом зрения, значительно более серьезную проблему, чем противостояние Западу — для СССР. Здесь не было общечеловеческих ценностей и морали, к которым, пусть нередко фальшиво и в пропагандистских целях, вынуждены были прибегать либеральные диктатуры (они же — демократии) среднего класса на Западе. Любое нарушение Западом своих же принципов вело к пропагандистским ударам со стороны СССР по слабым или обнажившимся точкам. А вот коммунистическая система так подставиться не могла. Какие-такие общечеловеческие ценности? Гуманизм бывает только классовый. Буржуазные государства? Нет, «сообщество международных бандитов» — империалистов, эксплуататоров и угнетателей, мы им покажем «кузькину мать». Поэтому повороты во внешней политике и объяснять не надо. Повороты — естественны: «С волками жить — по-волчьи выть». Вот это и есть классовая ценность. Поэтому: вчера — «мутная волна фашизма захлестывает Европу», а сегодня — «доблестная германская авиация бомбит Варшаву». Вчера: Тито — злодей, «фашистская собака». Сегодня: Тито — друг, извини, что собакой рисовали. «Злодей в том виноват, чтоб ему, поганцу, в ад!» Вчера: Сиад Барре — лучший друг СССР. А сегодня уже нет: страшно далек он от СССР и от трудящихся собственной страны, зато нам близок и дорог Менгисту Хайле Мариам, который поведет эфиопский народ к высотам коммунизма прямо от гноища, минуя все другие «измы». Подобные повороты и развороты не вызвали в коммунистическом социуме тех идейно-политических проблем, которые могли возникнуть в таких случаях на Западе. И это лишнее свидетельство тому, что Холодная война была особым явлением в мире XX в. Не следует упускать из виду и то, какие возможности для укрепления власти и социального контроля предоставляла Холодная война господствующим группам коммунистического порядка. Я далек от мысли, что СССР только выиграл от Холодной войны (все зависит от угла зрения) и что только СССР выиграл от нее. Капитализму, особенно в США, как показывают Д.Дедни и Дж. Айкенбери, Холодная война очень помогла в модернизации многих социально-экономических структур, развитию региональной интеграции, выработке социального компромисса, усилению исполнительной власти и многому другому, что ныне, после окончания Холодной войны, утратило прежнюю основу.[45] И все же Холодная война была триумфом СССР и коммунизма. По самому принципу организации Холодная война была сконструирована так, что преимущество в ней — по определению — имел СССР, коммунистический порядок. LXIIIХолодная война — это единственно возможная форма мирной взаимоадаптации, мирных отношений не просто между разнокачественными, но диаметрально противоположными по содержанию системами, системами-антагонистами, одна из которых ведет себя как буржуазное государство в межгосударственной системе, а другая — и как государство — формальный член этой системы, и как некая целостность, отрицающая и эту систему, и государственность одновременно. В отсутствие мировой пролетарской революции и в условиях строительства социализма в одной стране СССР должен был вести дела с капиталистическими государствами, участвовать в системе межгосударственных отношений. Полная автаркия была невозможна, в результате Капиталистическая Система навязывала коммунизму, по крайней мере во внешнем его функционировании, принятие такой формы — государственной, — которая была ему чуждой, ограничивала извне нормальные проявления его социальной природы. Не случайно, что если и были у коммунистического порядка черты, внешне напоминавшие государственность, то это результат необходимости приспосабливаться к такому миру, базовой единицей организации которого является государство как функция капитала. Холодная война была, помимо прочего, снятием противоречия между негосударственным, кратократическим характером коммунистического строя и необходимостью иметь государствоподобные органы для участия в мировой системе. Поворачиваясь лицом к последней, Центроверх СССР принимал облик государства. Посредством Холодной войны коммунизм снимал противоречие между социосистемным аспектом своего бытия, бытия в качестве антикапиталистической системы, антимира Капиталистической Системы, с одной стороны, и государственно-геополитическим аспектом своего бытия, функционирования в качестве государственно-геополитического элемента Капиталистической Системы (международной системы государств) — с другой. В этом смысле Холодная война началась не в 1946 г. действиями СССР в Иране и фултонской речью Черчилля в ответ, а в 1917 г. Только вот на Западе, за довольно редкими исключениями трезвых и проницательных наблюдателей, это заметили как следует с 29-летним опозданием и то по контрасту с периодом 1941–1943 гг. В тот период СССР был вынужден в значительно большей степени, чем обычно, вести себя в соответствии с государственно-геополитической логикой. Однако уже в 1944–1945 гг. СССР опять показывает «социосистемные зубы», и «дядя Джо» сразу превращается в кого-то, похожего на Фредди Крюгера. Однако, несмотря на демонстрацию оскала (впрочем, Запад тоже не улыбался, отнюдь нет), СССР с 1945 по 1985 г. шел от победы к победе в международных отношениях. Ну а 1975 г. — так это просто триумф внешнеполитической деятельности КПСС, триумф, победа Холодной войны. Нашей Холодной войны. Да-да, Холодной войны. Хельсинкского соглашения можно было добиться только на ее основе, а детант — лишь мягкая и временная (уже 1976–1979 гг. это хорошо показали) форма самой Холодной войны. Холодная война была мягким, точнее, внешне смягченным отрицанием коммунизма и капитализма, и государственности, и международной формы организации последней с ее принципами. Вроде не мир, но вроде и не война, а так… Зато власть коммунистическая. Ныне принято иронизировать над «брестской формулой» Троцкого «ни мира, ни войны, а правительство рабочее». А зря. Троцкий ad hoc, к случаю сформулировал суть того, что впоследствии в качестве общего явления назвали Холодной войной. Причем если до 1945 г. Холодная война рассматривалась у нас как подготовка к «горячей войне» и коммунизации мира, к созданию «Земшарной Республики», то с окончанием мировой войны 1939–1945 гг., развеявшей Великую Мировую Коммунистическую Мечту (победа СССР стала поражением коммунизма, геополитическая победа — социосистемным поражением), Холодная война стала повседневно-прагматической, центр тяжести сместился на настоящее. Холодная война — так и больше никак нельзя было добиться сосуществования между системой капитала и системой его негативной функции, между двумя зарядами и двумя массами — положительной и отрицательной. При этом в рамках «мягкого отрицания» не только шла борьба, но и развивалось сотрудничество, особенно скрытое, например, по линии спецслужб, одной рукой душивших друг друга, а другой — помогавших друг другу. С этой точки зрения, Холодная война — единство борьбы и кооперации коммунистической и капиталистической систем. В рамках этого единства, однако, формула «ни мира, ни войны» позволяла легко переходить от мира к войне и наоборот, не называя ни то, ни другое по имени или даже называя «войну — миром», а «мир — войной». Различие снималось в понятиях «классовая борьба в мире», «борьба за социализм во всем мире», «классовый принцип в международных отношениях». Задолго до того, как на Западе придумали поэтический, «снежнокоролевный» образ «Холодная война», большевики, по сути, уже вовсю пользовались им, но не дословно и не как метафорой, а в качестве тех понятий, которые названы выше («классовая борьба в мировом масштабе» и пр.). «А правительство — рабочее», т. е. «а власть — коммунистическая» — вот что позволяло «ни мира» превращаться в «ни войны» и наоборот. У вас мир? Извиняйте, а мы воюем. Ну-ка, Чичерин, отбей им телеграмму. Воюем за социальный прогресс и справедливость, за прекращение эксплуатации человека человеком, «за то, чтоб землю в Гренаде крестьянам отдать». Потом, конечно, крестьян надо будет раскулачить и к стенке поставить, но это потом. «Морды будем бить потом, я вина хочу». Упоенья вином классовых битв и побед. Вы воюете? А мы — нет. Караул. Империалистическая агрессия. А мы мирные люди (с бронепоездом на запасном пути). Мы — за мирное сосуществование. Буржуины наступают! Да здравствует международная солидарность трудящихся! Люди доброй воли, братья и сестры! Помогите! «На бой кровавый, святой и правый». Холодная война была такой властной технологией, которая позволяла коммунизму в межгосударственных отношениях вести себя как антигосударству, как антикапиталистической социальной системе, в то время как контрагенты вели себя как прежде всего государства. Более того, она позволяла СССР требовать от них такого поведения, апеллируя к провозглашаемым самим же Западом целям и ценностям и противопоставляя им его реальное поведение на мировой арене. Все это не значит, что те, кто противостоял СССР на международной арене, были агнцами, а СССР — «империей зла». Pas du tout. Советскому Союзу — советская пропаганда в данном случае была права — 74 года противостояли «империалистические волки», стремившиеся к господству над миром, рвавшие — с волчьей жестокостью — слабых и нарушавшие правила всякий раз, когда это было возможно: закон силы — вот, если смотреть в корень, закон международных отношений, которые суть прежде всего борьба. Но, во-первых, «империалисты» нарушали правила в значительно более узком — государственном — «коридоре», чем СССР. К такой ограниченности вынуждала их сама природа капитализма, особенности и логика функционирования его политической и международной организаций. СССР же, не связанный жестко принципами государственности, обладал значительно большим пространством для маневра в «околпачивании» противника. Во-вторых, зона нарушения «государственных правил» Западом ограничивалась наличием внеположенных государству как институту других институтов, ценностей и идеологии. Государство на Западе должно было скрывать и от населения, и от других государств, и часто от самого себя, что оно нарушает правила, а коммунизм не должен был.[46] Он эти правила принимал, и то формально, лишь на международной арене, но не внутри страны, где социально однородной власти (кратократин) не противостояли никакие внеположенные ей формы (институты, ценности) или субъекты. Коммунизм довел моносубъектность Русской Системы до логического завершения, и это наряду с другим стало одной из основ успехов СССР в борьбе с Западом. Скажем так: исторически брать систематически верх над Западом Россия смогла только в форме коммунизма, посредством Холодной войны. За многовековую историю отношений с Западом Россия не знала столь длительного победоносного периода. Холодная война — это стратегия двойного захвата там, где разрешены лишь просто захваты. Эта игра в двух лицах или в двух масках, там, где приняты только одни лица без масок. Запад не имел никаких шансов победить коммунизм в Холодной войне ввиду беспроигрышности этой стратегии. (Коммунистический) Ноздрев не может в принципе проиграть (капиталистическому) Чичикову. Но отметим и другую сторону: успехи СССР в «околпачивании», выражаясь языком любимца партии Н.Бухарина, достигались в результате действий СССР в рамках межгосударственной системы капитализма. И если в Холодной войне главным образом буржуазные государства вынуждены были приспосабливаться к СССР, то сама Холодная война была формой приспособления, адаптации прежде всего СССР к государственным принципам международной организации капитализма. Это значит, что если исторически, как процесс, Холодная война была победой коммунизма, то метаисторически, как само явление, Холодная война означала победу принципов капиталистической организации мировой системы в мировом масштабе. Капиталистическая Система была сильна, а коммунизм был столь органичным ее антиэлементом, что она смогла навязать ему государственно-геополитическую логику поведения. Да, в рамках этой логики СССР «колпачил» Запад, но он был вынужден подчиниться этой логике, принять ее рамки, действовать внутри них. И еще в одном наглядно проявилась вся принудительная мощь государственно-геополитических законов и логики Капиталистической Системы, заставивших СССР в мировой войне 1939–1945 гг. руководствоваться тем же выбором, которым руководствовалась Россия в XVIII–XIX вв., участвуя в мировых войнах: после двух лет (1939–1941) косвенного участия в войне на стороне Германии, в 1941 г. СССР оказался по другую сторону «мировых баррикад». И это вовсе не стечение обстоятельств, не случайность — «если бы Гитлер не напал». В 1941 г. государственно-геополитическая 250-летняя инерция и логика Капиталистической Системы, по которой Германия и Россия независимо от их строя в войнах за гегемонию в мировой экономике, в мировой системе не могут находиться в одном лагере, переломили 25-летнюю социосистемную, антисистемную логику поведения СССР. LXIVИсторически Россия играла особую роль в мировой, межгосударственной системе, в мировых войнах Капиталистической Системы — по крайней мере с середины XVIII в. Я не оговорился, связав мировые войны и XVIII в. Называя войны 1914–1918 и 1939–1945 гг. первой и второй мировой, т. е. подчеркивая тем самым, что до XX столетия мировых войн будто бы не было, мы, люди XX в., проявляем и близорукость, и излишнюю самоуверенность. На самом деле, первой мировой войной капиталистической эпохи, капиталистической мир-экономики, или по крайней мере войной на заре этой эпохи и этой мир-экономики, была Тридцатилетняя воина. С ней и в ней появилась на свет Капиталистическая Система. «Четырехступенчатая» Тридцатилетняя война (1618–1648) была финальным аккордом Великой капиталистической революции (1517–1648), а Вестфальский мир (1648) в сфере политики специфическим образом реализовал то, за что в 1517 г. начинал бороться «старик Мартин», за что он готов был греметь кандалами. Если Тридцатилетняя война была первой мировой войной скорее по содержанию, а по форме «европейской», то Семилетняя война (1756–1763) была уже и по форме мировой, глобальной (Европа, Индия, Америка), охватив огромную территорию от форта Тикандероги и Квебека в Северной Америке и Кунерсдорфа — в Европе до Плесси и Манилы — в Азии. Да и долгосрочные последствия ее носили мировой характер (революции в Америке и во Франции, изменения в политике англичан в Индии). Мировой войной были и «тридцатилетние» наполеоновские войны (1792–1815). Из тех пяти (пяти, если не считать мировую Холодную войну, которая велась почти на каждом квадратном сантиметре земного шара) мировых войн, которые сотрясали Капиталистическую Систему в течение четырех с половиной столетий ее существования, сотрясали и стимулировали — фантастически — ее развитие (в войнах обкатывались многие формы будущего мирного развития социального, экономического, политического), Россия косвенно участвовала только в одной, cамой ранней, генетической, а потому во многих отношениях нетипичной — Тридцатилетней (Смоленская война 1630–1632 гг., окончившаяся для России поражением от поляков под Смоленском). Зато в остальных четырех Россия участвовала прямо, непосредственно, а в трех последних к тому же и главный театр военных действий находился на ее территории. Как часто об этом забывают историки — и отечественные, и западные! Многие ученые, представители различных подходов к изучению международных отношений, циклов политического и военного лидерства, циклов гегемонии в современной мир-системе рисуют следующую — разными красками, с разными деталями, но в целом одну и ту же — картину. В борьбе за гегемонию в Капиталистической Системе морская держава (sea power) всегда побеждала континентальную державу (land power). Так, Великобритания дважды победила Францию, США — дважды победили Германию. Часто, прежде всего в работах представителей мир-системного анализа, особо подчеркивается роль бывшего гегемона, который каждый раз, как исторически оказывалось, выступает на стороне будущего гегемона, помогая склонить чашу весов гегемонии на его сторону. Так, Голландия выступала на стороне Великобритании против Франции, а Великобритания — на стороне США в борьбе против Германии. Короче, союз морских держав побеждает континентальную державу или союз континентальных держав. Не будем сейчас цепляться к деталям и фактам (США — в той же мере морская держава, что и континентальная, а Япония, например, — морская). В данном контексте значительно важнее логика. И логика эта напоминает мне один анекдот. Муж приходит домой и сообщает жене, что его, еще утром простого инженера, днем назначили министром и с завтрашнего дня он приступает к исполнению обязанностей. Перед сном жена говорит мужу: «Слушай, тебе фантастически везет! Ты, простой инженер, спишь с женой министра». Схема «морская держава», которая побивает континентальную и становится Новым гегемоном, напоминает мне логику «жены министра». Дело в том, что никогда никакая морская держава сама по себе не наносила поражение сухопутному, континентальному претенденту на гегемонию. Такие победы — иллюзия и вымысел. Их не было. Что, это англичане и голландцы нанесли поражение Наполеону? Что это англичане и американцы в 1914–1915 гг. так врезали Австро-Венгрии и Германии, что первая по сути была выбита из войны и из Истории — фактически с одного удара, словно по принципу каратэ, а вторая вынуждена была стянуть все силы на Восточный фронт, оставив перманентно ситуацию на Западном фронте без перемен? Что, это американцы и англичане разгромили Гитлера? Даже ослабленные, подорванные немецкие армии — две танковые и одна обычная — хорошо показали в 1944 г. в Арденнах американцам, кто и как умеет воевать. Сухопутного претендента на господство в Капиталистической Системе, в капиталистической мир-экономике побеждал не союз двух морских держав, здоровой и инвалида, а всегда союз морской державы и сухопутной, континентальной. И этой сухопутной державой в мировых войнах всегда бывала Россия. Именно ее масса — людская, физическая, пространственная — и решала исход войн. Для России выбор в качестве союзника морского, а не сухопутного претендента на роль гегемона был логичен. Поскольку она не была столь плотно интегрирована в капиталистическую мир-экономику и сама была сухопутным государством, то для нее сухопутный претендент представлял большую угрозу, чем морской, с которым она не входила в непосредственное соприкосновение. Поразительно, но факт: в войнах за то, кто будет гегемоном в Капиталистической Системе, в ее экономике именно Россия/СССР — некапиталистическая или даже антикапиталистическая страна — становилась определяющим победу фактором, а сами войны велись на ее территории, на ее пространстве — внекапиталистическом! Выходит, у капитализма нет или не хватает своего пространства для своих мировых войн? В любом случае опять получается, что антикапиталисты страдают от «язв капитала» больше, чем сами капиталисты. И вдруг в 1939 г. ломается почти 200-летняя геополитическая логика, геополитическая привычка. Глупость? Ошибка Сталина, якобы поверившего Гитлеру? Конечно же, нет. Смена выбора понятна и по-своему логична. СССР начинает руководствоваться не великодержавной евразийской геополитической логикой, а логикой мировой, социосистемной, логикой мирового противостояния двух систем. И с точки зрения этой логики — антикапиталистической, антисистемной, надо способствовать тому, чтобы Германия начала войну и ослабила Капиталистическую Систему в целом (и себя, и противников), чтобы стала слепым агентом (или ледоколом) коммунистической экспансии. Конечно же прав в главном В.Суворов, находящийся сейчас под огнем критики как западных советологов, так и ряда историков в России, прав в том, что Сталин собирался нанести удар по Германии — должен был это сделать по логике развитии Антикапиталистической (мир-)системы. Здесь не место обсуждать «Ледокол» В.Суворова, его концепцию, но, полагаю, критикам этого автора следовало бы ознакомиться с работой Клайна Бёртона. «Общая картина немецкой военной экономики… — пишет он, — не похожа на экономику страны, нацеленной на тотальную войну. Это скорее экономика, мобилизованная для ведения сравнительно малых и локализованных войн и впоследствии реагировавшая на военные события только после того, как они становились непреложными фактами… Для войны с Россией подготовка была более тщательной, но и она прошла почти без напряжения экономики… Вскоре после нападения выпуск некоторых важных типов снаряжения был сокращен в предвидении того, что война скоро окончится… Руководство немецкой военной экономикой было далеко не безупречным. Великобритания и Соединенные Штаты действовали гораздо быстрее…».[47] Дж. Гэлбрейт, по работе которого я процитировал Клайна Бёртона, согласен с выводами последнего и подчеркивает, что вопреки распространенному мнению именно Великобритания была в 1940–1941 гг. натянутой военной струной, а не Германия, где даже в 1941–1944 гг. не видели необходимости и в жертвах в области гражданского потребления. В 1940 г. при экономике с общим объемом производства примерно на 30 % меньшим, чем у Германии, англичане выпускали больше самолетов, почти столько же танков и гораздо больше других бронированных машин. В 1941 г. английское военное производство далеко превосходило производство Германии почти по всем показателям.[48] Это — серьезная информация к размышлению об истоках войны в Европе, о причинах и корнях ее превращения в мировую. Даже если бы не было никаких фактов, к «ледокольному» выводу можно было бы прийти дедуктивно, исходя из логики функционирования, логики нормального развития коммунистического порядка как системы с универсалистскими претензиями. Два года континентальная держава СССР косвенно участвует в мировой войне на стороне другой континентальной державы — Германии. И вдруг в 1941 г. социосистемная логика исчезает. В данном случае — по результату — значения не имеет, почему это произошло, то ли Гитлер решил упредить Сталина, то ли надумал обеспечить тыл (впрочем, вне краткосрочной перспективы это одно и то же). 1941 г. был переломным в последней мировой войне: он выправил ее в соответствии с традиционной для мировой Капиталистической Системы геополитической логикой, по которой Германия и Россия, независимо от социально-экономического строя, не могут находиться в одном лагере. Я бы сказал, 1941 г. в значительной степени изменил природу последней мировой войны, устранив из нее, по крайней мере на 1941–1943 гг., социосистемный аспект, аспект противостояния двух систем. Подчеркну то, что мне кажется самым важным, диалектичным в переломе: мобилизовать государственно-геополитические силы, напрячь их и заставить коммунизм играть по геополитическим законам Капиталистической Системы, а не по его социосистемным законам, капитализм — был принужден самим коммунизмом, его социосистемным давлением. Причем в этом принуждении, в своих социосистемных планах коммунизм использовал капиталистические законы геополитики и борьбы за гегемонию в мир-экономике! Получилось так, что социосистемная логика коммунизма, которая вела его к глобальной войне за мировую коммунизацию, заставила его геополитически использовать одни капиталистические государства против других. Вступив на этот путь, СССР как коммунистический лагерь вскоре оказался вовлеченным в некую игру и был поставлен перед выбором между одной коалицией государств и другой. Независимо от выбора, это был императив (меж) государственного, а не социосистемного поведения. По крайней мере — в краткосрочной перспективе. Вышел чет — нечет: антикапиталистический социосистемный вызов — капиталистический межгосударственный ответ — антикапиталистический межгосударственный контрответ. Empire strikes back, и воистину все смешалось в капиталистическо-коммунистическом доме. По крайней мере в 1941–1943/45 гг. Таким образом, социосистемный натиск коммунизма был отражен капитализмом и на какой-то миг — но очень важный, решающий для капитализма — трансформирован в государственно-геополитический импульс коммунизма. Нападение Гитлера, спровоцированное угрозой ли коммунистического нашествия, страхом ли перед ним — в данном случае, повторю, значения не имеет, — заставило СССР отказаться от замысла глобальной войны миров и систем и удовольствоваться участием в более скромном, внутримир-экономическом пожаре в качестве одного из государств. Великий перелом совершился. Ирония исторической судьбы: упреждая своим нападением занесенный над ним кулак Сталина, всего антикапиталистического исполина СССР (а удар был бы нокаутирующим), Гитлер заставил СССР вернуться к российской (евразийской, мировой) геополитической логике XIX–XX вв. — к противостоянию России самой сильной континентальной державе Европы, которой с 1870 г. была Германии. Руками Гитлера капитализм заставил СССР на несколько лет стать Квазироссией и подчиниться межгосударственной военно-стратегической логике. Так обернулась сталинская мировая антикапиталистическая политика 30-х годов. Контртуш в угол! Какая изощренная «политическая (она же капиталистическая, мир-системная) эротичность»! В результате последней мировой войны в краткосрочной перспективе на Западе непосредственно выиграла прежде всего не столько система — капитализм, сколько конкретное государство — США, ставшее гегемоном капиталистической мировой экономики. Косвенно же в средне- и долгосрочной перспективе от этой гегемонии выиграл капитализм как система в целом, добившаяся колоссальных результатов и фантастического благосостояния. На Востоке ситуация оказалась более сложной. В краткосрочной перспективе победили СССР и коммунизм. В среднесрочной — коммунизм победил в региональном масштабе. В мировом же масштабе военная победа СССР и военно-политическая региональная («зонально-лагерная») победа коммунизма были поражением последнего. В том смысле, что мировой коммунизации в результате войны не произошло. Доктрина мирного сосуществования, впервые выдвинутая Маленковым в 1953 г. и подхваченная Хрущевым в 1956 г., означала признание поражения коммунизма в мировом масштабе. А во «внешней политике СССР», в Холодной войне это поражение, напротив, обернулось почти 40-летием побед — диалектика капиталистической эпохи, двухзарядного капитализма. Установив между собой связь — «железный занавес» (good fences make good neighbours) и Холодную войну, — СССР (коммунизм) и США (капитализм) установили на 40 лет контроль над миром, поделив его. Разумеется, это так вышло объективно, исторически, но обе стороны понимали выгоду ситуации (реакция Запада на события в Венгрии в 1956 г. и в Чехословакии в 1968 г., а также различие в реакциях США на Суэцкий и Карибский кризисы сверхпоказательны). Логика мировой войны в Капиталистической Системе заставила коммунистический режим действовать а соответствии с геополитической логикой Капиталистической Системы. Но как только окончилась мировая война, СССР (с Ялты) опять начинает действовать по социосистемному принципу. Запад понял это только в 1946 г. и кричит: «Холодная война». Восток же ничего не кричит. Он уже почти 30 лет ведет Холодную войну, приглушив ее на время в 1941–1943 гг. Последняя мировая война наглядно продемонстрировала, как капитализм, его «суммарно-партикуляристская» межгосударственная система, логика ее развития, ее конкуренции и конфликтов не позволили универсалистскому по своим претензиям и направленности действий коммунизму не только обрести планетарную форму, но и учинить мировой конфликт социосистемного (межсистемного) типа. Подобную попытку Капиталистическая Система интериоризировала, направив в русло борьбы за гегемонию по старинным внутрисистемным и евроазиатским геополитическим правилам, «оставив» коммунизму для социосистемного конфликта поле Холодной войны. Но — обратная связь — СССР посредством Холодной войны придал государственно-геополитическому противостоянию мировой характер, заставляя США влезать туда, куда их непосредственно вовсе не толкала экономическая или геополитическая логика (например, Вьетнам). Для СССР же естественно было внедряться и в те регионы, которые не входили непосредственно в зону традиционных экономических и геополитических интересов России (например, Куба, Ангола). Стремление противодействовать друг другу везде-везде-везде привело к тому, что СССР и США от геополитических шахмат перешли к миростратегическому эго, максимально растянув силы, что, помимо прочего, и подрывало мощь обеих сверхдержав, заставив перенапрячься. Конечно, СССР, коммунизм пали первыми. Но коммунизм — это не вся Русская Система, это одна из ее исторических структур. Падение коммунизма объективно, по логике расчищает место новой структуре Русской Системы или просто некой новой Евразийской системе. Что же касается упадка гегемонии США, то, как признают даже западные политологи и просто умные люди, нового гегемона, следующего за США, на Западе не видно. Гегемон — это то государство, которое воплощает и обеспечивает реальное единство Капиталистической Системы как мировой; капитализм может быть только мировой системой. Мировая система без гегемона невозможна. С этой точки зрения в долгосрочной перспективе упадок гегемонии США и закат функционального капитализма могут оказаться для Капиталистической Системы значительно более серьезной проблемой, чем падение коммунизма и распад СССР — для Русской. Коммунизм не стал универсально-планетарной системой в XX в. Не мог стать. И в этой неспособности и невозможности коммунизма сформировать адекватную своей негосударственной и неклассовой природе международную форму организации (смерть Коминтерна в 1943 г. показательна и символична) со всей очевидностью проявляется вторичность коммунизма по отношению к капитализму, метаисторическая заданность капитализмом, негативный функционализм по отношению к Капиталистической Системе. Как интересно получается: в XX в. коммунизм не позволил капитализму положительно охватить весь мир, мир в целом. Коммунизм навязал себя в попутчики, в подельщики. Но вот кончился коммунизм — весь мир в кармане у капитализма? Весь мир на его ладони? Капитализм «счастлив и нем»? Ан нет. Оказывается, та зона, где был коммунизм, несмотря на попытки реинтегрироваться в систему, остается если уже и не антикапиталистической, то некапиталистической, — как и то, что находится за рамками Прибрежного Пояса в Китае. Да и мир трещит по макрорегиональным швам. Капитализму впору было скандировать с коммунизмом нечто вроде: «Вместе весело шагать по просторам» (земного шара) или «Пока мы едины, мы непобедимы!» «Да здравствует Холодная война и милитаризация — залог светлого будущего двух систем». Вышло — История распорядилась — иначе. Неужели получается, что мир достиг реального единства, реально стал мир-системой лишь на краткий исторический миг 60–80-х годов, когда США и СССР контролировали «шарик» и обеспечивали порядок и когда позднеиндустриальная система производства стала превращаться в энтээровскую, т. е. в этот момент контроля и превращения? Что же получается, мир-система — это мир только на грани, на лезвии бритвы, мир в прыжке, над пропастью? Я не готов сейчас дать аргументированно утвердительный ответ на этот вопрос, но, по-видимому, это так. Капиталистическая Система не была в XX в. мировой, универсально планетарной положительно. Она охватывала мир в целом только вместе с коммунизмом, только как двойная масса положительного и отрицательного зарядов, взаимопритягивающихся и одновременно взаимоотталкивающихся посредством Холодной войны, постоянной милитаризации и т. д. LXVМилитаризацию России/СССР при ее неполной интеграции в мировую экономику Капиталистической Системы, противостояние и параллельное развитие, коэволюцию Русской и Капиталистической Систем следует рассматривать не только как русско-советскую черту, но и как особую функцию Русской Системы (а также самодержавия и коммунизма в качестве ее исторических структур), выполняемую ею (ими) в мировой системе и для капиталистической мир-экономики. Конечно, Россия могла оставаться великой державой только в качестве военного гиганта — это и в XIX в. было ясно столь разным людям, как С.Степняк-Кравчинский и Д.Милютин. И все же была в этом военном гигантизме и мировая, не собственно и не только русская функция. Война — «горячая» ли, «холодная» ли — была формой реализации этой функции. И если ныне Россия, по крайней мере по видимости, реинтегрируется (пусть уродливо и неравномерно) в мировую систему (или пытается это сделать), если она частично демилитаризуется и не выступает, не может выступать в качестве мирового балансира, в качестве Антисистемы, Антимира — как показала история, подлинно великой мировой державой Россия может быть только как Антисистема (но время такой исторической возможности похоже уходит безвозвратно), — то это означает: что-то серьезное происходит с Капиталистической Системой, в ней. Что-то случилось. Что-то сломалось или ломается. Если Россия более не нужна как балансир, как пространственно-кроваво-мясной регулятор механизма борьбы за гегемонию, то скорее всего это значит: разлаживается механизм борьбы за гегемонию, расстраивается единство мира. Парадокс: реинтеграция России в мировую систему происходит, похоже, по мере утраты этой системой характера целостно-мировой, по крайней мере, по ряду показателей. В любом случае, тот факт, что Капиталистической Системе больше не нужен такой балансир и регулятор, как Россия/СССР (как эта целостность не была ему нужна в XVII в. и не так уж была нужна в XVIII в.), наводит на вопрос: а может, и регулировать ничего больше не надо? Может, и борьба за гегемонию будет протекать теперь не так, как это было в XIX–XX вв., т. е. не с помощью некапиталистического континентального балансира-регулятора, а иначе, как в докапиталистическую и раннекапиталистическую эпохи. Ведь Тридцатилетняя война, возвестившая начало Капиталистической Эры, была мировой генетически, в интенции, суммарно (совокупность четырех европейских региональных конфликтов, объединенных, однако, некоей логикой). Капитализм вошел в Историю с мировой войной такого типа, с войной такого же типа он может из нее и выйти. А для войны типа Тридцатилетней балансир не нужен, поскольку в ней не было двух равносильных и равноценных претендентов на гегемонию, ситуация была намного более сложной. Мир XVI–XVII вв. во многих отношениях напоминает возникающий пуантилистский мир XXI в. Этому миру — не зональному, не двухлагерному, в котором нет и не может быть двух претендентов на гегемонию, — для выяснения отношений внутри себя не нужны ни балансиры, ни Холодная война. Похоже, перестают они быть нужны и сейчас. Vixerunt. Вердикт «СССР проиграл Холодную войну» стал уже стандартным, и люди даже не задумываются о том, какие тому есть доказательства. А доказательств-то нет. Король-то голый. СССР ушел из Восточной Европы? В ней, а затем в СССР рухнул коммунизм? Да. Когда? На рубеже 80–90-х годов. Но ведь в это время уже никакой Холодной войны не было. Она уже окончилась. Поражение СССР на международной арене произошло, во-первых, после окончания Холодной войны, во-вторых, вследствие этого — вследствие отказа от курса Холодной войны, исторически оказавшегося оптимальной стратегией для России в ее борьбе или, скажем так, в ее отношениях с Западом. Об этом — по негативу — свидетельствует следующее. В XX в. глобальные («мир-системные») геополитические перестройки имели место трижды: в 1917–1918, 1944–1945, 1991–1994 гг. Две первые перестройки произошли в результате «горячих» войн, в результате победы одной стороны и поражения другой. Третья глобальная геополитическая «перестройка» произошла без войны. Более того, она осуществлялась в результате отказа одной из сторон от войны — Холодной — и как «внешнее» продолжение внутренней перестройки этой стороны. При этом нынешняя глобальная перестройка международной системы не ограничивается геополитикой, а имеет к тому же геоэкономический и, как сказал И.Валлерстайн, геокультурный характер, что сближает ее с перестройкой 1917–1918 гг. и делает в чем-то более важной, чем сдвиги 1944–1945 гг. Короче говоря, отказ от Холодной войны по своим последствиям превосходит результаты мировых войн 1939–1945, и, по-видимому, даже 1914–1918 гг. В связи с этим ясно, какое значение для мира в целом и для СССР имела Холодная война. Сказанное — не ода Холодной войне и даже не ее оценка со знаком «плюс» или «минус». Не дело историка, не дело изучающего социальные системы и их отношения давать оценки такого рода. Может ли система быть злой? На этот вопрос трудно дать как утвердительный, так и отрицательный ответы; по-видимому, вопрос поставлен некорректно[49]). Аналогичным или почти аналогичным образом обстоит дело и с Холодной войной. Она была нормальной и по сути единственно возможной (с точки зрения сохранения капитализма и коммунизма как таковых) формой взаимодействия обеих систем. Если сам коммунизм был, помимо прочего, компромиссом между Русской Системой и Капиталистической Системой, то Холодная война была практическим компромиссом между капитализмом и коммунизмом. Таким компромиссом, в котором коммунизм, конечно же, не мог победить капитализм, но не мог и проиграть, при этом, однако, постоянно набирая очки. Нельзя проиграть игру, которая ведется не только на грани фола, но и за гранью, которая обеспечена комбинацией, всепобеждающим и всеобманывающим взаимопереплетением социосистемности и государственности. Нет, проиграть Холодную войну было невозможно. И СССР ее не проиграл. СССР отказался от Холодной войны, демонтировал ее. И после этого — проиграл, потерпел поражение с переходом от курса Холодной войны к курсу внешней политики. Провозгласив примат общечеловеческих ценностей над классовыми, СССР «Горбачева и его команды», оставаясь коммунистическим порядком внутри, на международной арене повел себя как государство, повел в соответствии с государственно-геополитической логикой. И вот в этом-то качестве СССР немедленно потерпел поражение на мировой арене. Так, как терпел поражение Запад в 70-е, когда проводил политику детанта, т. е. когда Запад изменил внешнюю политику, а СССР лишь видоизменил холодную войну. О том, что это было лишь видоизменение, что понимание Советским Союзом детанта принципиально отличалось oт понимания его Западом, свидетельствует тот факт, что даже в самый разгар разрядки никто в СССР не отменял идеологическую войну — эвфемизм, адекватный по сути Холодной войне. Идеологическая война была у нас больше, чем просто идеологическая. Это хорошая русская традиция. У нас почти все явления меньше или больше (а иногда то и другое одновременно), чем означает их название («Поэт в России больше, чем поэт».[50] Понимание детанта как продолжения Холодной войны в новых условиях и иными средствами стало очевидным после Анголы и особенно Афганистана. Эти акции привели Запад к отказу от детанта. В известном смысле победа Запада на рубеже 80–90-х годов стала своеобразным реваншем Запада за поражение в детанте. Но вернемся к Горбачеву. Он полагал, что можно сохранить коммунизм и позиции СССР как великой державы, отказавшись от Холодной войны и отдав Восточную Европу. Он не понял, что «холодновойновость» есть важнейший интегральный элемент, а может, и условие сохранения статуса СССР как великой мировой (а, например, не региональной) державы. Горбачев, стремясь сохранить коммунизм как систему внутри страны, заставил его функционировать на международной арене только как государство. Двухмоторный самолет, который и выигрывал за счет своей двухмоторности, он заставил летать на одном моторе. Результат всем известен. И нечего здесь ссылаться на то, что Холодную войну следовало прекратить потому, что мы проигрывали гонку вооружений. Хрен с ними, с вооружениями. Холодную войну можно продолжать даже в том случае, если противник может уничтожить тебя 100 раз, а ты его — только один. 99 раз можно подарить противнику по широте душевной — по русской широте. Дело не в гонке вооружений, а в лихорадочных попытках спасти коммунизм внутри страны, жертвуя «окраинами империи» и стремясь заручиться капиталистической помощью. Можно ли было реформировать коммунизм, сохранив Холодную войну хотя бы в смятенном виде, или, точнее ее элементы — таким образом, чтобы посткоммунистическая Россия смогла воспользоваться хоть чем-то из «внешнего» наследия коммунизма, чтобы у посткоммунистической России оказалось значительно меньше утрат и проколов? Сохранить в «отдельно взятом Зазеркалье» капитализма элементы Холодной войны — без коммунизма — как улыбку Чеширского кота без самого кота? Понятно, что Холодная война неотделима от коммунизма, но нельзя ли было продлить ее уход, растянуть улыбку? «Продлись мгновенье», ты хоть и не прекрасно, но нужно нам. Во-первых, коммунизм реформировать нельзя — и потому что он не реформируем по природе (его можно только сломать), и потому что система уже умирала. Как проводить реформы в умирающей системе? Это все равно что давать отходящему аспирин и радоваться, что тот потеет. Реформы умирающих систем (и в них) лишь ускоряют конец этих систем вопреки стремлению реформаторов. Горбачев в гибель коммунизма не верил, не хотел верить, боялся этого, а потому готов был демонтировать все, что казалось ему второстепенным и внешним, например внешнюю политику. Это было ошибкой. В коммунизме нет второстепенного и нет внешней политики. Есть единство властно-производственной системы, интегральная внешняя функция этого единства — Холодная война. Можно сказать, что Холодная война в коммунистической системе занимает ту нишу, которую в иных системах занимает внешняя политика, и война эта как средство всегда сильнее такого средства, как внешняя политика. Для того чтобы попытаться использовать наследие Холодной войны, для того чтобы не утратить международные позиции в период общественной трансформации, задача должна была ставиться иначе, чем она была поставлена: не улучшать отношения с Западом для спасения коммунизма, не утеплять их сразу, а медленно, очень медленно повышать температуру, перестраивая коммунизм в новую структуру Русской Власти и Русской Системы. Но для такой постановки как даже задачи теоретической необходимы понимание ситуации, социальный ум и политическая воля. В СССР персонификаторов этих качеств не нашлось. В посткоммунистической России могла быть поставлена практическая задача медленного, отвечающего интересам России демонтажа Холодной войны — так, чтобы получить за этот процесс дороже, не уронить престиж и хотя бы частично компенсировать негативные эффекты ее прекращения. Иными словами, плавно и неспешно, с достоинством перевести Холодную войну если не в Холодный, то в Прохладный мир, сохраняющий дистанцию между нами и Западом и не позволяющий Западу, у которого пропал страх, уж слишком откровенно расслабляться и демонстрировать снисходительно-неуважительное отношение к России. Разумеется, такой курс требовал виртуозно тонкой и одновременно жесткой политики, проводников которой, как и мастеров геополитического дирижирования, не нашлось. К тому же в постперестроечной России, как и в перестроечном СССР, главные протагонисты властной драмы слишком спешили заручиться поддержкой Запада и, похоже, не успели подумать о возможности плавного перевода войны в мир, не покидая «умеренных широт» мировой политики. В любом случае, Холодный мир, особенно учитывая нынешнюю позицию Запада по ряду важнейших вопросов, может оказаться оптимальным вариантом внешней политики России. Впрочем, так часто бывало в периоды Русских Смут. Однако в ходе нынешней Смуты следует особо учитывать и еще один момент. Коммунизм был компромиссом между Русской и Капиталистической Системами. До него таких — системных — компромиссов и таких — «холодновойновых» — форм не было. Была внешнеполитическая борьба. Но с исчезновением и самого 74-летнего компромисса (коммунизм скончался в том же возрасте, что и К.У.Черненко; лучшего символа для позднего коммунизма не найти) и его формы, логично предположить, что отношения между Россией и Западом должны стать менее компромиссными, особенно со стороны Запада, тем более что Запад, избавившись от страха, уже широко шагает. Как это там А.В.Суворов говорил о широко шагающих молодцах? Россия вступает в новый период противостояния Западу, противостояния в чем-то намного более сложного, тонкого и психологически изнурительного, чем предшествующее. Оно и людей потребует сложных и тонких, которые должны будут сочетать в себе актера, иллюзиониста и борца-бойца мировой политики, способных с улыбкой действовать по принципу каратэ. LXVIНыне весьма современны и своевременны слова Пушкина, сказанные им об отношении Европы к России после войны 1812 г.: Европа столь же невежественна, сколь и неблагодарна в отношении России. Только в наши дни «Европа» надо заменить на «Запад», За что Запад нас должен благодарить? Да за то, что его избавили от ядерного страха, за то, что вывели войска из Восточной Европы быстро, по-корчагински, намного быстрее, чем можно и нужно. Но благодарности нет. Как и понимания. Это видно, в частности, по тому, как складывалась ситуация на Балканах, в бывшей Югославии. Само давление на сербов в 19941995 гг., часто иррациональное, не признающее в них субъекта, не имеет ли оно антироссийский и антирусский характер, по крайней мере косвенно, опосредованно? Порой создавалось впечатление, что западная зацикленность на сербах, притом, конечно, что сербы не ангелы (а хорваты не боснийцы ангелы?), есть отчасти результат эффекта замещения: для Запада в мире после окончания Холодной войны сербы, Сербия ситуационно как бы заняли место русских, место СССР. Это те, над кем можно непосредственно торжествовать так, будто бы Запад победил (СССР) в настоящей войне. К тому же раньше сербов трогать не моги: Югославия была картой, которую Запад разыгрывал против СССР, и потому на Западе не вспоминали о хорватах-католиках, ни о мусульманах в Югославии. Кто такие? Без надобности. Не показало ли поведение Запада по отношению к сербам, помимо прочего, то, как мог бы в принципе повести себя Запад по отношению к России и русским, если бы Россия не имела ядерного оружия и т. д.? Похоже, на сербов многие на Западе проецировали отношение к России и русским. Отношение, которое к самой России к самим русским продемонстрировано быть не могло. Не получили ли сербы оплеухи, предназначаемые в воображении тех, кто раздавал, русским? Сербы это «русские понарошку»? Вот убивали только по-настоящему. На Балканах Запад в 1994–1995 гг. показал зубы не арабам, не сомалийцам, не латиноамериканцам. Европейцам же, причем тем, которым когда-то сладко улыбался, которых когда-то «гладил по шерстке», чтобы использовать против СССР. Теперь смена вех. Теперь зубы видны не в улыбке, а в оскале. Что нужно делать, когда кто-то со всей очевидностью, демонстративно показывает зубы? Вообще-то бить по зубам, причем необязательно своими силами и средствами, можно чужими внешняя политика такое позволяет. Но не всегда нужно бить по зубам. И не всем. Дело не в том, что Запад сейчас силен, а мы нет. И не в том, что, быть может, все стороны в экс-Югославии разыгрывали спектакль, замешанный на краткосрочной конъюнктуре (выборы у нас и в США), нефти, крови и, как часто это бывает, глупости сильных (сила есть, ума не надо). и не в том дело, что, как еще в XIX в. говорили умные люди, Великая Сербия вовсе не в интересах России. Дело в долгосрочной целесообразности. Да, нужен Холодный мир с Западом, иногда очень холодный. И мир этот должен гарантироваться крепко сжатым русским кулаком — в мире слабых не любят и тем более не уважают, и это проецируется даже на отношение к советским/россиянам за рубежом, как сознательно, так и подсознательно.[51] Но политика России под звон Колоколов Истории не должна быть антизападнической. Она должна быть это тривиально, но факт пророссийской. Разумеется, когда Запад ведет себя по отношению к России так, как он ведет себя в экс-югославской ситуации, у кого-то в России может возникнуть соблазн повернуться спиной к варягам, лицом к «обдорам», к Востоку, возобновить игры с Ираком, Ираном, Китаем. В качестве краткосрочной меры (и то реализуемой крайне осторожно) это возможно. Но в качестве даже среднесрочного курса это едва ли приемлемо. И не только по чисто геополитическим соображениям, чтобы избежать превращения России в местность, которая нам знакома «как окраина Китая» (хотя и это тоже). И не только потому, что голодные, с многочисленным населением, среди которого много молодежи, страны Юга значительно опаснее для нас (и чем дальше, тем больше будут опасны), чем сытые, с большим процентом пожилого населения страны Севера, которые не претендуют на нашу территорию. Главное заключается в том, что при всей политической, исторической или даже этнокультурной неприязни, недоверии многих на Западе к России (и в России к Западу), при стремлении не допустить Россию на мировой рынок (а кто себе враг? Политико-экономическая игра это игра с нулевой суммой; уважать себя можно только заставить, и надо это сделать) Русская Система заинтересована в существовании Запада, в нормальном функционировании Западной Системы. Это объективный интерес, и требуется виртуозная политика с исполнителями-виртуозами, чтобы конкурировать с Западом (Севером) исторически, не усиливая при этом то, что поднимается на Востоке (Юге), и не подрывая Запад (и себя) метаисторически. Разумеется, такой курс крайне затруднителен без аналогичного подхода и понимания со стороны Запада, понимания того, что в нынешнем деуниверсализующемся мире, только Запад и Россия являются носителями универсалистских черт, только они созданы христианским историческим субъектом, представляя реализацию его двух альтернативных проектов собственнического и временного в одном случае, властного пространственного в другом. Других проектов не было. В мире, где физическое и социальное пространство христианского (и белого) человека сужается, где социальные конфликты все более принимают религиозно-этническо-расовую форму, ни Запад, ни Россия сами по себе не устоят. Дом, разделившийся в самом себе, не устоит. Речь, таким образом, идет о метафизическом союзе между Западом и Россией пусть в виде холодного и жесткого мира без любви и приязни. К сожалению, мало кто на Западе, да и в России тоже осознает необходимость такого союза, который является основой других союзов при всех политических, экономических культурных различиях и напряженностях. Основа союза, о котором идет речь, заключается не в том, чтобы нам с Западом целоваться-обниматься. Хватит: Нацеловались при Брежневе, наобнимались за последние десять лет. Хорошего понемножку. И не в том, чтобы, задрав штаны бежать за Западом. Метафизический союз одновременно и проще, и сложнее. Он заключается в осознании того факта, что христианский или постхристианский исторический субъект в своей одной-единственной частной историко-системной «версии» не устоит. А это значит, что самая главная из главных границ, limes, как сказал бы Марк Аврелий, проходит не между нами и Западом, а между Западом и нами, с одной стороны, и большей частью остального мира с другой. Между остальным миром, с одной стороны, и Западом и Россией как двумя частями, северо-западной и северо-восточной, Севера с другой. Осознание этого без любви, а на основе долгосрочного исторического расчета является императивом выживания и самосохранения: нас в качестве России, Запада в виде Запада. При этом, однако, нельзя закрывать глаза на то, что и Запад, и мы сами себя подрываем. Отчасти в основе этого лежит недальновидность, слабость метаисторического инстинкта, отчасти интерес военно-промышленных и определенных бюрократических комплексов. Уже идущая «нафталинизация» (от НАФТА) Америки и постоянно предлагаемая («подбрасываемая») идея «евразиезации» России суть бомбы замедленного действия цивилизационного, историко-культурного и расово-этнического. Разыгрывая различные карты друг против друга, Россия (которая готова по конъюнктурным соображениям опять повернуться к Ираку) и Запад (готовый впервые за много лет допустить существование мусульманского государства в Европе) по отдельности и вместе (игры в «геостратегические бирюльки» с Китаем) рискуют проиграть все и вдрызг. После чего нам, обнявшись с Западом, придется начать громко декларировать стихи Тимура Кибирова: Пойдем, пойдем. Побойся Бога. Но пока что не видно того общего знаменателя, который мог бы стать основой хотя бы для пунктирной реализации метафизического союза, хотя бы обозначить его. Да и есть ли такой? Действительно, что могло бы стать таким знаменателем? По крайней мере, теоретико-гипотетически. Ведь и перед нами, и перед Западом стоит одна и та же проблема самосохранения в качестве христианского по происхождению, универсалистского субъекта в постхристианском, все более партикуляризирующемся мире. LXVIIНа что же в принципе можно опереться в создании новой формы Европейской цивилизации, формы, в которой универсалистская личность должна быть уравновешена и примирена с признанием локального, а не универсального характера Европейской цивилизации или по крайней мере с тем фактом, что универсалистско-мировая (христиансхо-капиталистическая) ее фаза окончена? Где секрет формы, ключ к ней. Этот ключ равновесие. Равновесие между техникой и природой, обществом и индивидом и т. д. подвижное равновесие, но равновесие, только за него можно зацепиться в эпоху флуктуации, только им можно амортизировать социальную революцию. Равновесие как макросоциальный и всеобщий принцип. Нет ли в европейской истории периода и состояния, в котором подвижное, динамичное равновесие было наиболее ярко выражено? Я думаю, есть. Это Старый Порядок, его эпоха, XVIIXVIII вв. Динамично-равновесная модель, развитие-как-равновесие, флуктуация-как-равновесие эти уникальные черты обусловлены взаимодействием двух сторон активности исторического субъекта: Европейской цивилизации и капиталистической формации. Их равновесие и вызвало к жизни этот бурный и великолепный период истории европейскою человека. И еще одно следует помнить: старым Старый Порядок был по отношению к субстанциональному капитализму, к Modernity. Исторически же он был Новым Порядком. Это была молодая «антифеодальная диктатура», «барочное государство» (более предпочтительный, чем «абсолютизм» термин абсолютизм не был абсолютной властью ни монарха в государстве, ни государства в обществе). Новым Порядком, который дал Европе и человечеству великую философию, великое искусство и великую науку. Не говоря уже о великих целях. Гиганты эпохи Старого Порядка (Барочного Порядка) последние гиганты в истории Европейской цивилизации. «Не то, что нынешнее племя: Богатыри». Старый Порядок вот та модель, которую можно противопоставить асоциалу, затормозить, если не остановить, сползание в «новое предсредневековье», в царство рептильной социальности Homo robustus. Новый «Старый Порядок» вот та форма, та модель, в которой Россия и Запад окажутся максимально приближены друг к другу, обретя дополнительную устойчивость во все более чуждом для них деунивесализующемся постхристианском мире; модель, в которой зримым станет метафизическое родство и метафизический союз (при сохранении в определенных метафизикой пределах «физической» борьбы и конкуренции) между Россией и Западом, Западом и Россией, разумеется если вообще останутся: Запад Западом, а Россия Россией. Какой период в истории Запада и России был временем максимальной сближенности? Это почти весь XVIII и начало XIX в.: 17251825 гг. вот столетие непревзойденной близости России и Запада, господствующих групп обеих стран. Близости политической («просвещенный абсолютизм»), геополитической (Россия входит в Европу, обосновывается в ней благодаря Семилетней и наполеоновским войнам), экономической (Россия и Европа доиндустриальные общества), культурной (17621825 гг. расцвет в России того класса, который был носителем европейской культуры). В основе этой близости или даже определенного единства лежал Старый Порядок. Он царил в Европе в XVIII в., многие его черты сохранились в значительной степени и в первой четверти XIX столетия. В истории Русской Системы, если пользоваться понятием «Старый Порядок» метафорически, относя его к самодержавию в целом, было два «Старых Порядка»: первый московский, старорусский, XVII в.; второй квазиевропейский, XVIII в. Второй «Старый Порядок», петровский, возник потому, что «московский старпор» не мог ни обеспечить контроля над пространством и населением (популяцией) внутри страны, ни решать геополитические задачи. Рухнув на четверть века в пропасть в результате и после четверти века петровских реформ, (обескровивших и обессиливших социум и таким образом лишив его возможности подняться на новую смуту, как бы упредив и купировав ее), Россия пришла в себя в середине «осьмнадцатого столетия» и укрепилась в значительной мере благодаря Семилетней войне. То был экзамен на вхождение в Европу. С тех пор и до николаевского (I) правления Россия находилась в максимальной близости к Европе, была (по крайней мере, внешне) максимально похожа на Европу. Это сходство обеспечивалось прежде всего наличием дворянства, единственного сословия в России, продуцировавшего «частных лиц». Не случайно, что именно расцвет русского дворянства (17621825) был периодом максимальной социокультурной близости России и Запада. Ко времени правления Николая I в Европе появляется новый гегемон Великобритания, которая становится индустриальной державой. Начинает индустриализироваться и Западная Европа. А Россия по сравнению с ними нет. В Европе возникает идеология в трех формах консерватизм, либерализм, социализм. В России делается попытка (неудачная) создать антизападную идеологию, единую (триединую) идеологию Русской Системы: самодержавие, православие, народность. На Западе единство трех идеологий, у нас триединство одной. Обреченность на неудачу очевидна. В России начинает утрачивать позиции и значение социальная группа — персонификатор «общеевропейского дома XVIII в.», дворянство. Причем если в Европе эквивалентные группы теснятся буржуазией «снизу» и «сбоку», то в России инициатор стеснения сама Русская Власть, начиная с Павла I. Наконец, с середины 1820-х годов Россию постепенно выдавливают из Европы. В середине 1850-х эта цель достигнута. В это же время, кстати, окончательно подрываются и исторические позиции дворянства. Россия терпит поражение в Крымской (Восточной) войне, и после этого ее экспансия направляется на Восток. Она там тягается с Западом. 18251855 гг. время «дероссиизации Европы». Экономической основой этого процесса была индустриализация Великобритании и утверждение ее гегемонии. В XVIII в. признанного гегемона не было; кстати, именно в тот период Россия и шагнула в Европу и мир. Но это был и период ослабления Старого Порядка в Европе. После 1848 г., когда Россия подавила буржуазно-социалистическую революцию в части Европы и на блюдечке преподнесла эту победу европейской буржуазии XIX в., несовместимость Русской Системы и постстаропорядковой капиталистической Европы стала для Запада очевидной. Повторю, с внешнеполитической точки зрения 19451995 гг. очень похожи на 18151855 гг. К середине 90-х СССР/Россия, победитель Гитлера, как когда-то Россия победитель Наполеона, вытеснена из Европы, включая значительную часть Восточной, причем вытеснение началось сразу же после того, как СССР подорвал восточноевропейский коммунизм. Думаю, именно крушение восточноевропейского коммунизма, «преподнесенное» на блюдечке европейской и мировой буржуазии, наряду с русской революцией 19851995 гг. стало тем фоном, на котором выявилась несовместимость Русской и Капиталистической Систем в XX в. Так что же, все кончено? Не все. Выше уже шла речь о возможных вариантах трансформации капитализма в некапиталистическом направлении, говорилось о возможности конструирования модели Старого Порядка как, по крайней мере, упорядоченной «переходной» формы. Говорилось также и о том, что российская перспектива первой трети XXI в. может быть окрашена в старопорядковые тона. «Старопорядковые модели» и их эволюция вот что может стать основой диалога и метафизического союза Запада и России, как ни фантастично это может показаться на первый взгляд. Правда, в России, как я уже говорил, было два «Старых Порядка» московский и петербургский (а ныне уже можно говорить и еще шире: о самодержавии в целом и коммунизме как двух «Старых порядках» по отношению к нынешней реальности). Новая российская модель, если она состоится, станет компромиссной. Но вот соотношение элементов будет зависеть от многого, в том числе и от политики Запада по отношению к России. Пока что она такова, что толкает к «московскому» варианту в большей степени, чем к «петербургскому». В идеале (ах, как он редок и маловероятен в истории) совместная работа по созданию модели Старого Порядка может устранить много неприятных вещей. Разумеется, конкретные предложения дело политиков. Я только констатирую. Как говаривал Герцен, мы не доктора, мы боль. И я отдаю себе отчет в том, что в самом стремлении к модели Старого Порядка желания избавиться от боли больше, чем практических медицинских предписаний, как это реально сделать. Но, полагаю, вектор выбран правильно. И ключевое слово равновесие определено верно. Думаю, основа достижений эпохи Старого Порядка именно, удерживаемое равновесие. Между капиталом и докапиталистическими формами, между Природой и Индустрией (Мануфактурой), между Человеком и Богом. Не случайно любимой фигурой барокко цивилизационной формы Старого Порядка был эллипс, т. е. окружность с двумя центрами. Короче, модель Старого Порядка была основана на равновесии. Ее суть найденная золотая середина. Середина, которая на рубеже. XVIIIXIX вв. была утрачена или даже уничтожена, устранена Великой французской революцией, Наполеоном и Субстанциональным Капитализмом. Устранена окончательно, поскольку началось это устранение раньше, в середине XVIII в. с Просвещением и рядом других явлений. «Утраченная середина» («Veriust der Mittes») так и называется одна из самых важных книг XX в., написанная австрийским искусствоведом и философом культуры Хансом Зедльмайером, которого я уже упоминал. Вспомним еще раз и мысль Й.Шумпетера; уничтожь и то, что мешало «современному экономическому росту» (а именно, институты, уходящие в феодальное и старопорядковое прошлое), капитал в то, же время разрушал, свои несущие конструкции, в том числе цивилизацнонные, нe им самим созданные. Говоря об утрате и разрушении, я не свожу вес к моральной критике капитализма или обвинению его во всех грехах. Во-первых, «нецивилизационность» капитализма есть его положительное качество. Во-вторых, согласно одному из определений морали, данных Марксом, это (с социосистемной точки зрения) состояние бездеятельной активности тех, у кого отняли силу (социальную); в этом смысле моральная критика удел нисходящих социальных групп, неудачников Истории. Речь также не идет о том, чтобы оживить или реставрировать Субстанциональный Капитализм или Старый Порядок это не только не нужно, но и невозможно. Однако важно изучить и лучше понять модель Старого Порядка, уникальную по своей равновесности; модель, в рамках и благодаря которой Европа прожила относительно стабильно в течение 150 лет. Ведь войны XVIIXVIII вв. нечто качественно иное по сравнению с войнами, в которые ввергли мир Великая французская революция и Наполеон; хотя, конечно же, это и не игрушечные войны Средневековья с их принципом Treuga Dei. Особого внимания заслуживает вопрос о месте некапиталистических по содержанию явлений и их взаимодействии с капиталом. Я думаю, нам предстоит переосмыслить и переоценить Старый Порядок. До сих пор его рассматривали с позиций сначала XIX в., а затем Современности в целом. Но этот подход себя исчерпал. XX в. и его конец, равно как и конец Современности, заставляет иначе взглянуть на XIX и XX вв., а также на них вместе как на Современность и переосмыслить их оценки, данные ими как самим себе, так и другим, их высокомерные пристрастия в искусстве, их интеллектуальные достижения. В частности, переосмыслить их отношение к прошлому и особенно к Старому Порядку. Ведь господствующий вкус второй половины XX в. это в вкус социалистической буржуазии, авангарда буржуазии XX столетия, не случайно тянущейся к авангардизму и высокомерно рассматривающей все, что предшествовало ей, XVIIXIX вв. как лишь свою предпосылку, пролог к себе самой, любимой, как венцу капиталистического творения. Социалистическая буржуазия все эти сытые профсоюзные активисты и политики, адвокаты и профессора, экономисты и философы, рассуждавшие об истинной и ложной революционности, певшие Мао или Че Гевару (а до этого Сталина или Троцкого),[52] предпочитают видеть себя в розовем (в прямом и переносном смысле этого слова) цвете, как нечто антибуржуазное. Но это иллюзия. Буржуазная изнанка не становится антибуржуазной оттого, что она изнанка. Ни выворачивать старую одежду на изнанку, ни латать ее не надо. На свалку, к старьевщикам. Вообще любовь, части западных левых интеллектуалов к массовикам-затейникам широкомасштабного террора из незападного мира напоминает мне желание дам высшего петербургского света отдаться мужику Распутину или совокупиться с догом (была такая высшесветская мода накануне революции). Эта любовь может быть объяснена на основе комбинации изучения побочных эффектов сытости и социального разложения (соцбуржуазия, бесспорно, есть разлагающаяся, загнивающая буржуазия отсюда и сбои в системе социального иммунитета) с фрейдистскими подходами. Российская революционная интеллигенция в конце XIX начале XX в. тоже «совокупилась» с мужиком, а то и с «псами» шариковыми, которых сама же кормила и обожала, которых пела. Потом пришлось плясать не по своей воле и под чужую дудку. За псами пришли еще менее развитые социобиологические существа во главе с Тараканищем. Результат известен, он противоположен концу истории Распутина. Но это к слову. Мы должны перестать смотреть на историю революционным, либерально-марксистским, просвещенчески-прогрессистским взглядом взглядом, по сути дела, капиталоцентричным. Ведь возможно и правомерно взглянуть и иначе: на Современность с позиций Старого Порядка. Де Сад и Гойя взглянули и испугались, так что со страха чуть не сошли с ума. Или даже сошли с него. Но мы с ума не сойдём. Мы пойдём другим путём — правильным. Мы — русские европейцы — не из пугливых. LXVIIIТак ли уж обоснован взгляд с позиций XX или XIX вв. на Старый Порядок как взгляд сверху вниз, характерный и для либералов, и для марксистов, и даже для многих консерваторов? Есть ли иные точки зрения? Конечно, есть. Вот что писал А. Герар, известный американский историк, специалист по Франции: «Если мы сравним Францию середины XIX в. с Францией середины XVIII в., то не сможем подавить чувства утраты, потери. Вроде бы так не должно быть: материальный прогресс очевиден; знание и комфорт получили более широкое распространение, чем когда-либо прежде; открылись такие источники поэзии, которые долго находились за семью печатями; наука получила огромное значение. Однако, несмотря на все это, мы видим вульгаризацию, упрощение, реварваризацию. Мы не хотим идеализировать Старый Порядок, но в своих лучших проявлениях он предложил сочетание изящества и серьезности, ума и щедрости, бодрую и активную веру в человеческую природу, в разум, в прогресс, которую мы не находим в духовно усохших элитах следующего века. Мудрость предрассудка, святость не знающей ограничений мысли, красота притворства, поклонение материальному богатству, легитимность силы все эти идеи устарели для «философов» уже задолго до 1789 г.; и сама знать быстро усваивала «философию». В той реальности, которую Леон Доде не совсем удачно назвал «глупым XIX в.», всякая глупая и грубая оплошность получала новую жизнь, новый стимул, не становясь менее глупой и грубой от того, что обрела романтический ореол или псевдонаучный ригоризм. Этот регресс правящих классов хорошо виден не только во Франции, но и во всей Европе: Екатерина II, Фридрих II и даже Иосиф II были несравненно более просвещенными, чем их наследники; Испания, Португалия и Неаполь демонстрируют то же».[53] Кто-то скажет: ясное дело, Герар консерватор, а то и реакционер, тем более что считает причиной регресса XIX в. Великую французскую революцию (называя ее, кстати, реакционным явлением). Здесь Герара можно упрекнуть, но не за то, что он увидел упадок в XIX в., а за то, что выдвинул в качестве причины французскую революцию. Последняя сама была, прежде всего, следствием ряда процессов и тенденций, которые, по логике Герара, следует назвать упадочными. Эти тенденции вытекали из логики развития, саморазвертывания Старого Порядка,[54] что не делало, однако, революцию автоматически неизбежной. Но здесь я не стану ни спорить с Гераром, не упрекать его, а переведу проблему в другую плоскость: а почему, собственно, мы должны в принципе принимать упреки типа: «Это реакционер (и потому это плохо и, предполагается, ошибочно)»? Что, революционеры лучше реакционеров, а революция лучше реакции? Почему возможен аргумент: «А-а, реакционер, все ясно». Аналогичным образом возможно: «А-а, революционер, все ясно». Т. е. спорить не о чем. Почему революция это абсолютно лучшее? Материальная и духовная история тех стран, где происходили революции, этого не подтверждает. В целом революции суть лишь нормальные не хорошие и не плохие явления для определенного потока исторического развития и для определенной эпохи мирового развития. Не менее нормальные, чем контрреволюция и реакция, которые тоже не плохи и не хороши (к тому же всегда остаются вопросы: для кого; в какой степени; в какой перспективе). Но дело в данном контексте не в этом, а в том, что Герар увидел упадок, регресс и деградацию (или, по крайней мере, их элементы) там, где обычно видят только всепобеждающий прогресс, «эпоху оптимизма». Герар не одинок в своей оценке. Уже упоминавшийся Х.Зедльмайер тоже, как и американский историк, пишет об утрате, которая произошла на рубеже XVIII XIX вв., об утрате середины, равновесия, что нашло отражение в развитии (упадке упадок и регресс суть такие же равноправные формы развития, как прогресс) общества, культуры, искусства, литературы. «Вырождение» так назвал М.Нордау свою книгу о культурно-психологической ситуации в Европе, в европейском искусстве последней четверти XIX в. Много десятилетий спустя к аналогичным мыслям в книге «Против искусства и художников» пришел Ж. Гимпель. Можно было бы привести длинный ряд имен и книг, в которых речь идет именно об «объективном упадке» (П.Шоню) Европы Х1ХХХ вв., т. е. современной эпохи, эпохи капитализма, однако это увело бы нас далеко от темы. Ограничусь констатацией того, что в подобной (decline and fall) точке зрения нет ничего необычного и алогичного, напротив, она и логична, и исторична. Нет и не может быть единой всеохватывающей формы развития, скажем прогресса. Он всегда осуществляется за чей-то счет; следовательно, рядом с ним, как смерть подле рыцаря на картине Дюрера, должен быть регресс, упрощение, упадок (каких-то групп, идей, форм). И чем больше и ярче прогресс, тем больше и темнее должна быть его оборотная сторона. Вся история и XIX («жюльверновского»), и XX вв. служит подтверждением этой мысли. Не случайно XIX в. стал Днем Современности, а XX Ночью. И это притом, что прогресс в тех измерениях, о которых писал Герар, налицо не только между XIX и XVIII вв., но и в еще большей степени между XX и XIX вв. Но и регресс, показатели которого привел Герар, совершенно очевиден в сравнении не только между XIX и XVIII вв., но и XX и XIX вв. Если взглянуть на более длительный исторический период, то аналогичные соотношения фиксируются, например, в античной истории. Римская империя эпохи Антонинов (96192 гг. н. э.) переживала экономический расцвет; с материально-вещественной точки зрения это было лучшее время в истории римского народа, его акте, нечто вроде Х1ХХХ вв. в истории Капиталистической Системы. Но эта эпоха материального прогресса вовсе не была пиком в развитии ни римской культуры, ни Античной цивилизации. То же с Древней Грецией. Пик материального, технико-экономического развития это эпоха эллинизма III начало П. в. до н. э., но именно этот период характеризуют как эпоху упадка античного общества, противопоставляя V началу IV в. до н. э. Расцвета чего спрошу я? Упадка чего? Думаю, здесь совершается логическая ошибка расцвет цивилизации отождествляется с формационным расцветом и результате получается, что (грубо говоря) после Перикла в античном мире наступает упадок. Напротив, наступила эпоха относительно массового благосостояния, массового общества. По-видимому, такое несовпадение — закономерность в развитии социальных систем: пик (плато) экономического развития и благосостояния, сытость, не способствуют развитию культуры и (в меньшей степени) мысли, оно имеет место либо до, либо после указанного плато (в последнем случае это всегда декаданс, эстетизация, «утрата середины» и утрате цельности). Капитализм подтверждает это правило, в нем и при нем оно проявляется со всей очевидностью, нагляднее, чем в других случаях. Причина — индустриальный характер производства в период экономического, материально-вещественного расцвета и качественные изменения в быту, в структурах повседневности XIX–XX вв., позволяющие резко внешне отделить эту эпоху от предшествующей. Показательно, что именно с XIX–XX вв. связывают расцвет капитализма, хотя «великий культурный взрыв» к этому времени окончился и становился прошлым, уходя в таких людях, как Гёте, Гегель, Бетховен, Пушкин. Это не значит, что XIX в. не дал достижений культуры и мысли. Речь о другом: эпоха гигантов, эпоха расцвета великой культуры окончилась. По логике выделения периодов расцвета и упадка, применяемой к древности, в «капиталистическую эпоху именно XVI–XVIII вв. должны быть признаны в качестве расцвета, за которым последовал упадок. Напротив, если к древности применить логику членения капитализма, то именно эпохи эллинизма в Греции и Антонинов в Риме должны занять место расцвета. Одна логика опровергает, исключает другую. В каждом случае под «расцветом» имеются в виду, разные вещи, и происходит логическая ошибка и подмена: для Античности расцвет измеряется культурой (и в ней), для капитализма — материально-техническими, технико-экономическими факторами. И в обоих случаях смешивается цивилизационное и формационное. В реальности же перед нами одновременно две линии, две разные плоскости, принципиально не совпадающие. Поэтому Герар и прав, и не прав. На самом деле мы одновременно сталкиваемся с векторами и тенденциями — равноправными — прогресса и регреcca, подъема и упадка, только вот привыкли мы видеть лишь одну линию, восходящую и светлую, и с ее позиций читать историю Современности. Историю темной стороны Современности еще предстоит изучать и писать, в результате мы получим более сложную и правдивую картину развития Европы и мира за последние 200 (300, 400) лет, получим более полное представление о капиталистической реальности XIX–XX вв., которая была взлетом, горними высями формационного развития Европы и одновременно упадком, зияющими высотами развития цивилизационного. Одно и то же явление может быть социально-экономическим прогрессом и цивилиэационной реварваризацией. Наконец, есть и еще одна возможность взглянуть и на последние века истории Запада, и на развитие Европейской цивилизации в целом, возможность, ставшая особо актуальной ныне — с наступлением эпохи «конца прогресса» (Ж.Гимпель) или «будущего без прогресса» (П.Шоню). Речь идет о рассмотрении европейской истории сквозь спирально-циклическую призму; линейного времени — как развернутого участка цикла или, скажем, спирали, снимающей противоречие между линейностью и цикличностью — как Лист Мёбиуса снимает противоречие между конечностью и бесконечностью. LXIXОбычно о цикличности (разумеется, не означающей ни абсолютного повторения, ни отсутствия количественно-поступательного развития) говорят применительно к развитию азиатских цивилизаций. Для Европы же существует только «линейка». Таков наш интеллектуальный багаж. Однако при сохранении в целом такого подхода вполне можно увидеть прогресс в рамках циклов на Востоке (только этот «прогресс» будет, как заметил В.В.Крылов, мерилом упадка и застойности для самих циклов); цикличность или, по крайней мере, периодичность в линейном развитии Запада, самообновляющуюся фазовость истории России (Русской Системы) — при немалом числе отклонений и «поломок» во всех трех случаях. Есть ли циклы в истории Европы, европейских стран?! Конечно, определенные циклы есть. Например, с середины XI до начала XIV в. Франция, Западная Европа испытали экономический и демографический подъем. Затем наступил спад, а после «Черной смерти» (эпидемия чумы в середине XIV в.) — провал. И хотя между 1320 и 1720 гг. во Франции произошли значительные изменения — прежде всего политические, Э. ле Руа Ладюри в ряде своих работ показал, что основные экономические, социальные и экологические параметры остались без изменений, и только к 1720 г. Франция оправилась от катастроф первой половины XIV в. и вернулась к уровню 1320 г. Аналогичную картину рисуют и другие исследователи. Заглянув еще глубже в историю, мы увидим, что Западная Европа достигла позднеантичного (II–IV вв.) уровня развития лишь в IX–XI вв., т. е. перед нами уже не четырехсотлетний, семисотлетний провал, хроноклазм. Но можно забраться еще глубже и вместе специалистами по истории Древней Греции отметить регрессивную эволюцию, хроноклазм, между крито-микенским миром XV–XIII до н. э. и греческим VII–VI вв. до н. э. Но вот что интересно в циклах (периодах) европейской истории. В отличие от более или менее повторяющихся, хотя вовсе не идентичных, а разных циклов развития азиатских цивилизаций, скажем, смены в Китае периодов «шэн» (расцвет) и «шуай» (упадок), «чжи» (порядок) и «луань» (хаос), каждый новый подъем в Европе сопровождался установлением качественно новой социальной организации, основанной на принципиально иных принципах господства и эксплуатации, чем прежняя (хотя и связанной с ней негативной или позитивной преемственностью),[55] разработкой принципиально, качественно нового комплекса идей. При этом, достигая в определенный момент уровня развития прежней социальной системы (VII–VI вв. до н. э., XI–XI1 вв. н. э., XVIII в. н. э.), новая система затем в течение 200–300 лет делала колоссальный рывок, резко превосходя по предметно-вещественным и, самое главное, энерго-информационным объемам, потенциалам и достижениям предшествующую систему. Кроме того, каждая новая система европейского ряда охватывала большее пространство, чем предыдущая, но во времени существовала несколько меньше. Однако, несмотря на эти различия, определенная цикличность спиралевидного типа налицо. Таким образом, излишне жесткое противопоставление циклического и линейного развития некорректно и ошибочно. Циклы пронизывают все, однако природа их может быть принципиально, качественно разной. Бывают циклы одноплоскостные, двумерные, а бывают объемные, трехмерные, с непосредственным выходом во Время и способностью манипулировать им, «менять на пространство» и наоборот. По-видимому, есть внутрициклический прогресс без прогресса между циклами, а есть и вовсе без прогресса, без эволюции, а так сказать с изменениями и историей. Но со всей очевидностью есть целый поток исторического развития — субъектный, где налицо прогресс между циклами, точнее, между пиками, фазами расцвета в их развитии. Здесь субъект ломает обычную циклическую логику, выпрямляя спираль и выстраивая циклы в линейку. Но для такого выпрямления необходим фиксируемый в обществе субъект. Ведь прежде всего его развитие носит линейный характер, это оно подтягивает к себе традиционную системную цикличость. Субъект — вот кто прочерчивает линию, простреливает Стрелой Времени циклы истории. Но и плата высока: линейное время, как и субъект — конечно, т. е. имеет конец; циклическое, — практически (в антропологическом смысле) бесконечно. Прочерчивая свою линию, субъект, однако, рано или поздно натыкается на объективный предел. Предел социальный — в смысле как данной социальной системы, так и социальности вообще. И предел биологический, природный — речь идет о степени независимости от природы, «внутренней» и «внешней», контроле над ней. В результате максимума остроты достигает внутреннее противоречие субъекта — между субъектностью как принципом господства целого над частями и его конкретной материальной и социальной (материально-социальной) формой; между субъектностью и субъектом, между принципом (качеством) и его носителем, не позволяющим с определенного момента дальнейшее развитие субъекта по восходящей. С какого-то момента носитель целостности Универсума лишается возможности наращивать целостный потенциал, становиться все более сложной целостной моделью мира — для этого необходимо устранить форму, истончить ее до принципа, слить с Универсумом, — что логически должно означать конец Субъекта. Здесь, на пороге фантастики (впрочем, фантастики ли?), нам следует остановиться, зафиксировав лишь еще раз, во-первых, то, что субъект и субъектное развитие принципиально ограничены, предельны; во-вторых, то, что с какого-то момента у субъекта остается только внутренний Универсум, тоже, впрочем, не безграничный. И хотя поворот к себе, обращение внутрь себя может дать европейскому субъекту еще несколько столетий или даже тысячелетий инволюционного развития, сам такой сдвиг не может не принять форму острейшего культурно-психологического кризиса, поскольку означает кардинальное изменение традиций европейской (христианской) субъектности. Сложность нынешней ситуации усугубляется тем, что своего предела — социального и планетарно-биосферного — достигли одновременно Христианский Субъект и Капиталистическая Система. Их приход к этому финишу одновременен. Теперь — о другом аспекте проблемы. В Европе за тридцать пять веков сменились не только цивилизации — Крито-микенская, Античная, Европейская, но и три формации: рабовладение, феодализм, капитализм. Причем одна цивилизация — Европейская — была представлена двумя формами (фазами): феодальной и капиталистической, которые с точки зрения экономического, технического и экологического развития могут быть соотнесены друг с другом как «натуральная» и «торгово-промышленная» (индустриальная) фазы. Но и две другие цивилизации тоже демонстрируют наличие двух различных (хотя различие это не носит столь острого, индустриального характера) фаз. Натурализацией характеризовались генезис, ранняя стадия и, естественно, упадок, который оказывался ренатурализацией. Эпохами ренатурализации, реварваризации были также «провалы» XII–VIII вв. до н. э., IV–IX вв. н. э., нач. XIV — нач. XVII в. Разумеется, «провалами» эти периоды можно именовать только с точки зрения того, что им предшествовало, а не сами по себе. Сами по себе это были нормальные фазы развития Европейской цивилизации как социоприродной, социопространственной системы. Наличие указанной цикличности, спиральной периодичности в истории Европы не означает автоматически, что так будет всегда, включая «после капитализма». Отнюдь нет. Но это означает: в большей степени вероятно, чем нет, что цикл повторится и после капитализма, и потому логично ожидать относительного спада технического развития, «экологизацию» экономического развития, т. е. того, что по отношению к «буре и натиску» XIX–XX вв. будет казаться ренатурализацией (и будет ею).[56] Нужны очень существенные причины, чтобы тридцатипятивековой ритм кардинально изменился. Вопрос о таких причинах можно обсуждать, но это особая тема. Отмечу лишь то, что показателей «ренатурализации» ныне хватает и появились они, как это на первый взгляд ни парадоксально, вместе с НТР. Кстати и кинизм, «ренатурализационная контркультура» Древней Греции явился на пике ее технико-экономического развития. К показателям, которые я упомянул, относятся и экологическое движение, и движение сексуальных меньшинств — все это в Европе всегда приходилось на фазы упадка, ренатурализации («назад, к природе»); это и волна оккультизма, мистицизма, тяги к иррациональному. Можно привести некоторые конкретные даты, фиксирующие поворотные пункты, хронолинии водораздела, который проходит по рубежу 60–70-х: 1969 г. — «Первый доклад Римскому клубу», изменивший моральную атмосферу («концепция нулевого роста»); 1971 г. — отказ конгресса США выделить средства на разработку проекта сверхзвукового транспорта, что означало существенное изменение психологического отношения к техническому прогрессу. И все это парадоксально-закономерным образом совпало с НТР. Так, может, НТР и знаменует конец одного и начало другого цикла в развитии Европейской цивилизации (и Мира), цикла, который будет существенно отличаться от своей начальной стадии, по инерции несущей технический облик? LXXЕвропейская спиральная (или восходящая) циклистика, в которой к тому же каждый цикл имеет, используя геометрический язык, форму не круга, а различных по длине и ширине эллипсов, отчасти похожа на ту картину истории, которую рисовал Джанбатиста Вико — историк XVIII в., т. е. допросвещенческий, а потому отброшенный Современностью и прогрессистской мыслью, которая линейный прогресс, характерный прежде всего для субъекта определенного типа, перенесла, во-первых, на развитие социальных систем; во-вторых, на развитие всех социальных систем. Задача переосмысления европейской мысли ныне заключается не только в том, чтобы преодолеть марксистскую и либеральную традиции (сюда необходимо добавить и консервативную), коренящиеся в XIX в., не только в том, чтобы переосмыслить наследие XIX в. Речь идет прежде всего обо всей просвещенческой парадигме. И следует не переосмысливать ее (хотя и это необходимо, особенно с историческо-научной точки зрения), а строить заново — пользуясь выражением И.Валлерстайна не rethink, a unthink, так сказать, «осмыслить вспять». Речь идет о том, чтобы, стартовав с великой «барочной мысли» XVII — начала XVIII в., встав на плечи ее гигантов, попытаться выработать непросвещенческую (ясно, что она будет если не антикапиталистической, то некапиталистической) современную (modern) мысль — мысль, альтернативную просвещенческой. Короче, сделать то, что совершила русская литература XIX в., ставшая одновременно современной (modern) и антикапиталистической, антибуржуазной, в чем и заключается ее уникальность. Однако «вспятьосмысление» не может ограничиваться эпохой капитализма, двойным критическим анализом — опыта капитализма и опыта его осмысления. Это лишь первая, начальная стадия, так сказать, плавание в мелких водах. И если мы остановимся на этом, то едва ли можно говорить о полноценной реализации проекта переосмысления и «осмысления вспять». Суть дела в том, что нынешний кризис — многослойный, матрешечный, и поскольку к некой критической черте подошли не только Современность и капитализм, но также Европейская цивилизация, христианский исторический субъект, субъектный поток исторического развития, то мы должны двигаться дальше в прошлое, к истокам. Двигаться с обязательными остановками в пунктах, узловых для развития европейской мысли, ее интеллектуальных споров. Это и XIV в. н. э. (схоластика, споры номиналистов и реалистов), и начало н. э., христианские споры, и наконец, середина I-го тысячелетия до н. э. — та эпоха, которую; К.Ясперс назвал «осевым временем». Короче, необходимо переосмыслить, а если необходимо, то и осмыслить вспять многое: и то, что Magister dixit, и то, что говорил другой Учитель, из Галилеи. Время свернулось, Аристотель и Христос стали нашими современниками, а, например, Милль и Энгельс ушли в прошлое. Надо ли переосмысливать Христа? Надо — есть проблемы с Вечностью и Временем. Надо ли переосмысливать Аристотеля? Конечно, надо. Часть того, что Magister dixit, например, в «Метафизике» годится в качестве основы метафизики и методологии изучения Запада. К России это относится в значительно меньшей степени. К Востоку — тоже в меньшей. Часть того, что Аристотель сказал в «Политике», может быть основой изучения власти в западном обществе, полисубъектном. К России и Востоку это имеет мало отношения. Указанная триада — не дань традиции, и не случайность. Три названные исторические целостности — Запад, Россия, Восток — качественно отличаются друг от друга типом и способом реализации субъектности, ее соотношения с системностью. Типов рационального социально-исторического знания должно быть столько, сколько исторически существует качественно особых форм организации, состояния субъектности, типов субъекта (полисубъектность, моносубъектность, системность).. Пока же мы пользуемся для всех случаев рациональным знанием, выработанным в полисубъектном обществе, для его познания — для понимания Запада. Да и с Западом, западной традицией не все так уж просто. Далеко не все из концепций и представлений, выработанных античными и западными мыслителями, вошли в западную интеллектуальную традицию или были отобраны в нее и усвоены ею. Ныне имеет смысл вернуться к отброшенному или просмотренному, т. е. осмыслить западную интеллектуальную традицию вспять и посмотреть, какие это дает результаты. Например, у Аристотеля отсутствует важнейшая для западной традиции концепция «законов природы». Magister dixit, что живые существа развиваются по собственным автономным причинам, не подчиняясь никаким законам. Такой подход, естественно, не вошел в западную интеллектуальную традицию, поскольку в течение последнего тысячелетия Запад социально был на подъеме, развивался по восходящей, и это воспринималось как закон и было законом. Отсюда — детерминизм и многое другое, от Фомы Аквинского и Оккама до Эйнштейна и Бора (с Декартом и Лейбницем посередине). Но нет вечных законов, и ныне, когда христианский субъект, по-видимому, завершает свою «социоантропологическую» миссию, когда наметился многослойный кризис, не просто возможна, но необходима замена деталей в западной интеллектуальной традиции. Ударным может (а может, и должно) стать то, что было безударным. Однако скорее всего этого окажется мало. Необходима существенная переоркестровка и создание, изобретение новой традиции и в Европе, и в России. Последнее вовсе не означает ни отказа от прошлого, ни разрыва с ним. Напротив, многие принципы нашего кровного европейского рационального знания, бесспорно, сохранятся и будут выполнять роль путеводной звезды. Это и принцип Сократа: «Я знаю, что я ничего не знаю» (он особенно важен для создания новой системы знания, осмысливающей традицию вспять); это и «бритва Оккама»; это и принцип Декарта: «Определяйте значение слов»; это и принцип интеллектуального радикализма Маркса — идти до самой глубины, до самого конца в познании вещей; это и правило А.Швейцера: «В споре побеждает тот, кто может вскрыть корни, основу позиции противоположной стороны». Ну, и, конечно же, это «правило Лютера»: «Дух Истины болезнетворен». Почему? Вот как отвечал на этот вопрос человек, в мозгу которого родилась великая социальная революция, исторически оказавшаяся капиталистической. «Дух Истины болезнетворен, — писал Лютер, — ибо Истина нелестна. И он повергает в болезнь не просто того или этого человека, но весь мир. И уж такова наша мудрость, чтобы все озлить, онедужить, осложнить, а не оберечь, опосредовать и оправдать, как если бы посреди чистого поля свободной, ясной и готовенькой стояла Истина». Хорошо сказано — годится в качестве эпиграфа для разработки новой, постнаучной и постидеологической системы рационального знания о мире. Хорошо как теоретически, так и — особенно — практически. Дух Истины действительно болезнетворен. Поэтому ее поиск происходит в лучшем случае в равнодушно-безразличном мире, а в худшем — во враждебно-завистливом и стремящемся к фрасибуловой нивелировке, в мире, в котором великие труды в науке и искусстве, вознаграждаются, как заметил Леонардо да Винчи, голодом и жаждой, тяготами, ударами и уколами, ругательствами и великими подлостями. Но другого мира нет. Нет у меня для тебя другого мира, человек, как сказал бы товарищ Сталин. И Истина, истины действительно нелестны — особенно социальные истины, потому что они многих лишают надежды — на будущее, на улучшение, на освобождение. Чаще всего социальные истины приговаривают людей быть сизифами. А потому в лучшем случае многим, если не большинству, они неинтересны: зачем это? Спокойнее жить с мифами и в них. Вне мифов — выбор, ответственность и расплата как за счастье, так и за несчастье. «Во многой мудрости много почали; и кто умножает познания, тот умножает скорбь». Это было известно еще во времена Экклезиаста. Мир — в этом отношении не изменился. И едва ли изменится в XXI в, и вообще когда-нибудь. Кто знает, не суждена ли новому рациональному знанию о мире судьба тайного знания — ведь говорил же Платон: даже если мы откроем, кто Творец этого мира, имя его не следует сообщать всякому. Особенно если новое знание станет новым оружием, одновременно орудием и предметом как труда, так и борьбы, их locus standi и field of employment. В любом случае новое рациональное знание будет развиваться в неблагоприятных (по крайней мере, по сравнению с предшествующими тремя-четырьмя столетиями) условиях, в ситуации острой социальной борьбы, в том числе и в сфере самого знания. При этом необходимо помнить: у европейского исторического субъекта нет вечных истин и теорий, у него есть вечный интерес — самосохранение и самовоспроизводство в качестве индивидуального субъекта, личности, вступающей в самостоятельные отношения с Абсолютом. Все остальное — теории, средства, методы — относительно и преходяще. Короче, необходима Великая Ревизия всей европейской мысли, ее переоркестровка, переосмысление и осмысление вспять. Все или почти все стало со-временным. По-видимому, этот Вывих Времени нe будет длительным, скорее, это будет исторический миг, но «есть только миг, за него и держись». Надо держаться крепко. И крепко думать, использовав редкую, выпадающую раз в несколько столетий, а то и тысячелетий возможность преломления времени, когда со-временным и рядоположенным на какой-то период становится то, что разделено веками. Кончилась Современность, и все, что существовало до нее, оказывается со-временным, своевременным. А вот она сама и ее идейные системы — похоже, нет. Мы же получили возможность свободы маневра в конструировании новых идейных систем и новых теорий на «поле» двадцати пяти веков европейской истории. Это — увлекательная, ответственная и опасная игра., но она необходима, иначе нам суждено все время наступать на грабли. Не надо полагать европейское досовременное знание мертвым. Оно — живое. Более того, оно во многих отношениях не завершено, его нужно развивать, осмысливать вспять, использовать как кирпичики для строительства нового знания. К этой ситуации как нельзя лучше подходит мысль А.А. Любищева о том, что «прошлое науки (и мысли вообще, добавлю я. — А.Ф.) — не кладбище с могильными плитами с навеки похороненными заблуждениями, а собрание недостроенных архитектурных ансамблей, многие из которых были не закончены не из-за порочности замысла, а из-за несвоевременного рождения проекта или из-за чрезмерной самоуверенности строителей».[57] Изменение угла зрения, подхода часто делает актуальным то, что казалось забытой архаикой и, наоборот, ведет к быстрому моральному устареванию то, что казалось современным. Все зависит от эпохи. Когда капитализм был молод или на подъеме, действительно, могло создаться впечатление, что он на века, вечен, впереди лишь высоты, а вся предыдущая история — лишь предыстория, подготовка к вечному капитализму. Впрочем, и римляне считали свой город вечным — Roma perpetua, Roma aeterna, Roma la citta eterna. Правда, Полибий рассказывает, что Сципион Эмилиан на руинах разрушенного его же войском Карфагена заплакал, осознав вдруг, что когда-нибудь и Рим постигнет такая же учесть. Однако вряд ли в 146 г. до н. э. в Риме, который отмотал шесть веков своей истории, а суждено было еще столько же, нашлось много людей, готовых разделить или хотя бы понять эти слезы. Так же и в капиталистическую эпоху, много ли в середине XIX в. было людей, размышлявших о конце капитализма? Бородатый юрист из Трира, мизантроп из Франкфурта-на-Майне, еще один немец, сошедший с ума и умерший в Веймаре в 1900 г. Едва ли этот список можно сильно расширить. Это неудивительно. Удивляет то, что в конце XX в. так много людей говорят о конце истории, увенчавшейся победой либерализма и демократии, о светлом капиталистическом будущем. Итак, одни и те же идеи, мысли, по-разному смотрятся в разные эпохи. Расцвет некой социальной системы позволяет взирать на прошлое как прелюдию к настоящему, а на будущее — как на продленное настоящее; вся история видится сквозь призму данной социальной системы, как ее «предпосылочная часть». Закат, упадок той или иной системы заставляют взглянуть на нее саму как на часть исторического процесса, сквозь призму истории в целом и других эпох и задуматься: вечерний звон колоколов наводит много дум. Мы смотрим на историю Европейской цивилизации сквозь призму капитализма: будто он и ее венец, и ее конец. Чтобы капитализм действительно не стал концом (но уже не в том смысле, который вкладывают в это слово фукуямы) Европейской цивилизации необходимо отказаться от подхода к нему как венцу европейской истории и не смотреть сквозь него на всю европейскую и неевропейскую историю. Будто это верхушка конуса или пирамиды, к которой все стремится и которой, выходит, все кончается. С которой — только прыжок в ничто. Разумеется, дело обстоит не так. Да и логически ошибочно смотреть на три с половиной тысячелетия истории Европы, на историю ее цивилизации сквозь призму пятисот лет истории одной из ее эпох, одной из ее фаз; постигать целое сквозь призму части — уникальной, великолепной, страшной и прекрасной, но только части. Это не просто логическая ошибка, это также нарушение принципов системности и историзма. А следовательно, и практическая ошибка. Если говорить о практическом аспекте, то с самого начала следует признать: конструкция социума по типу Старого Порядка есть вовсе не героическая, а совершенно прагматическая задача. Ее цель и суть создание социальной конструкции, которая позволит максимально продолжить существование Европейской цивилизации, обеспечив ей «бабье лето», «Indian Summer». LXXIА собственно, что такое Старый Порядок, «ансьен режим»? Откуда мы знаем о нем? Кто сообщил об этом? Кто придумал? Придумали — революционеры и идеологи Великой французской революции: «Французская революция окрестила то, что она отменила. Она назвала это «старым порядком»[58] Под этим порядком подразумевались неравенство и абсолютная монархия. За Старым Порядком и придумавшей его революцией — с ее ужасами, террором и бесчинством черни — последовали, однако, власть и роскошь еще более абсолютные, чем у Бурбонов, и рост экономического неравенства, которое превзошло таковое Старого Порядка. Выходит, что за Старым Порядком последовал Суперстарый Порядок. Так ведь об этом и писал Токвиль. Что же, все изменилось и ничего не изменилось? Что исчезло? Это зависит от того, под каким углом зрения мы взглянем на Старый Порядок. С точки зрения критериев определения Старого Порядка XVII–XVIII вв. революционерами — неравенство, абсолютная монархия (как высокоцентрализованная власть) и т. д., — все или почти все эпохи в истории человечества суть эпохи Старого Порядка. Если же определять Старый Порядок как период уникального равновесия между капиталом и докапиталистическими формами, между формационностью и «остаточной» цивилизационностью, между европейским человеком (христианским историческим субъектом) и европейской природой, между Западной Европой и миром; наконец, как период, когда все основные противоречия капитализма (включая таковое между субстанцией и функцией) заявлены, присутствуют, но далеки от остроты, от края, а следовательно, и от острых, крайних форм решения этих противоречий (которые предложила Современность), то тогда мы действительно кмеем дело с уникальной (и великолепной!) эпохой в истории Европы, Европейской цивилизации. «Ныряние» в Прошлое — с тем чтобы строить Будущее, чтобы не рухнуть в пропасть вместе с капитализмом, — уж не слишком ли это? Не слишком ли это — искать в прошлом рецепты, формы, элементы, модели для выживания в Будущем, для строительства модели наиболее жизнеспособной и в то же время в наибольшей степени сохраняющей суть, качество Европейской цивилизации? Нет ли в такой постановке вопроса чего-то странного или преждевременного? К вопросу о преждевременности. В 1956 г. человек по имени Жан Гимпель отправился из Франции в США, чтобы прочесть лекцию в Йейльском университете, втором в США после Гарварда по престижности и «возрасту». Лекция называлась «Как помочь Америке стариться достойно». В своем выступлении Гимпель предсказал начало технико-экономического упадка США в конце 60-х — 70-е годы и предложил ряд контрмер. Выводы Гимпеля вызвали снисходительные улыбки. В середине 50-х США были на подъеме, которому, казалось, не будет конца. 1956 г. для Америки — это последний год первого президентства Дуайта Эйзенхауэра, это чувство процветания и покоя, ощущение своей гегемонии в мире. Тогда Америка была уверена в себе, как никогда, танцевала рок-н-ролл вместе с Элвисом Пресли и слушала саксофониста Луиса Джордана с его «Let the good times roll» («Пусть мчатся славные времена»). Славные времена мчатся и грохочут, а тут появляется некий француз и говорит, что так будет не всегда. Улыбки снисхождения у американцев по поводу тезисов Гимпеля стали еще шире после того, как он объяснил, на основе чего пришел к своим выводам. Основа эта, на первый взгляд, действительно могла показаться странной сравнение технико-экономической динамики США конца XIX — первой половины XX в. с таковой средневековой Западной Европы, точнее Франции 1050–1350 гг. Гимпель вернулся в Европу по сути ни с чем, но когда в начале 70-х его прогнозы стали сбываться, «Пари-матч» назвал его «Нострадамусом нашего времени», а в 80-е годы Луис Галамбос уже назвал Америку «бегуном трусцой средних лет». Для нашей темы важно следующее: некто установил параллелизм в технико-экономическом развитии Европы, Запада в их средневековой (феодальной) и новой (капиталистической) фазах и взглянул на настоящее из прошлого, «нырнул» в него, чтобы найти аналоги и поискать средства и модели избежать упадка или затормозить его. Но, быть может, Гимпель — всего лишь эксцентричный фантазер-одиночка? В чем-то, может быть, и да. Но не в своих работах и их выводах. И потому он не одинок. Вот что, например, пишет уж совсем не склонный к эксцентризму, напротив, трезвый и прагматичный человек — Умберто Эко, итальянский писатель и специалист по знаковым системам: «Все проблемы современной Европы сформированы в нынешнем своем виде всем опытом Средневековья: демократическое общество, банковская экономика, национальные монархии, самостоятельные города, техническое обновление, восстания бедных слоев. Средние века — это наше детство, к которому надо постоянно возвращаться за анализом».[59] Если Гимпель и Эко ограничиваются Средневековьем, то Ив-Мари Лолан углубляется еще дальше в прошлое. Он говорит о Древнем Риме и Византии. По его мнению, Запад ныне оказался положении, сравнимом с положением Римской империи III века н. э. эпохи кризиса империи, от последнего Севера до Диоклетиана. Тогда оформились две стратегии выхода из кризиса — стратегии Рима (Западной части империи) и Византии (Восточной части). Западная стратегия оказалась ошибочно-пораженческой, Запад пал в V веке н. э. Византия дожила до XV в. И хотя в момент падения Константинополя у императора было всего лишь 15 тыс. человек на стенах против 150 тыс. Мехмеда II, а византийские схоласты во время турецкого штурма были заняты спорами о том, какого пола ангелы, Византия тем не менее просуществовала десять веков — тысячу лет, почти столько же, сколько и Рим (республика плюс империя), при этом — в более сложном и опасном окружении, чем Рим. Византийская стратегия выживания, основанная на военно-техническом преимуществе, выгодных политических союзах, умелом использовании наемников и обеспечении политической стабильности — вот возможная модель для современного Запада, считает Лолан.[60] А ведь Лолан — человек сугубо практический, он не просто специалист по экономике и геополитике (хотя и это тоже) — он работал и в Международном валютном фонде, и во Всемирном банке, и в структурах НАТО. И если такой практически ориентированный человек заговорил о необходимости обратиться к моделям развития далекого прошлого — конца Античности и начала Средневековья, это о чем-то говорит. Но не означают ли призывы типа «Вперед, в прошлое» полного изменения историко-культурной или культурно-психологической ориентации европейского исторического субъекта, европейского человека последних двух столетий — Homo modernis? He свидетельствуют ли они о его отказе от направленности вектора развития в будущее, от христианской Стрелы Времени? Отказом от прогресса сейчас уже мало кого удивишь, об этом и так немало говорят. Здесь же речь идет о значительно более существенном развороте — из будущего в прошлое. Не разрыв ли это с христианской, европейской традицией? В том-то и дело, что нет. Напротив. Это доведение указанной традиции до логического конца. Суть в том, что именно Прошлое, а не Будущее и есть реальный финал, последняя фаза эволюции христианского исторического субъекта. Это — не парадокс, а логика развития определенной реальности. LXXIIЭто особая тема, и потому здесь о ней — кратко. Мы привыкли интерпретировать идею прогресса как футуристическую, как идею, имеющую отношение к будущему и только к будущему. В значительной степени это психологическая ошибка или, по меньшей мерс, историко-культурный самообман. По-настоящему, так сказать, качественно футуристическим всегда, устремленным только в будущее было христианство. Футуристическим было Средневековье, которое стремилось к Будущему и в Будущее-само-по-себе; в Будущем должно было произойти второе пришествие Христа, завершавшее Время, ломавшее христианскую «линейку» и отпиравшее Врата Вечности. Будущее — это то, после чего приходит Вечность, вслед за чем начинается Вечность. И потому Будущее — ценность. Оно ценно своей связью с Вечностью, тем, что оно является мостом в Нее. Идея прогресса, выдвинутая в ядре капитализма в определенный период его истории, — это не просто секуляризованная версия христианской «линейки», но нечто более сложное и многомерное. Она возникла как результат существенного смещения — временного и ценностного. Прогресс представлял будущее как улучшенное, усовершенствованное настоящее. Будущее, таким образом, «виртуализировалось»: да, в общем-то, будущее, но по сути — модифицированное настоящее, помещенное в одно из измерений Времени — в будущее. Речь идет не о Будущем как субстанции, о чем-то самостоятельном, а как о хронотаре, которую можно наполнять чем угодно. Будущее в этом случае — не мост в Вечность. Вечности вообще нет: настоящее заполнит будущее, и так будет вечно, Время, точнее — настоящее заполнит Вечность. Идея прогресса, таким образом, означает помещение в будущее, распространение на него модифицированного, улучшенного настоящего — настоящего современной (modern) Европы, современного настоящего. Прогресс — это презентизация будущего, это будущее как улучшенное, «жюльвернизированное» настоящее, а не некое Будущее, качественно несравнимое с настоящим. Модернизация мира есть по сути его презентизация в будущем «a 1а Европа». С этой точки зрения Будущее — уже просто будущее (мира), построенное по типу Настоящего (господствующих групп Европы); это — функциональное продолжение настоящего. Прогресс — это настояшее-в-будущем, present-in-future, настоящее, продленное в будущее и слитое с ним. Прогресс есть снятие различий между настоящим и будущим посредством лишения времени качества. Прогресс — это по сути уничтожение Будущего как особого качества, превращение его в настоящее, низведение Будущего до будущего. Это разрушение моста из Времени в Вечность. Прогресс — это историческая и метафизическая диверсия, взрыв единственного моста в Вечность. Уничтожение Великой Христианской Мечты. Но не только. Прогресс — это и Вечность во Времени, Вечность, перенесенная во время посредством вечности настоящего-в-будущем. В упрощенческой интерпретации идеи прогресса как лишь секуляризации христианских представлений о Будущем упускается из виду и сама уценка Будущего, и поворот от него к Настоящему (в Прошлое), которые имманентны идее прогресса, встроены в нее, и разрыв связи между Будущим и Вечностью, Временем и Вечностью, и подмена будущим (в виде усовершенствованного настоящего) Вечности, т. е. Временем — Вечности, а следовательно, полное вынесение Вечности за пределы социального времени. Идея прогресса — это прощание Запада с Вечностью и начало пути из Будущего-будущего в Настоящее-будущее, а затем — и в Прошлое как настоящее. Но обо всем — по порядку. Выдвинув в XIX в. идею прогресса, капитализм впервые в истории Европейской цивилизации перенаправил время из будущего в настоящее, иными словами, перевел стрелки назад, по направлению в прошлое и создал present-in-future. Было ли это нарушением логики развития Европейской цивилизации, христианского исторического субъекта? И да, и нет. Да — при поверхностном взгляде. Нет — при более глубоком. Античность как «дозападное бытие Запада» демонстрировала наличие как циклического, так и линейного времени; последнее, однако, не было значимым. В раннем христианстве Поздней Античности и христианстве Средневековья акцентировалось линейное время, обращенное в Будущее. Капитализм, сохранив «линейку», Стрелу Времени, презентизировал, «онастоящил» ее. Линейное время не есть синоним времени футуристического, т. е. обращенного в будущее: всякое футуристическое время есть линейное, но не всякое линейное время есть футуристическое. Физически, исторически объекты, системы, отношения развиваются из прошлого в будущее. Однако культурно-историческое, социокультурное направление развития, направление исторического, а не «физического» («физикалистского») времени зависит от историко-культурной интерпретации его нахождения в момент старта, в момент социокультурного «Большого Взрыва». «Большим взрывом» христиан(ства) было рождение Христа. Единственным настоящим, положительно окрашенным ценностно, было Будущее, приближавшее к Божественному, к Вечному, будущее как Будущее, а не как хронотара, куда можно загрузить подновленное настоящее. Настоящее — это вообще миг; главное — Вечность, а Будущее — порог к нему. Будущее качественно отличалось от настоящего тем, что исчерпывало Время, уничтожало его, позволяло выйти за его пределы — в Вечность. Два пришествия Христа, т. е. по сути он сам, замыкали Время, сворачивали христианскую «линейку» в «рулон», с которым подмышкой Христос, как Терминатор Времени, отправлялся в Вечность. Будущее подводило итог историческому времени и в то же время оказывалось Истинным Началом пути в Вечность. И концом Времени. Главное в Будущем то, что это конец Времени, конец Царства Кесаря и начало царства Божия, «Начало Вечности». Причем конец этот — не «рай на земле», как в идее прогресса, а катастрофа, конец света, гибель мира по «сценарию» Иоанна Богослова и Страшный Суд. Так сказать, сквозь тернии к звездам, сквозь терновый венец — к святости. В этом смысле Будущее не является носителем положительных субстанциональных характеристик, таковые — отрицательны. Положительные характеристики Будущего — функциональны, поскольку приближают Царство Божие. Историко-культурно заявив свое линейное время как исходно футуристическое (главное время — в Будущем, это время конца) и ограничив его далее Вечностью, т. е. без-временьем (не Будущее вечно, а за ним, по его окончании — вечность; Будущее — не протяженное вперед время, а конец времени), Христианский исторический субъект, а с ним и Европейская цивилизация — в дальнейшем своем развитии, при переходе от средневекового типа общества к новоевропейскому — был вынужден осуществлять историко-культурные и социомифологичекие манипуляции со временем, разворачивая, выламывая его из Будущего: в настоящее как прошлое, в прошлое — по направлению к настоящему. Выламывая будущее из Будущего, и это естественно, ибо за Будущим не было времени — была Вечность. Или Ничто. В результате историко-культурное, социорелигиозное направление течения линейного времени христианского исторического субъекта и Европейской цивилизации оказывалось диаметрально противоположным течению линейного «реально-исторического» времени. Это были как бы два необратимых разнонаправленных процесса, два времени — футуристическое и пассеистическое (от фр. passe — прошлое), у истоков каждого из которых стоял некто Один — Христос и в то же время два разных Христа — реально существовавший и вторично явившийся всем. Между двумя этими Христами-Антиподами (Антихристами?) и развернулась христианская историческая драма, приближающаяся, по-видимому, к концу — концу более прозаическому, чем явлен в откровении Иоанну Богослову, хотя не менее страшному: как говорил А.Хичкок, скрип настоящей двери может быть страшнее любого выдуманного монстра. Итак, феодализм и Средневековье живут предвечным Будущим, ждут и призывают его — как очищающую катастрофу. Капитализм делает шаг из будущего по направлению в прошлое — в настоящее, точнее, в прошлое-как-настоящее, в прошлое-в-настоящем, в past-in-present. Логично, что следующая за капитализмом фаза Европейской цивилизации должна историко-культурно сместить линейное время еще дальше в прошлое, из настоящего — в прошлое, создав «будущее-в-прошлом» (или «прошлое-как-будущее»). В этом нет ничего удивительного: если старт находится в будущем (т. е. в конце), то «впереди» может быть только настоящее, ибо впереди — это только сзади. Здесь историческое («физическое») и социокультурное время христианства, Европейской цивилизации встречаются, совпадают, накладываются друг на друга: это их контрапункт. Место встречи изменить нельзя — Современность. Вот Узел Времени Европейской цивилизации и ее субъекта. Постсовременность, как и Средневековье, — это расстыковка, расставание исторического и социокультурного времени — без надежд на их новую встречу. Рассчитывать можно лишь на их совмещение по принципу двух точек, двух независимых организующих центров (историко-культурного) эллипса, как в Барочном Порядке. Если, стартовав из будущего вы попали в настоящее, следующая остановка — прошлое. Посткапиталистическая фаза Европейской цивилизации логически выходит пассеистической. Уже прогресс носит пассеистический по направленности характер; по содержанию он презентичен. Следующая за ним социальная идея (и реальность) должна устранить противоречие между направлением и содержанием. Футуризм должен превратиться в свою высшую (и последнюю) стадию — пассеизм. С этой точки зрения переизобретение, реконструирование будущего от модели Старого Порядка, обращение к прошлому — это единственный вариант для такого линейного развития, где физическое (историческое) и историко-культурное, социорелигиозное время текут в диаметрально противоположных направлениях.
Таким образом, обращение к Старому Порядку как к некоей модели соответствует социокультурному направлению времени христианского исторического субъекта. Прошлое и будущее встречаются. Европейско-христианское время, казавшееся линейкой, сворачивается листом Мёбиуса. Модель Старого Порядка способна оттянуть циклизацию, встречу будущего и прошлого — ведь это замыкание грозит Европейской цивилизации как европейской. А за время «оттяжки» можно что-то придумать. По крайней мере — попытаться. Современность (Modernity) — эти двести лет и два года, стали временем, когда европейский исторический субъект исчерпал Пространство, охватив посредством капитализма и коммунизма земной шар. Собственно, поворот капитализма от Будущего к Настоящему начался одновременно с экспансией капитала в пространстве. Христианский исторический субъект исходно возникает как временной, исчерпавший историко-культурное время, хроноцентричный. Отсюда — экспансия в пространстве. Капиталистическая и Русская Системы обеспечили этой экспансии социотехнологическую базу (производство и обмен — в одном случае, власть — в другом). Экспансия в пространстве позволяет удерживать Время в Настоящем (бежать, чтобы оставаться на месте, подобно королеве из «Алисы в стране чудес»), в то же время затушевывая ту манипуляцию с футуристическим временем, которую произвел капитализм. Не случайно окончание глобальной экспансии капитализма середине XX в. социоморфически резко усилило внимание к проблеме Времени как в естественных, так и социальных науках (призывы «bring time back in», создание «исторической социологии», проекты интеграции социальных наук и истории, «стрела Времени», работы И.Пригожина и многое другое). LXXIIIИтак, исчерпано пространство, и остается только время. Как любил говорить Маркс, единственное пространство человека — это время. Но объективно это время оказывается повернутым к европейскому человеку прошлым, у европейского человека неосвоенным осталось только одно временное «измерение» или состояние — прошлое. Будущее он когда-то перенес в настоящее, а настоящее уже освоено. Это ставит европейского исторического субъекта в тяжелое положение, поскольку в европейской традиции прошлое всегда имело знак «минус». Прошлое — это тот старый мир, от которого необходимо отречься, чтобы бежать в будущее — то ли к вынесенной за рамки Социума Вечности, то ли к внесенному в настоящее виртуальному будущему. Таково характерное для западного человека отношение к прошлому, ограничивающее возможности манипуляций со Временем, «игры» с ним и в него. Но и здесь у европейского субъекта есть контригра, есть ходы. И они тоже обусловлены логикой, историей и содержанием Европейской цивилизации. Благодаря обладанию линейным трехмерным временем, европеец любой трюк со временем, любой поворот может объявить торжеством современности как настоящего, и какой бы хроноисторический наперсток ни был поднят, Европейская система всегда может подложить шарик «современности», настоящего именно под него, объявив остальное архаикой, отсталой традицией. В основе этого хроноисторического наперсточничества лежит тот факт, что линейное время не только носит сегментарно-футуристический характер, не только неоднородно, но и этически определено и определенно, причем — неравномерно. В Европейской цивилизации как творении христианского и христианизирующего исторического субъекта всегда существовали элементы, которые, в зависимости от угла зрения, могли трактоваться как качественно более древний и как качественно более современный, что определялось наличием и взаимодействием античного и христианского (христианско-германского) начал. В христианской мысли понятие «современный» имеет то значение, что по отношению к нему первым его носителем, т. е. носителем современности, оказывается Иисус Христос. Жизнь Иисуса была принята в качестве даты вытеснения одновременно в священной и светской истории и Античности с ее политикой и философией, и «старого божьего промысла» — иудейских законов и Ветхого Завета.[61] Различение между античной древностью и христианской современностью стало важным элементом средневековой культуры. «Современное» в данной ситуации выступало как царство Божьей благодати и воли, а древнее — как царство закона и философии. Ни в одной из цивилизаций прошлое и настоящее (настоящее—будущее) не являются столь дихотомически противопоставленными, как в Европейской. Напряжение между элементами этой дихотомии, усиливающееся их противоречием как светского и религиозного, и породило в рамках христианской схемы мира понятие настоящего, в котором динамика благодати, как заметил Дж. Покок, в принципе может быть продолжена в будущее (что и было в определенных условиях реализовано в идее прогресса). Поскольку принципиально возможно такое продолжение, «современный» и «древний» элементы могут поменяться местами. Так и произошло в XV–XVI вв., когда было изобретено «Средневековье» как прошлое с целью дистанцировать от него настоящее в качестве светского, нерелигиозного. В этом смысле европейское Настоящее — это прежде всего Антипрошлое, т. е. среди его характеристик главная является негативно-функциональной, а потому в принципе и в него можно поместить будущее, да и его можно перенести в это будущее, слить с ним. Инструментальный, оперативный, функциональной характер настоящего в Европейской цивилизации (даже в Средневековье настоящее было функцией Будущего и Вечности) и хронотрадиции позволяет заявлять в качестве него практически любое состояние, измерение времени. Настоящим может стать будущее или типологически прошлое. Прошлым — настоящее. И так уже бывало. Как писал все тот же Дж. Покок, мыслители Возрождения задолго до Гиббона связали «триумф варварства» с «религией» и начали считать себя «современными» в том смысле и по той же причине, что подражали древним или даже превосходили их. Гуманисты, таким образом, произвели инверсию: если для ранних христиан их эпоха была «современной» в силу ее особой религиозности по отношению к античной древности, то гуманисты возрождение светской античности и сам Ренессанс представили как возникновение современности, противостоящей варварскому прошлому и господству религии. В результате Средневековье приобрело вид мрачного «слаборазвитого» прошлого, и мы до сих пор, к сожалению, смотрим на этот динамичнейший отрезок истории близоруким ренессансно-просвещенческим взглядом как на статичный. При этом забывается, что деятели Реформации могли использовать ту же дихотомию и определять «антикизированное» христианство (или христианизированную античность) как прошлое. Собственно, Мартин Лютер и отсек это прошлое своими тезисами как социальной бритвой Оккама, не предполагая, что ввергает европейского субъекта, Европу и мир в самое большое, жестокое и захватывающее социальное приключение — капитализм с его мировой, планетарной экспансией. Кто сказал, что невозможно «идеологически» объявить мир постмодерна и посткапитализма началом истинной истории, истинной современности по отношению к ложной Modernity 1789–1991 гг.? Истинным возрождением Средневековья, Старого порядка — в противовес Античности и Капитализму. У Европейской цивилизации всегда есть несколько парных исторических колод, которые она может менять или в крайнем случае даже комбинировать. Поворот к прошлому, самоограничение во Времени, деуниверсализация могут заставить европейского человека обратиться к самому себе, внутрь себя. И в этом смысле системный кризис капитализма отбрасывает представителей субъектного потока развития не ко времени зарождения христианства, а еще глубже — в ту эпоху, которую Ясперс назвал «осевым временем», т. е. в VII–VI в. до н. э., к моменту возникновения субъектного потока развития и вообще зарождения и великих религий (Востока), и великой философии (Греции). Не случайно еще в 1942 г. немецкий историк философии Х.Циммер писал о том, что западные люди, похоже, оказались близ того перекрестка, которого индийцы достигли в VII в. до н. э. Но, подчеркнул он, это не значит, что европеец должен отказаться от своей традиции и принять буддизм. Напротив, из своих затруднений он должен выбираться своим же — европейским — путем, «выбраться своей колеей». Я бы уточнил: путем создания новой европейской традиции и новых европейских социальных мифов. Линия Истории, повторю, свернулась в клубок. Концы оказываются началами, а носители Европейской цивилизации — чем-то вроде Сизифа, которому предстоит карабкаться с камнем на гору, иными словами, разворачивать Время, делать из обода новую линейку. Ну что же, Сизиф, марш снова в гору. До сих пор сутью европейскости были индивидуальная субъектность, возможность самореализации в отношениях с природой к другими людьми, счастье постоянного саморасширения, экспансии индивидуального субъекта. Но европейскость — это и трагедия внутренней незавершенности и недостижимой цельности. Трагедия незавершенности и, следовательно, невозможности понять себя до конца: постоянно переделывая внешний мир, европейский человек меняет и свою внутреннюю суть, а тем самым и процесс самопознания. Эта вечная погоня за самим собой, за недостижимой удаляющейся целью порождает трагические ситуации решения проблемы любой ценой, вплоть до самоуничтожения, т. е. обретения целостности в ничто, в не-бытийной форме (в отличие от Азии, где счастье самопознания и внутренней цельности есть обратная сторона неспособности внешнесоциальной реализации субъекта). Трагедия недостижимой цельности — потому что, в отличие от азиатских цивилизаций, не знающих острого противоречия ни между человеком и природой, ни между субъектом и объектом, ни между коллективом и индивидом (так как в них в целом акцентируется не борьба, которая в Европе — «отец всего», а единство противоположностей), составляющих целое и не испытывающих внутренней раздвоенности типа «язычество-христианство» в Европе, европейский субъект раздвоен сразу по нескольким линиям, представляя систему интериоризированных раздвоенных, бинарных оппозиций, состоя из них (субъект — объект, коллектив — индивид, христианин — язычник и др.). Причем каждая из этих оппозиций имеет субъектную форму. Полисубъектность характеризует не только европейское общество, это есть и внутренняя характеристика европейской личности как типа. Другой вопрос — останется ли самоуглубляющийся европейский человек европейским? Великая тайна Запада, Европейской цивилизации заключается не в христианстве как таковом, не в наличии трех антагонистических формаций и трех социальных и духовных революций — социальное и духовное вообще неразрывно связано как позитивно, так и негативно: ограничение свободы социальных действий, как заметил Кант, автоматически означает ограничение свободы мысли, и наоборот; и не в институционально оформившемся («изобретенном») в XVIII в. «частном человеке» (М.Фуко), своеобразном «оциальном Робинзоне Крузо». Все это — лишь элементы целостности, элементы тайны. Тайна же Запада, по моему мнению, заключается в таком особом несовпадении исторического субъекта и социальной системы, при котором субъект, реализуя себя как универсально-социальное существо, постоянно ломает рамки системы, но в то же время создает социо-пространственно более широкую систему, имеющую к тому же более высокий уровень организации и больший энергоинформационный потенциал, чем прежняя организация. Негэнтропия систем европейского субъекта повышалась, помимо прочего, за счет вытеснения энтропии во внешний для этих систем мир. Таким образом, динамика европейского исторического субъекта и полагаемой им цивилизации в значительной степени обусловлена тем, что его имманентные противоречия разрешались посредством создания новой системы, но так, что эта новая система была и расширением прежней не только количественным, но и качественным. Здесь качественное изменение влекло социопространственную экспансию, в ходе которой создавалась более широкая система, стимулировавшая качественное усложнение очага экспансии, институциональное оформление происшедших сдвигов. Как только исчерпывались «внутренние Америки и Азии» (И.Валлерстайн), европейский субъект реорганизовывался и начинал открывать внешние, создавая в ходе и на основе этих поисков качественно новые системы (в XVI–XVII вв. — капитализм). Однако процесс пульсирующего расширения, развивающийся в течение 2,5 тыс. лет, ныне завершен. Европейский субъект охватил, по крайней мере функционально, весь земной шар. Поэтому имманентный ему механизм снятия противоречий между ним и системой посредством расширяющихся социопространственых пульсаций (социальные революции, т. е. формационные сдвиги, изменения в социальном времени в Европе всегда были связаны с пространственной экспансией европейских исторических систем и наоборот — при всем различии между романским и германским восприятием пространства) перестает нормально функционировать. Кризис капитализма в этой ситуации есть лишь проявление кризиса европейского исторического субъекта. Прекращение экспансии в социальном пространстве (и социальном времени?) и, что не менее важно, осознание этого факта как собственного предела может оказаться если не катастрофой, то колоссальной травмой для европейского исторического субъекта и его универсальной духовной системы — христианства, теряющей в такой ситуации raison d’etre.. Капитализм есть мировая, (мирового, предельного масштаба) пульсация европейского исторического субъекта, реализующего универсальную социальность как практически не имеющую границ свободу в отношениях субъект — при да, субъект — субъект, субъект — дух. Конкретное осуществление этого процесса в 1517–1815–2050 гг., по сути представляющее собой высокую трагедию европейского субъекта, — особая тема, выходящая за рамки настоящей работы. Однако, замечу, что единый мировой субъект едва ли возможен. Нет такого конкретного субъекта, который мог бы взвалить на себя мировое бремя; ведь человечество — это абстрактный субъект, т. е. такой, который соотносится с природой вообще. Мировой может быть только система формационного типа — капитализм, система третьего порядка в субъектном потоке развития. Капитализм словно цепью приковал мир к европейскому историческому субъекту, вступившему во все более усложняющиеся и напряженные отношения с созданной им мировой капиталистической системой. Переживет ли он ее вызов в XXI в.? В любом случае ясно, что ныне логика развития и Капиталистической Системы, и Европейской цивилизации создает ситуацию, в которой европейский исторический субъект вынужден будет обратиться к прошлому, а в чем-то и оказаться в нем, подобно тому как Россия ныне оказалась одновременно — по разным параметрам — в XIX, XVII и XV вв. своей истории. Аналогичным образом и нынешний Запад, как уже говорилось, оказывается как бы и на рубеже XVIII–XIX вв., и в XIV в., и в «Европе герцогств». Таким образом, и Россия, и Запад логикой исторических судеб оказываются развернутыми в Прошлое в качестве вектора своего развития в будущем. Думаю, в европейском случае, как и в русском, за «старопорядковую модель» придется побороться с другими моделями, отражающими формы иных срезов прошлого. Сошла лавина Времени, и обнажились, став современными и современными, различные стадиальные пласты. И в западной части пуантилистского мира вряд ли реализуется какая-то одна модель, а скорее всего — несколько разных, хотя, быть может, и под одной «шапкой». Похоже, Европа, разрываясь, катапультируется сразу в несколько разных исторических эпох — как и Россия. Возможно, в этом разрыве времен и сосуществовании различных временных моделей развития и заключается историческая специфика грядущей эпохи, эпохи «вывихнутого» — во всех отношениях века. LXXIVХорошо, скажет читатель. Пусть модель типа Старого Порядка, пусть прошлое-в-будущем или будущее-в-прошлом, раз в Европейскую цивилизацию — на счастье или на горе — встроена способность манипуляций со Временем, «путешествий» в нем. Но ведь Старый Порядок был миром неравенства, эксплуатации и угнетения, несправедливости — все это стало вопиющим к концу существования этого строя! Так к чему же нас призывают? К созданию нового эксплуататорского строя? На это я отвечу: неэксплуататорских 'социальных систем не бывает. Эксплуатация и неравенство родились вместе с обществом, а неравенство, иерархия — так вообще вместе с социальностью. Различия лишь в форме и уровне. Новый строй все равно будет неэгалитарным и эксплуататорским. Весь вопрос — в какой степени. И насколько индивид будет защищен от крайностей неравенства и эксплуатации; какими средствами социальной защиты, каким полем для маневра он будет обладать. Поэтому поворот от утопических планов к реалистическим, принимающим социальную несправедливость, неравенство и эксплуатацию как данное, отказ от первых как от ложных — необходим. Более того, он — показатель социальной зрелости. Последние 200 лет многие мыслители разрабатывали планы построения счастливого «царства будущего» — эгалитарного, без эксплуатации и угнетения, царства свободы и братства. Вокруг и на основе этого строились главные идеологические и политические проекты Современности. Но приводили они — при их реализации — к новому, как минимум не меньшему неравенству, к еще более жесткому социальному контролю, к более интенсивной эксплуатации: благими намерениями дорога в ад вымощена. Так, может не стоит больше повторять ошибки, а попробовать руководствоваться неблагими или не совсем благими намерениями? Не революционно или реакционно утопическими и мечтательными, а реалистическими? Думаю, по иронии Истории, если нам и придется сознательно «строить» — насколько в истории вообще возможно что-либо сознательно строить — мир XXI в., то это должно быть строительство эксплуататорского (минимально), антагонистического (минимально), неэгалитарного (минимально), несправедливого (минимально) социума, в котором различные формы и отношения эксплуатации и неравенства уравновешивают (максимально или, скажем так: насколько это возможно) и нейтрализуют друг друга (опять же, насколько это возможно), позволяя индивиду использовать их противоречия, выбирать из многообразия ситуаций, увертываться от Власти, созидать свой мир. Для меня реально «строительство» чего-либо в истории — это создание таких условий, которые гарантируют некое общественное пространство, в котором индивиды в постоянной конкуренции друг с другом могут обеспечить себе достойную жизнь. Создание условий «достойной жизни» (при всей расплывчатости и неопределенности этого словосочетания) означает отсечение неких крайностей, это не «борьба за», а «борьба против». Это согласие по поводу того, что недопустимо и неприемлемо, а потому исключаются по определению те или иные средства достижения неких целей, какими бы благими эти цели ни были. Лучший способ отсечения крайностей — их уравновешивание, создание «социального эллипса», общества с двумя центрами. Разумеется, осуществить такую программу намного труднее, чем заявить. И все же: вначале было Слово. Приведет ли такой путь в «социальный рай»? Конечно, нет. Но он с наибольшей вероятностью не приведет в социальный ад. Не приведет в «социальный рай» — потому что так не задумано, да и «социальный рай» невозможен. Как невозможно «Царство Добра». Такое царство — опиум дураков и миф тех, кто под видом революционных вождей масс более или менее осознанно метит на место и роль новых господ, властителей и эксплуататоров. Царство Добра вообще, невозможно, ибо мир, как и человек, несовершенен и несправедлив. Зло нельзя победить. Но его можно и должно сдерживать, ограничивать и сводить к минимуму. Проект создания минимально, т. е. ограниченно эксплуататорского, несправедливого и неэгалитарного мира основан на идее сдерживания и ограничения Зла. Это и есть реализм, противостоящий утопизму и одному из самых страшных (так оказалось на практике, хотя многое проглядывало уже и в теории) созданий европейской мыслительной традиции — Утопии. Утопия по сути есть мир, где внешние — объектные и объективные условия существования человека приведены в такой порядок, в такую систему, что в субъекте уже нет нужды. Идеальное общество Утопии — это общество без субъекта, общество вытесненного субъекта, общество без исторической необходимости в субъекте. Управляющие в таком обществе (и таким обществом) должны быть, по определению, антисубъектно ориентированными. Стремление к утопии — это прежде всего воля европейского исторического субъекта к смерти, к без-временью; воля, оправдываемая идеалами всеобщей социальной справедливости и добра. Утопия — это мир по ту сторону добра и зла; различие между ними в Утопии иррелевантно. Поэтому не случайно реализация утопий в истории приводила к самым кошмарным последствиям и предельно угнетательским системам. Иначе и быть не могло. Утопизм есть крайнее самоотрицание европейского субъекта. А вот борьба с Природой и Обществом за обеспечение условий достойной жизни индивида — при одновременном признании как данности неравенства и несправедливости на основе их ограничения — имела своим результатом иные, нормальные и живые социумы, где жизнь — не сахар, где борьба — отец всего (но зато нет Отца и Учителя всех), где было и есть самое главное бремя — свобода и связанный с ней индивидуальный выбор, всю ответственность за который несет сам человек. Все это, конечно, не исключало и не могло исключить ни насилия, ни жестокости. Дело, однако, в том, что как жестокость, так и насилие в этих случаях имели спонтанный характер. Вот когда по алану строят рай на земле, в отдельно взятой стране, для отдельно взятого класса или отдельно избранной расы, то система насилия и уничтожения приобретает массово организованный и плановый характер и оказывается наиболее организованной подсистемой общества. Однако есть и другая сторона дела: «строить» некие социумы по планам, создавать нечто, обращенное в будущее, — как правило, на костях настоящего и прошлого — начинают там, где нет нормальной спокойной жизни, аутопоэза, где общество постоянно ищет вход в будущее и никак не может его найти. Более того, там, где общество тщетно ищет вход во Время. Отказаться от Светлого Будущего в пользу Минимально Темного Настоящего (и Будущего) — вот в нем заключается одно из практических переосмыслений и преодолений Современности с ее мифами, проектами-капканами и революционными теориями-ловушками. Вперед, в Прошлое! Или: назад, в Будущее. Полагаю, что мир в любом случае двинется в такое Будущее, которое по многим своим чертам, характеристикам и тенденциям развития будет выглядеть как Прошлое — XVIII, XVI, XIV вв. или еще дальше, — и тому уже есть много свидетельств. Ничего удивительного: «постсовременность» и «досовременность» сходятся как несовременность, а в чем-то и антисовременность; христианско-европейская «линейка Истории» сворачивается, концы и начала сходятся. Модель типа Старого Порядка — вот что реально может приостановить падение общества в асоциализм, в «новое средневековье», состояние, комбинирующее многие худшие черты феодализма, рабства и первобытности, падение вообще на дно Колодца Времени. Будем реалистами: не светлое будущее без эксплуатации, а скромная — неэгалитарная, эксплуататорская, несправедливая — модель типа Старого Порядка с рациональной Системой идей, не достигшей, однако, состояния Просвещения, которое в тенденции есть идеология рациональной гильотины, — вот что реально осуществимо. Начала и концы сходятся, и возникает новый — странный, а порой и страшный, непредсказуемый — мир. Мир, где оживают силы и явления, про которые уже почти забыли, про которые думали, что они навечно, в прошлом. Мир, в котором около 30 миллионов беженцев, бредущих из страны в страну. И то ли еще будет. Мир, в котором все больше конфликтов и террористов, над которым зарево пожаров и Завеса Мрака, если вспомнить метафору из толкиновского «Властелина Колец». «Множились слухи о том, что странные вещи стали происходить в мире. Поскольку Гэндальф исчез и уже несколько лет не подавал о себе вестей, Фродо сам старался разузнать как можно больше. Эльфы, которые раньше редко забредали в Шир, теперь шли и шли по вечерам через леса на запад — шли и не возвращались. Они покидали Среднеземье, и его беды уже не тревожили их. На дорогах появилось необычно много гномов. Старинный Восточно-западный тракт протянулся через весь Шир, оканчиваясь у Серой гавани, и гномы всегда пользовались им как путем в свои копи в Голубых горах. Гномы были для хоббитов главным источником новостей из отдаленных мест, — разумеется, если хоббиты хотели что-то узнать; как правило, гномы были малоразговорчивы, и хоббиты не спрашивали их ни о чём. Но теперь Фродо все чаще встречал странных гномов из дальних стран. Озабоченные и напуганные, они искали убежища на западе. Шепотом некоторые из них рассказывали о Враге и о стране Мордор. Это название хоббиты знали лишь из легенд далекого прошлого; оно темнело словно тень из тайников памяти. Но оно было зловещим и лишало покоя. Казалось, что злая сила, которую изгнал из Темнолесья Белый Совет, объявилась снова и обрела еще большую силу в своем старом логове — в Мордоре. Говорили, что Черная башня отстроена заново, и оттуда сила зла расползается все дальше, все шире; что далеко на востоке, далеко на юге полыхают войны, растет и множится страх. В горах развелось видимо-невидимо орков. Появились тролли, но не тупые, как раньше, а хитрые, коварные и вооруженные страшным оружием. А еще — но только шепотом и намеками — передавали вести о существах еще более ужасных, чем тролли и орки, и не имеющих имени»[62] (перевод мой. — А.Ф.). Не правда ли, это описание напоминает наш мир? Точнее, то состояние, в которое он все больше и больше вползает. Мир искривленного Времени. Мир сужающегося пространства и сокращающихся ресурсов. Неизбежность этого странного мира очевидна. Вопрос лишь в том, потащит ли нас стихия разрушающегося капитализма, энергия этого разрушения в царство-логово а-социала, в «руандизированный» или «лос-анджелесизированный» социум, в мир борьбы всех против всех за ресурсы, пространство и биомассу или же мы будем регулировать этот процесс, максимально отсекая негатив, максимально ограничивая Зло и достойно встречая старость Европейской цивилизации, ее Новую Эпоху. LXXVСобытия одной из самых важных книг XX в. — «Властелина Колец» Дж. Р.Р.Толкина — происходят в конце Третьей Эпохи. Эта метафора очень подходит к нашей нынешней ситуации, представляется ее символом. Причем не в одном отношении, а сразу в нескольких мы оказались у конца Третьей Эпохи. Античность, Средневековье, Современность. Рабовладение, Феодализм, Капитализм. В рамках Капиталистической Системы это: Старый Порядок, Субстанциональный Капитализм, Функциональный Капитализм. Если говорить о капиталистической мир-экономике, то это конец третьей гегемонии — США, которой, предшествовали Великобритания и Голландия. Если взглянуть на двойника Капиталистической Системы — Русскую Систему, то и здесь окончилась Третья Эпоха, ушла в прошлое третья Структура — коммунизм. Московское самодержавие, Петербургское самодержавие, Коммунизм. У конца Третьей Эпохи. А что дальше? Толкину, как писателю, было легче — он мог поставить точку, перевернуть последнюю страницу и закрыть книгу. Жизнь, История — не книга. Закрытая историком книга — это не ответ. Или — плохой ответ. Но трудно давать ответы в конце эпох — и по интеллектуальным, и по эмоциональным, и по моральным причинам. Везет тем, кто живет во время рождения, взлета, подъема систем. Они могут ставить серьезные вопросы и давать убедительные ответы. Убедительные — в среднесрочной перспективе: для самих себя, для современников, для потомков. Достаточно взглянуть на новоевропейскую философию и науку XVII–XVIIl вв., так называемого периода «раннего Нового времени». Бэкон и Лейбниц, Спиноза и Декарт, Ньютон и Локк. Какой уверенностью в возможностях разума, в успехе на путях поиска Истины дышат их тексты! Сколь изящны доказательства Ньютона! Еще бы, у него беспроигрышная аксиома — Бог. Неудивительно, что Эйнштейн, не имевший такой аксиомы (XX век!), так завидовал своему коллеге из эпохи Барочного Порядка. Аналогичная картина возникает при взгляде на ранний этап развития античной философии, когда античное общество было на подъеме, переживало эпоху бури и натиска. И какой контраст с поздней античной философией и европейской философией конца XIX — начала XX в.! Конечно, приятнее ориентироваться на мысль восходящих систем и эпох, заимствовать и учиться у них. Но есть резон и в том, чтобы повнимательнее присмотреться к нисходящим эпохам, к мысли умирающих классов — тех самых, над которыми, по выражению Б-Мура, вот-вот должны сомкнуться «волны прогресса». Ведь у умирающих классов, точнее — у их мыслящих представителей тот же выбор, что и у человека перед лицом смерти: сойти с ума или стать мудрым. Стать мудрым — это легче провозгласить, чем осуществить. Что значит стать мудрым и как это делать? Об одном из героев исландских car, Снорри Стурлуссоне говорили: он был умен, но не мудр, ибо не умел предвидеть будущее. А как предвидеть будущее, если его нет — по крайней мере, у данной системы? Можно ли быть социосистемно мудрым в эпоху упадка? Социосистемно мудрым — скорее всего нет. Можно быть субъектно мудрым. Но с точки зрения «трезвомыслящего большинства» такая мудрость, такой ум — безумие и глупость. «Безумие мудреца», «Горе от ума» — названия не случайные. Многим ли захочется выглядеть безумцами в глазах большинства? Сомневаюсь. «Субъектная» или «социосистемная» форма ума — не единственный горький выбор закатных и предрассветных эпох. Есть и другие. Ограничусь двумя. LXXVIНаступление зрелости социальных систем, прохождение пика развития, как правило, приводит к возникновению империй: социум сталкивается с целым рядом новых, более сложных задач. Империи чаще всего эти задачи решают, и общество переживает свой второй, повторный расцвет, свое «бабье лето», часто превосходя технико-экономические, материальные достижения первого, «доимперского» расцвета, но не дотягивая до его уровня мысли и искусства. Под этим углом зрения два расцвета можно противопоставить и по-шпенглеровски: культура versus цивилизация. Вторичный, имперский расцвет — это раннеэллинистические империи III в. до н. э., это Рим Антонинов, это США в 1945–1991 гг. и т. д. Однако проходит какое-то время, и само существование империи порождает проблемы, Которые она не может решить и которые серьезнее тех, что привели к ее возникновению. Начинается настоящий упадок. И вот тогда либо старая империя мутирует, либо возникают новые — жестокие, милитаризованные, которые военно-полицейской силой обеспечивают на какое-то время порядок, ранее гарантированный религией, моралью или идеологией в большей степени, чем насилием. Подобные империи возникали на руинах Средиземноморского мира после кризиса XII в. до н. э.; в конце эллинистической эпохи греческого мира; в Риме после кризиса III в. н. э. Подобные образования вызывали у современников и историков чаще всего отрицательные чувства, что вполне заслуженно и справедливо… Однако когда эти военно-полицейские монстры с бронзовым или железным панцирем приходили в упадок, их место занимал более или (чаще) менее контролируемый хаос. Таким оказался ближневосточный мир в середине I тысячелетия до н. э., мир варварских королевств в Западной Европе V–VIII вв. н. э., мир европейских «новых монархий» XV–XVI вв. Великие империи, обуздывавшие кризис силой и не желавшие знать никакой «идеологии» (естественно, они возникали в эпоху сумерек «идеологий»), исторически оказывались меньшим злом, чем то, что за ними последовало; а их потентат — меньшим злом, чем те, кто пришел после. После — смотрите, кто пришел: Аттила и Аларих, король-горбун Ричард и Чезаре Борджа. И многие другие. А что, Нерон и Калигула, Камбиз и Адад-нерари II лучше? Возможен ли выбор в такой ситуации? Еще один трагический выбор, трагический особенно для периода, сменяющего эпоху, когда акцентировалось освобождение масс и т. д. и т. п., это выбор между верхами и низами, точнее — отношения к ним. Ясно, что и власть, и новые господствующие группы позднекапиталистической эпохи, будь то Россия или Мексика, США или Китай, Ирак или Румыния, — более эксплуататорские, менее ориентированные на силу идей: эпоха Великой Идеи и Великой Мечты безвозвратно ушла в прошлое — мечтают на подъеме; на спуске же напрягают оставшиеся силы — чтобы не упасть («силовые структуры» — не случайный неологизм нашего времени). Ясно, что «прогресс» такой власти и таких групп возможен только за счет низов общества при все более размывающемся и вымывающемся в социальный низ средней классе. Да и сами власть и господа пуантилистского мира XXI в. едва ли вызовут большую симпатию. Но ведь и низы ее не вызывают. Эпоха массовых действий проходит вместе с массовым обществом. Массы — резервуар асоциализации. Трудящиеся классы XXI в. скорее будут похожи на «опасные классы» («dangerous classes») XVII–XVIII, чем на рабочие классы XIX–XX столетий. Единственное, что может амортизировать «данжеризацию» рабочих и низших классов — это социальная апатия, оформляемая новыми господами в «виртуальную активность» масс. Но виртуализация таит свои опасности и для господствующих групп тоже, открывая дверцу в мир Безбрежного Гедонизма (следующие остановки: Вырождение, Социальное Небытие). Энтээровскому «прогрессу» низы действительно не нужны: их использовали в предыдущую эпоху, а на стыке эпох выбрасывают из Времени, и, похоже, в XXI в. их нельзя социально утилизировать. Зачем такая масса, если, например, фирма «Майкрософт» обходится персоналом всего в 16400 человек в 49 странах! В пуантилистском мире Время будет присутствовать только в точках Севера, разбросанных по всему миру, будто стрелка социально-экономического компаса Истории взбесилась. Население вне этих точек объективно обречено ходом истории этого мира. «Историческая правда» пуантилистского мира (исторической правды вообще, без кавычек, не бывает, точнее — у миров и систем не бывает, она бывает только у человека как субъекта, но тогда это уже скорее метаисторическая, метафизическая правда) не на стороне низов: перспективы их самоорганизации и выхода за рамки «мира темного солнца» невелики и скорее всего чреваты новым варварством. «Обреченные, несчастные обреченные, — размышляет о людях некой местности Кандид, герой «Улитки на склоне» Стругацких, — они не знают, что обречены, что сильные их мира… уже нацелились в них тучами управляемых вирусов, колоннами роботов, стенами леса, что все для них уже предопределено и — самое страшное — что историческая правда… не на их стороне, они — реликты, осужденные на гибель объективными законами, и помогать им — значит идти против прогресса, задерживать прогресс на каком-то крошечном участке фронта». Кандид, однако, наплевал на такой прогресс: «Это не мой прогресс», — фраза, отражающая субъектизацию прогресса, т. е. попытку выхода за рамки «исторической правды» как исторической необходимости. Закономерности не бывают плохими и хорошими, они вне морали, но я-то не вне морали, рассуждает дальше Кандид. Он вытаскивает скальпель и идет к окраине леса. Таким образом, предполагается, что он предложит решение «хирургическое, только хирургическое». Прекрасно, Кандид не вне морали. Но вне морали находится система: «прогресс» которой он готов поломать, и несчастные люди, хотят они того или нет, являются ее элементами. Возникает проблема языка, лексикона. И предвидения последствий. Об империях и вообще подобных «хитиновых» властных структурах предзакатных и закатных эпох можно сказать то же, что Черчилль сказал о демократии, нечто вроде: демократия — это очень плохо, это зло, но ничего лучше люди до сих пор не придумали. В эту фразу «товарища Черчилля», как его однажды под смех Сталина и других советских вождей назвал маршал Жуков, следует внести историческую поправку, ограничив во времени: ничего лучше не придумали в эпохи расцвета и зрелости. Относительно поздних фаз, эпох заката фразу Черчилля следует читать так: империи — это зло, это плохо, очень плохо, но ничего лучшего для поддержания порядка, ограничения и торможения упадка и распада люди до сих пор не придумали. А.Пареди заметил: «Как и любое человеческое установление, Римская империя не была абсолютным благом. Иногда она казалась гнетущей тоталитарной машиной. Однако ничего лучшего в те времена существовать не могло».[63] И, добавлю я, то, что пришло на смену ей, в течение полутысячелетия было еще более гнетущим, варварским и жестоким. Так следует ли торопиться подкладывать камешки, чтобы споткнулся «прогресс» — пусть даже плохой? Чтобы не оказаться снорри стурлуссонами, следует попытаться предвидеть будущее — кто там, за «хитиновым» прогрессом пуантилистского мира? А если там — асоциал, Homo robustus, носитель дочеловеческой социальности, гомозавр? Кто знает, эксплуататорски-жестокий порядок в «северных точках» пуантилистского мира вообще может оказаться единственным порядком, а его граница — лимесом цивилизации. Так что же выбрать? Когда выбор трансформируется в «социальность против асоциальности», он ясен. Но это уже по сути не выбор, а императив, торжество необходимости. Необходимость тем более горькая, что не приходится обольщаться сутью порядка, о котором идет речь. Пуантилистский «новый порядок» будет включать тесное взаимодействие — не только негативное (т. е. борьбу), но и позитивное (т. е. сотрудничество) — легальных и криминальных верхушек. Более того, по-видимому, «южные» зоны, будь то на Юге или на Севере, в большей или меньшей степени будут контролироваться «серыми сообществами», обеспечивая таким образом «белый фасад» Севера — как ныне кастовая система в Индии, выполняя черную работу социального исключения, отсечения и пресечения, обеспечивает внешне демократический фасад. И тем не менее даже такой порядок лучше, чем хаос и отсутствие безопасности в широком масштабе. Одна из трагедий закатных эпох — это отсутствие выбора; в лучшем случае выбор между большим злом и очень большим при осознаний неизбежности выбора и полной ответственности за него, прежде всего — перед собой (если речь идет о христианской зоне, независимо от того, кто субъект выбора — верующий или атеист). Трагично и то, что человек обязан выбирать (и расплачиваться за это) даже при отсутствии выбора — в этом смысле выбор есть всегда, только нужно обладать социальной и интеллектуальной спермой, чтобы его сделать. В свое время Антонио Грамши говорил о «пессимизме разума и оптимизме воли». Я думаю, пессимизм разума не означает ни бессилия разума вообще, ни пессимизма в оценке его возможностей. Речь скорее должна идти о понимании разумом своих исторических пределов, ограничений и ограничителей: социосистемных вообще и тех, что связаны с финальными фазами существования конкретной системы, когда большинство социосистемных истин ограничены рамками существования данной умирающей системы, — и чем дальше вперед «по пути прогресса», тем больше они оказываются ограничены. Значит ли все это, что ныне следует отказаться от поисков правильных постановок вопросов и ответов на них? Конечно, нет. Во-первых, следует помнить и об оптимизме воли, и об исторической природе, обусловленности и ограниченности самого пессимизма разума. Во-вторых, в поисках истины необходимо стремиться выйти за данные конкретные социосистемные рамки, расширяя поле поиска в Пространстве и особенно во Времени. Только не нужно ожидать вознаграждения или даже поощрения за интеллектуальные поиски — особенно в закатные эпохи, когда все больше и больше людей все меньше и меньше интересуются истиной. Этот интерес с необходимостью вытесняется многим: борьбой за место под солнцем — у одних нарастающим гедонизмом — у других. И — у многих — все более усиливающимися социальными фобиями (при этом часто за социальным фобосом приходит социальный деймос). Поиск вопросов и ответов — это вознаграждение само по себе, за которое часто приходится платить. Быть готовым платить, не иметь иллюзий и жалости к себе, короче — быть настолько счастливым, насколько это возможно для конечного существа в практически бесконечном мире, — вот, пожалуй, единственная стратегия достойной жизни в конце Третьей Эпохи, под звон Колоколов Историй, жизни, в которой не должно быть места пораженческим настроениям. Системы и эпохи приходят и уходят, а люди остаются. Жизнь — социальная, жизнь вообще не прекращается вместе со смертью систем. Она может быть лучше или хуже, но она не исчезает — не исчезает как антиэнтропийный процесс. Мы не знаем, что будет, когда погаснет Солнце и доминирующим во Вселенной станет ультрафиолетовое излучение — это будет, но будет не скоро, Однако мы знаем, что люди не исчезнут, когда закатится солнце капитализма. Солнце новой системы может быть более темным, но оно не отменяет людей, их жизнь и их ответственность. While there is a life, there is a hope. Отчаяние, как и суеверие, — худший грех. Христиане правы. И здесь опять уместно вспомнить принцип «капитана Блада» — «кто предупрежден, тот вооружен». Это принцип стремления к лучшему при готовности к худшему, к тому, чтобы дать худшему отпор, чтобы «принять его в лоб», не отвести взгляд, не сморгнуть. Это — надежда без иллюзий, готовность пристально смотреть в глаза реальности даже если эта реальность — Ничто. Чем-то напоминает принцип капитана Блада призыв французского историка П.Шоню: «Да — страху, нет — панике». Призыв этот, в свою очередь, напоминает одну из мыслей Паскаля: «Надо бояться опасности, когда ее нет, и не бояться, когда она пришла». Короче, принцип капитана Блада оказывается в хорошей компании и в русле определенной традиции европейской мысли, которую можно характеризовать по-разному, в том числе и как традицию трагического мужества, трагического бесстрашия, необходимого для ситуации, когда поражение означает провал и конец, а победа обещает лишь продолжение борьбы, сталкивая с новой, еще более сложной задачей: «If we fail, we fall. If we succeed we will face the next task». Принцип капитана Блада — это предупрежденность о худшем без страха перед ним; это — концентрация внимания на опасностях, обращение к ним. А следовательно — воля к их преодолению. Принцип капитана Блада позволяет оставаться по эту сторону лучшего и худшего (но не добра и зла), не поддаваясь скорым соблазнам, и подводит под сдержанный оптимизм фундамент из трех китов: личный выбор, личная активность, личная ответственность. Принцип Блада, будучи conditio sine qua non победы, не является ее достаточным условием. Выбор, активность, ответственность — все это предполагает свободу. И личностность. Собственно, в качестве того, что человек может противопоставить социальному упадку, распаду, социальной энтропии, у него и есть ныне только его свобода и его личность, т. е. он сам как человек. Вера в идеологию, Надежда на прогресс и христианская Любовь уходят, если уже не ушли из нынешнего мира. В пуантилистском мире они в лучшем случае окажутся внеположенными ему точками — подобно Богу Николая Кузанского. Социальной энтропии подвержены системы. Субъект — как носитель универсальной социальности — смерти и уничтожению — подвержен. А энтропии — нет. Он не просто антиэнтропиен — он внеэнтропиен. Системы приходят и уходят. Субъект остается. И именно он берет на себя всю тяжесть социальности в эпоху крушения социальной системы, он оказывается единственным Атлантом, поддерживающим «небесный свод» человеческого общества как человеческого. Иными словами, с одной стороны, принцип Блада — принцип субъектный, его носителем может быть только субъект — свободный человек, активно относящийся к жизни; с другой стороны, это принцип фронтира, фронтирной жизни, жизни постоянного выбора под бременем личной ответственности за выбор и его последствия. Субъектность всегда связана со свободным выбором и в этом смысле социально — всегда фронтирна. А ныне — особенно. Один польский пастор сказал на рубеже 70–80-х годов: именно тогда, когда кажется, что ничего не зависит от человека, все зависит именно от него, от свободного выбора и силы этого слабого существа. Свобода оказывается самым тяжким бременем. Крайности встречаются в одной точке — сингулярной социальной точке, которая и есть человек. Встреча крайностей означает новый Большой Взрыв, новое развитие новой системы. Какой она будет — зависит от усилий человека на рубеже XX–XXI вв., от его возможностей. Выше говорилось о целом ряде логико-исторических тенденций, которые несут человеку, по крайней мере европейскому, мало хорошего. Однако следует помнить: это — тенденции. Их реализация — вообще или в максимально отрицательном виде — не является автоматически гарантированной (хотя именно негатив чаше всего имеет место в Истории). Будущее, однако, не дано в настоящем, оно лишь намечено в нем, а потому носит вероятностный характер. Субъект есть главная мера этой вероятности — и тем в большей степени, чем слабее системность (генезис, упадок). Научиться жить без оптимизма с его иллюзиями и без пессимизма с его страхами, жить, не пугаясь звона Колоколов Истории и не впадая ни в отчаяние, ни в исторический мазохизм, — вот, пожалуй, задача, которая остро стоит в конце Третьей Эпохи. В XXI в. победит «идеология», она же — «религия»; в кавычках — потому что это не будет ни идеология, ни религия, ни наука, а какая-то иная форма организации знания, для которой у меня нет термина, способная решить эту задачу. Здесь возникает проблема формы нового знания, выражающей некое положительное содержание, а не работающей по негативу: не то и не это. Сами попытки размышлять о нынешнем мире в адекватной ему форме остро ставят проблему научной дисциплины и жанра, которую я остро ощутил, работая над данной книгой. И дело здесь не в популярности изложения, хотя я и стремился писать по возможности просто (правда, как говорил мой покойный учитель В.В.Крылов, «есть вещи, о которых можно сказать только одним способом — сложно; по мере привыкания люди назовут это простым»). Но повторю, дело не в простоте, хотя опять же я готов подписаться и под словами, сказанными У.У.Ростоу по поводу самой знаменитой и читаемой из его книг: «Взгляды, выраженные здесь, могли бы быть разработаны в обычной форме научного трактата большого объема с большим числом подробностей и большой академической изысканностью. Но должна быть некоторая польза и в кратком и простом изложении новых идей».[64] И тем не менее вопрос не в простоте или сложности, а в жанре и «дисциплинарной принадлежности». Точнее, в том, что внешне кажется вопросом жанра, но по сути представляет собой более широкую, глубокую и сложную проблему. Сам по себе вопрос: к какому жанру относятся «Колокола Истории» может быть интересен для самого автора, читателю до этого нет дела. Однако за спецификой жанра в данном случае скрывается специфика знания. Эта книга не есть ни научная монография в строгом смысле слова, ни эссе, ни трактат, ни публицистический очерк. В самом широком смысле это размышления, в которых автор чувствовал себя свободным выбирать и анализировать такие темы, которые кажутся ему интересными, важными и тесно, системно связанными друг с другом, нередко вытекюшими одна из другой. Речь идет о некоей форме, в которой выразилось тo, что хотел сказать автор и как он это хотел сказать, т. е. о форме, в которой исходно, сознательно нарушены определенные границы, правила и принципы конструкции. Я думаю, это соответствует русской традиции, точнее продолжает в сфере рационального знания традицию, выработанную великой русской литературой XIX в. Говоря о жанровом своеобразии «Войны и мира» — произведения, которое как только не называют: и романом, и эпопеей, и романом-эпопеей, Л.Толстой заметил: «Что такое «Война и мир»»? Это не роман, еще менее поэма, еще менее историческая хроника. «Война и мир» есть то. что хотел и мог выразить автор в той форме, в которой оно выразилось (подч. мной. — А.Ф.). Такое заявление о пренебрежении автора к условным формам прозаического художественного произведения могло бы показаться самонадеянностью, ежели бы оно было умышленно и ежели бы оно не имело примеров. История русской литературы со времени Путина не только представляет много примеров такого отступления от европейской формы, но не дает ни одного примера противного»[65]1) (подч. мной. — А.Ф.). И действительно: «Евгений Онегин» — роман в стихах. «Мертвые души» — поэма. А произведения Достоевского — что это? Литература? Философия? Дневник? То, что великая русская литература XIX в. постоянно нарушала европейские формы — не случайно. Напомню, что она — единственная современная (modern), но антикапиталистическая или даже «внекапиталистическая» литература. В этом (но только в этом!) смысле она типологически соответствует коммунизму (кстати, как и коммунизм, она была и отрицанием самодержавия). Русская реальность XIX в. не вписывалась, как мировая (включая и русскую) реальность ныне, в сетку западных литературных и научных форм. В который раз мы сталкиваемся с ситуацией: то, что в XIX — начале XX в. было проблемой России, в конце XX — начале XXI в. становится мировой проблемой. В XIX в. Россия должна была создать форму художественного изображения русской реальности, адекватную этой последней. «Любой опыт, исходящий из России, — писал И.Бродский, даже отраженный с фотографической точностью, просто отскакивает от английского языка, не оставляя видимого следа на его поверхности. Безусловно, память одной цивилизации не может и, наверное, не должна стать памятью другой. Но когда язык не в состоянии воспроизвести отрицательные реалии другой культуры, может возникнуть наихудшая из тавтологий». Так дело обстоит, естественно, не только с английским, но и с немецким, французским и другими языками — Бродский вообще имел в виду не язык как таковой, а западную форму понимания и знания. Речь, разумеется, не об этно- или культуроцентризме Бродского и автора этих строк. Речь — о другом: о рациональном самопознании в понятиях, имманентных собственному историческому опыту, а не привнесенных извне. Задача создания формы научной рефлексии и саморефлексии, рационального познания и самопознания, адекватного реальности, стоит не только перед нами в России и перед теми, кто изучает Россию, но и перед миром в целом, включая капитализм, Запад (Север), который не может более правильно понимать самого себя сквозь капиталоцентричную же призму, который не видит самого себя в привычном зеркале — зеркало треснуло и замутилось, вместо ясного отражения — дымка. У великой русской литературы, у Пушкинского Дома, созданного несколькими десятками «лишних людей», есть чему поучиться: прежде всего подходу к реальности и методу ее фиксации, свободным от заданных капитализмом, западными традициями форм. Свободе по отношению к жестким сеткам знания, отражающим структуру капиталистического общества и несущим в себе и на себе, бремя опыта развития Европы и его (само)осмысления. С точки зрения изучения нынешнего мира, не старая Европа, полураздавленная этим бременем, привлекает меня, а та Европа, «… где малыш Только субъектное и свободное рациональное знание об обществе научит людей не бояться звона Колоколов Истории. Научит жить без надежд на вознаграждение, потому что быть человеком — это и есть самая большая награда. Жить без иллюзий, потому что жизнь и есть лучшая из иллюзий. Жить, не идеализируя прошлого, не ропща на настоящее и не пугаясь будущего. Научит мужеству быть и мужеству знать. Знать и быть человеком, человеком, свободным от пораженчества. Быть и знать, что все зависит от Человека, тем более тогда, когда рушатся Социальные Миры и звонят Колокола Истории. Примечания:1 Предпочитаю не переводить этот термин, так как его традиционный перевод — «государство всеобщего благоденствия» — неточен, а наиболее точный, на мой взгляд, перевод, предложенный А.С.Донде, — «государство всеобщего собеса», вызывает не относящиеся к нему ассоциации. 2 Мое внимание на это совпадение обратил Ю.С.Пивоваров, который, однако, считает, что разрыв Ленина с предшествующей политической традицией был намного сильнее, чем разрыв Эйнштейна — с предшествующей научной традицией. С этим нельзя не согласиться: русская реальность, в отличие от западной, и исторически вела к такому проходящему точку возврата разрыву, и логически требовала его. 3 *) Об этим подробнее см.: Фурсов А.И. Кратократия // Социум, М… 1991, № 812; 1992, № 18; его же: Взлет и падение Перестройки // Социум, М… 1992, № 912; 1993; 1994. № 32(1). 4 * Я благодарен Л.А.Сосновскому, обратившему мое внимание на этот факт. 5 * Подр. см.: Фурсов А.И. Крестьянство в общественных системах: Опыт разработки теории крестьянства как социального типа — персонификатора взаимодействия универсальной и системной социальности // Крестьянство и индустриальная цивилизация. — М.: Наука, 1993. — С. 56–112. 6 ** Подр. см. Фурсов А.И. Великая тайна Запада: Формационное и цивилизационное в становлении европейского исторического субъекта. — Европа: Новые судьбы старого континента. — М., 1992. — Ч. 1. — С. 13–70. 11 Часть I содержит главы I–XXXVI и стр. 1–181. 12 Речь пойдет в большей степени об историческом и общесоциальном аспектах. Социально-экономический — в более узком смысле — аспект рассмотрен в публикациях: Фурсов А.И. Взлет и падение перестройки // Социум. — М., 1992. — № 9–12; 1993. — № 25, 26/27, 28/39, 30/31; 1994. — № 32, 33. 13 Как поразительно чуток и точен русский язык! Не «русские капиталисты» и не «новые русские капиталисты». А — «новые русские». Иными словами, новое явление, новый элемент в Русской Системе: полубизнесмен, полубандит, полулюпмен, полуполитик. Короче, «полу». Полуподлец, «но есть надежда, что станет полным наконец». Вот эту потенциальную полноту, по-видимому, и фиксирует словосочетание «новый русский», некий, как сказал бы И.Бродский, «гражданин, достающий из штанин». 14 Крыштановская О. Мафиозный пейзаж России // Известия. — М., 1995. — 21 сент. 15 Эти строки писались в октябре 1995. 16 Подр. см.: Пивоваров Ю., Фурсов Л. Русская Система // Ру6ежи. — М., 1996 — № 1. — С. 45–69. 17 Мандельштам Н. Вторая книга. — М.: Московский рабочий, 1990. — С. 424. 18 Незашоренность, ясность и глубину мысли и понимания реальности чаще всего демонстрировали те, кто прорывался на стыках идеологических и политических традиций. Но именно их-то, как правило, не слышали, не хотели слышать; именно они, раздражавшие своим движением не по течению, а то и против него, оказывались невостребованными и забытыми. На первый план выходили пустышки научно-идеологического и политического мейнстрима. 19 Подр. см.: Фурсов А.И. Взлет и падение перестройки // Социум. — М., 1992. — № 9–12. 20 После революции аморальность и вседозволенность Старого Порядка сменяются аморальностью и вседозволенностью генетической фазы революционного порядка, а затем приходят новая мораль и «новая аскеза» — по крайней мере, внешне. 21 Руководители советского обществ «сталинского призыва», устроившие свой пир победителей на костях «ленинской гвардии», — это народ, воплотители народовластия, это выходцы из нарда, «русские джинны», уничтожившие выпустившего их из «народной бутылки» интеллигента («не буди лиха, пока оно тихо»). Брежнев, Хрущев, Подгорный, руководители уровней пониже — это и социокультурно и даже физико-антропологически народ, популяция. Разумеется, эти черты входили в противоречие с их властным статусом, но это было реальное противоречие, снятое в поколении (и поколением) горбачевых — впрочем, не до конца; что же касается нынешней «правящей элиты», то это во многом шаг в противоположном направлении. 22 Я благодарен Ю.С.Пивоварову, обратившему мое внимание на этот факт. 23 Иванов Г. Страх перед жизнью // К.Н.Леонтьев: Pro et contra. — СПб.: Изд-во Христианского гуманитарного ин-та, 1995. — Кн. 2. — С. 191. 24 Финал бывает только у систем. История людей, что бы ни писал Ф.Фукуяма, не кончается — не вообще, а в том смысле, что она не кончается вместе с историей системы. 25 Исламские «детали», например, не годились, равно как и буддийские, хотя и буддизм, и в еще большей степени ислам возникли как попытки преодолеть локализм. Но «внелокальность» еще не значит «универсализм». 26 Крылов В.В. О причинно-следственных и корреляционных зависимостях экономики, социального строя и надстройки; Неопубликованная рукопись. — М., 1974. — С. 2–3 (предоставлена мне автором). 27 Там же. — С. 5. 28 «Меняются седоки, а скачка прежняя» (И.Дедков: Из дневниковой записи и набросков последних лет) // Лит. газета. — М., 1994, № 52. — С. 6. 29 Наше время породило свой тип «чрезвычайки», причем оформленный в виде особого ведомства, — Министерство по чрезвычайным ситуациям (МЧС). Разумеется, это иной тип чрезвычайки, чем те, что занимают места в ряду «Преображенский приказ — ЧК/ГБ». Его задача — реагировать на чрезвычайные обстоятельства природного и антропогенного (социального) характера. И сам факт создания такого министерства, и время создания (момент падения коммунизма) очень показательны. Это значит, что черзвычайные обстоятельства в нашей жизни не только получили официальное признание, но и стали повседневной реальностью, заслуживающей создания особого ведомства. Все учащающиеся катастрофы свидетельствуют и о своевременности этого шага, и о том, что он вытекает из логики разложения коммунизма, лишний раз демонстрируя наше негативное вступление в энтээровскую эпоху. Раньше коммунистический порядок скрывал катастрофы, делал вид, что их нет (и отчасти их действительно было меньше, но только отчасти), а в какой-то степени и сдерживал чрезвычайные происшествия, поскольку по своей природе, по определению был чрезвычайной системой, призванной решить чрезвычайную микросоциальную ситуацию, сдержать ее. Он и возник как система такого рода. Рухнул коммунизм, и тут же пришлось создать чрезвычайное ведомство — гора родила мышь? Рухнул коммунизм, и словно вырвались на волю бесконтрольные силы общества и даже природы. В любом случае МЧС фиксирует новую ступень в развитии чрезвычайных органов Русской Системы, «русского чекизма», о котором мы с Ю.С.Пивоваровым писали в «Русской Системе» (см. «Рубежи». — М., 1995, № 5. — С. 35–39). И как знать, не предвосхищаем ли мы в данном случае мировое развитие чрезвычайных органон, оказываясь опять «впереди планеты всей» по любимому виду «спорта» — чрезвычайке. 30 1) Brown P. The making of late Antiquity. — Cambridge (Mass.): Harvard Univ. press, 1977. — P. 15. 31 2) Там же. — Р. 11. 32 1) Mattelart A. Les nouveaux scenarios dc la communication mondiale // Monde diplomatique. — P., 1995. — Aout. — P. 25. 33 Debray R. Le pouvoir intellectuel en France. — P.: Ramsay, 1979. — P. 273. 34 1) Подр. см.: Блум Ф., Лейзерсон А., Хофстедтер Л. Мозг, разум и поведение. — М: Мир, 1988. — С. 192. Связь между буквенным письмом, с одной стороны, и бикамеральностью мозга и обусловленным ею культурно-психологическим типом — с другой, неожиданным и интересным образом ставит проблему социальной психологии народов с иероглифическим письмом. Возможны ли превращение социального индивида в личность и переход от «культуры стыда» к «культуре совести» на, так сказать, иероглифической основе? 35 1) Подр. см.: Саган К. Драконы Эдема. — М.: Знание, 1986. 36 2) Агрессивные действия составляют один из доминирующих, если не доминирующий, аспект виртуальной реальности, мира киберпространства компъютерно-приставочных игр. «У московских детей развивается «инстинкт убийцы»», — радостно пишет «Вечерняя Москва» от 24.IX.95, рекламируя игры серии «Инстинкт убийцы», — в рубрике «Дайте прочитать детям и внукам». Газета представляет шестерых убийц-бойцов (рост, вес, киллерские способности). Например, Спинайд; «Забывший все о своей прошлой жизни, он одержим лишь одной мыслью — убивать». И тут же газета обещает: «В следующем выпуске рубрики мы расскажем об остальных персонажах этой замечательной игры». Итак, будущие социорептилии, вперед, в киберпространство. 37 1) См.: Плюснин Ю. Проблемы биосоциальной эволюции. — Новосибирск: Наука, 1990. — 239 с. 38 1) Степун Ф. Бывшее и несбывшееся. — М.: Прогресс-Литера; СПб.: Алетейя. 1995. — С. 513. 39 2) Хотя Хрущев уже стремился производить хорошее впечатление на Запад, его импульсивность вкупе с памятью о военной победе гасили и нейтрализовали это стремление; прорывалось естество: «мы вас похороним», «кузькина мать» и т. д. Отсюда — Карибский казус. 40 1) В частности мемуары Г.Киссинджера дают несколько отличных иллюстраций этого комплекса, его развития. 41 1) Следует помнить и то, что советские руководители 60–80-х не могли получить — негде было — такое образование, как лидеры большевиков и советские вожди 20–30-х, создавшие определенную интеллектуальную традицию и инерцию, которые действовали, затухая, вплоть до 50-х. Хотя, разумеется, интеллектуальный и образовательный уровень большевиков не стоит преувеличивать, но разница, скажем, между Сталиным и Брежневым была существенной. 42 1) Подр. об этом см.: Фурсов А.И. Кратократия // Социум. — М., 1991. — № 8, 9. Социального агента, о котором идет речь, я называю «кратократом». «Кратократия» («власть власти») — термин, концептуально введенный и используемый мной для определения социальной природы коммунистического порядка и его господствующих групп. 43 1) Арбатов З.Ю. Екатеринослав в 1917–1922 гг. // Русский Архив / Архив Русской революции. — Т. XII. — Берлин, 1923. — С. 136–137. 44 1) Le Carre. Secret pilgrim. — N.Y.: Knopf, 1991. — P. 116. 45 2) Dedney D. Ikenberry J. After the long war // Foreign policy. — N.Y., 1994. — N 94. — P. 21–35. 46 1) Великолепный пример приводит В.Буковскнй. Финансирование радио «Свобода» долго было секретным — сенат США (другой институт) не пропустил бы ассигнования, поскольку это «недружественный акт по отношению к СССР» (т. е. надо все же соблюдать некие правила межгосударственного поведения. — А.Ф.). «Ну а где секреты в Америке, там и разоблачения. Разоблачения же всегда дают привкус чего-то незаконного, почти преступного… миролюбцы типа сенатора… Фулбрайта не преминули использовать этот привкус, чтобы настойчиво требовать закрытия станции как мешающей установлению более дружеских отношений с советским партнером» (Буковский В. И возвращается ветер. Письма русского путешественника. — М: АО — НИИО «Демократическая Россия», 1990. — С. 445). 47 1) Klein Burton H. Germany's economic preparation for war. — Cambridge: Harvard Univ. press, 1959. — P. 235–236. 48 2) Гэлбрейт Дж. К. Жизнь в наше время. — М.: Прогресс, 1986. — С. 139–140. 49 1) Зло — категория этическая, она распространяется только на деятельность субъекта, преимущественно индивидуального (хотя ситуации в моносубъектном обществе, с одной стороны, и в полисубъектном — с другой, существенно отличаются друг от друга). С такой, персоналистско-этической точки зрения, например, коммунизм — абсолютное ало как во внутренних, так и во внешних своих проявлениях. Мы же, однако, рассуждаем о социальных системах, а не в персоналистско-этической плоскости. 50 1) Фразой: «Моя жизнь — это моя жизнь, а не судьба русской литературной традиции», И.Бродский, «последний поэт империи», подводит некую черту, и это тоже символ и знак окончания целой эпохи, русской Modernity, которой в русской литературе соответствует период «литературных учительных старцев» от Гоголя до Солженицына. Русский поэт (творец) как только частное лицо — это действительно нечто новое, это уже из эпохи социального пуантилизма. 51 1) Далекий от политики и далеко не просоветский по чувствам и мыслям вовсе не имперский писатель Ю.Нагибин так писал о своем пребывании в Норвегии, о дружественном отношении к нему норвежцев: «А все-таки человек слаб без родины… Я это понял по отношению местных людей ко мне, «Пока есть такие люди, как вы, Россия не погибла». Конечно, тут было личное отношение, я им пришелся по душе, что редко бывает, но мое обаяние хорошо подкреплялось бесстрашной пехотой, мощной артиллерией, танками, авиацией, очень окрепшим флотом и «сей термоядерной мощью самого вооруженного в мире государства» (Нагибин К). Дневник. M.: Книжный сад, 1995. С. 275). 52 1) В свое время хорошую характеристику восторгам Capтpa no поводу Мао и «культурной революции» дал А.Солженицын. Но характеристика эта распространяется на значительную часть «розовых» интеллектуалов Запада. Розовый и голубой вот, похоже, любимые цвета западных левых. Еще только феминисткам свой цвет надо придумать и будет «триколор». 53 1) Guerard A. France in the classical Age: The life a. death of an ideal. N.Y.: Harper a. Row, 1956. P. 329330. 54 2) Суперсимволичным в этом отношении представляются мне факты изобретения гильотины врачом, я ее изготовления настройщиком клавесинов. 55 1) Подр. см.: Фурсов А.И. Великая тайма Запада: Формационное цивилизационное в становлении европейского исторического субъекта // Европа. Новые судьбы старого континента. — М.: ИНИО11,1992. — Ч. 1. — С. 13–70. 56 В технически высокоразвитом обществе XXI в. у относительной «ренатурализации» может быть еще одна причина, помимо ограниченности пространства и ресурсов (природных и финансовых). Это — избыточная для психофизиологической (разум, эмоции) и культурно-психологической организации человека сложность социотехнических и управленческих систем и избыточный (для нее же) объем информации. Можно, конечно, радостно заявить: а все будут делать компьютеры, контролируемые ограниченным числом специально подготовленных людей. Однако такая ситуация, во-первых, ведет к установлению новой и страшноватой системы господства «электронного жречества»; во-вторых, делает общество крайне уязвимым в случае выхода из строя систем управления, финансов и т. д. В какой-то момент развития инволюция «ренатурализационного» типа может оказаться чуть ли не единственным спасением от катастрофы или вырождения. Проблема, однако, заключается в том, что инволюция не может быть длительным состоянием. Общество развивается либо вперед, либо назад. Как знать, не станет ли в будущем верхом социальной инженерии (и действительно «реальным светлым будущим») перевод развития в заданный «одноплоскостной режим». Здесь, однако, возникают проблемы — о смысле развития, истории, жизни. В одноплоскостном варианте они ставятся и решаются заведомо иначе, чем при линейном или спирально-циклическом типе, в котором «европейское человечество» развивается последние три с половиной тысячелетия и который определил цели, ценности и дух Европейской цивилизации 57 1) Любищев А.А. Уроки самостоятельного мышлении // Изобретатель-рационализатор. — M.,1975. — № 8. — С. 36. 58 1) Furet F. La revolution francaise. — P.: Hachettе, 1988. — Vol. 1: De Turgol a Napoleon. — P. 15. 59 1) Эко У. Заметки на полях «Имени розы» // Иностр. лит. — М., 1988. — № 10. — С. 103. 60 1) Laulan Y.-M. La planete balkanisee. — P.: Hachette, 1993. — P. 341. 61 1) Pocock J.G.F. Modernity and antimodernity in anglophone political tradition // Patterns of modernity. — N.Y.. 1987. — Vol.1. — P.49. 62 1) Tolkien J.R.R. The lord of the rings. — L.: Harper Collins, 1992. — Vol.1: The fellowship of the ring. — P. 56. 63 1) Париди А. Святой Амвросий Медиоланский и его время. — Милан: Христианская Poccия, 1995. — С. З. 64 1) Ростоу У.У. Стадии экономического роста. — Нью Йорк: Изд-во Фредерик А.Прегер, 1961. — С.8. Ростоу впоследствии действительно превратил отдельные главы «Стадий роста» в научные трактаты, монографии для специалистов. 65 1) Толстой Л.Н. Несколько слов по поводу книги «Война и мир» // Толстой Л.Н. Поли. собр. соч. — М., 1955. — Т.16. — С.7. |
|
||
|
Главная | В избранное | Наш E-MAIL | Добавить материал | Нашёл ошибку | Другие сайты | Наверх |
||||
|
|
||||
