|
||||
|
|
Рейс седьмой Остров Халявин Бенефис стихиатра Юморотерапевтическая фантасмагория, в которой невозможно выделить главное, ибо главное – все, кроме основного, а духовоздействие производится в целом и в частностях, подетально и в совокупности, при регулярном употреблении по одному прочтению неограниченное число раз в свое удовольствие  Не все плоды, не все плоды А каково на плоту в океане – претерпевать бури и ураганы? Герой этой главы, он же и автор вышеприведенного стиха, именно на этом плавсредстве достиг заветного уголка, к которому с детства стремился. А нам лучше поздно, чем никогда, сообщить читателю, на каком корабле мы совершаем свое путешествие по Океану Настроений и объезжаем Архипелаг Депресняк. На этом вот самом – нарисованном рукой автора на обложке. Видите высокие мачты со многими сложными парусами? Посудина, стало быть, не иначе как из породы королей парусных судов – фрегат называется. А персональное имя, если кто на обложке не сумел разобрать, повторю: «Цинциннат». Дано в честь сразу двух знаменитых одноименных существ: Цинцинната Ц. – героя набоковского «Приглашения на казнь» и Цинцинната Первого – кота Дмитрия Сергеевича Кстонова, того самого Цинцинната, который жил у моего друга еще в «Искусстве Быть Другим», а ныне продолжил себя в следующих поколениях с тем же священным именем. Итак, Фрегат «Цинциннат» со все тою же нашей троицей, и плывем мы сейчас из акватории Эйфорифов мимо Бухты Смеха в сторону острова-вулкана Маниакал. Небезопасное направление. Суицидальная Стремь, случается, завихривается сюда по глубинам, а Маниакал непредсказуемо извергается, и тогда никому мало не кажется, ибо летят из него вперемешку неразборчивые пламенные речи, тирады из нетрадиционного лексикона, экстремистские прокламации, крики «Шайбу!», «Банзай!» «Бардак – чемпион!» и другие малочленораздельные выражения. Укрыться от всего этого можно только с помощью психозащитных зонтов. Бывает, что вулкан, накопив выхлопные газы, со взрывной силой выталкивает их из своего кратера, и тогда в окружающих водах поднимаются волны цунамического масштаба… ВысадкаВот одна такая волна-великанша нас и настигла и со страшной скоростью понесла – мачты затрещали, паруса начали рваться… Мы приготовились было уже к героическому финалу нашего повествования, как вдруг Оля Катенкова, и.о. юнги (ДС и я – капитан, штурман, боцман, кок и матрос по очереди), уцепившись за флагшток, пронзительно закричала: «Земля-ааа!!!» И точно: несло нас к островку с лагунами и отмелями вокруг; прямо по курсу на берегу возвышалась небольшая колонна, сложенная, кажется, из ракушечника, на котором трепыхался селедочного цвета флажок с надписью «О. Халявин». Все это мы успели увидеть за считанные мгновения до того, как фрегат наш ухнуло носом в мель, и он, глубоко всадившись в нее и пружинно подкинув палубу, словно норовистая кобыла, выбросил всех нас на берег. Высадка произошла.  Абориген-невидимка Абориген-невидимкаОт цунамического удара всем нам пришлось на некоторое время лишиться сознания, но слава Богу, никто из нас ничего большего не лишился. Первым очнулся ДО. – Куда ушло цунами, бежавшее за нами? – спросил он, как всегда, точно по делу и не заметив, что стихами. – А здесь, понимаете ли, особый дух, так сказать, – произнес кто-то неизвестно откуда. Голос незримого аборигена производил впечатление слегка проперченного, малость просоленного, отчасти промаринованного и в значительной степени проспиртованного. И тут я, очухиваясь, постепенно начал догадываться. Тем более что сознание со свежим следом в оперативной памяти возвратило мне надпись на флажке, которую мы успели увидеть перед тем, как нас выбросило на берег. – Он! Это он! – закричал я и попытался подняться на ноги, но… – А вы лежите, доктор, лежите – раздался тот же голос. – Куда спешить-то? Все равно встать без подкрепления сил никак не получится. Вдруг прямо из воздуха чья-то загорелая крепкая рука, покрытая выгоревшими рыжеватыми волосками, поставила перед моим носом рюмашку с прозрачной жидкостью и знакомым запахом, таким земным и родным. – Не в Море ли Зависимостей мы опять заплыли? – спросила Оля, которая уже пришла в себя и поднялась на ноги без посторонней помощи. – Никак нет-с. Остров Халявин. Независимые и неподконтрольные экстерриториальные воды. Открыты цдя всех желающих. Но по спецпропускам. – А у нас пропуска нет, – забеспокоилась Оля. – Ниче, оформим. Тем более для такой хорошей дружеской компании. Оформление пропусковВ качестве пропуска, граждане, требуется творческая импровизация. По-любому выражаемая: словом, движением, пением, взглядом… Какое угодно доказательство вашей причастности к вселенскому родильному дому, к никогда непрекращающемуся мирозачатию… Можно домик из гальки соорудить, можно что-нибудь нарисовать на песке или принять какую-либо необычную позу, вообразив себя кем-нибудь или чем-нибудь… Придумать какой-то другой мир… Или же произвести интересное наблюдение в этом, тутошнем мире, выразить его в подходящих словах, жестах или других знаках. Действуйте, время пошло, – сказал Иван Афанасьевич, окончательно материализовавшись, и тут все мы трое смогли его пристально и обстоятельно разглядеть. …Да, я же еще не представил. Ивана Афанасьевича Халявина знают многие, письма пишут ему, стихи посвящают, а что не все пока знают, так это еще впереди. Стихиатр он. Других занятий тоже много, одно из полюбившихся – сторож детского сада. Вашему покорному слуге Иван Афанасьевич приходится, как он сам выражается, генеральным собутыльником, заслуженным пациентом и ближайшим соседом по черепной коробке. «Вашего, кто кого лечит, еще вопрос» – подмигивает он. Описание внешности стихиатра Ивана Афанасьевича ХалявинаИван Афанасич, а мы тут в качестве пропуска решили изобразить вас. Кто как вас видит, – сказал я после совещания нашей команды, при коем шушуканье то и дело прерывалось эмоциональными звуками разнообразных значений. – Право имеете, – снисходительно усмехнулся хозяин острова. – Ну тогда вот, – первой предъявила свой рисунок на песке Оля. (Воспроизвожу по памяти.)  – Похоже на меня в молодости, – заметил Иван Афанасьевич. – Особенно прическа. Следующий рисунок показал я. С названием: «Осуществление права на собственное настроение».  – Полное сходство, как фотография, – одобрил Иван Афанасьевич. – Нога особенно похожа. – А я льстить вам не буду, – предупредил ДС.  – Розарий у меня и вправду вырос на голове один раз. Но – во сне. Иван Афанасьевич заморгал и смахнул слезу. – Ну что ж… Каждый, стал быть, имеет право на особое восприятие… окружающей действительности и конкретных ее представителей… Каждый также имеет право на презентацию. Начну и я, пожалуй, с автопортрета. Да собственно, все, что мы делаем, все, что пишем, что едим и что пьем, включая и оставшуюся посуду (тут Иван Афанасьевич как-то неопределенно повел взглядом в сторону), есть не более чем автопортрет. Визитная, тсзть, карточка… С этими словами ИАХ (далее для краткости будем иногда обозначать его так) предъявил нам этикетку от пластиковой бутылки пива «Ништяк», повернул ее обратной стороной, и мы увидели следующее изображение, комментированное так: – Здесь я причесался, но в сущности я лохматый.  Сколько времени мы провели в молчаливом созерцании шедевра, сказать затрудняюсь. – Хм, хм… Потрясены. Вижу. Без слов понятно. Ценю восприимчивость. Вступительную часть презентации считаем законченной. Продолжим одновременно с трапезой. Прошу занимать места согласно полученным пропускам. Айн момент… Описание окружающей обстановкиИАХ снова развоплотился. За время краткой его отлучки мы успели осознать, что находимся практически в раю: тепло, солнышко ласковое, островок весь зеленый и в цветах, тропическое изобилие, есть даже пальма одна кокосовая; рядом с ней радостно фырчит и прыскает брызгами невесть откуда берущий пресную воду фонтанчик, птички упоенно поют, океан вокруг мирно мурлычет… Даже и «Цинциннат» наш с воткнутым в мель носом, казалось, принял свое положение как естественное и удобное и ничего лучшего не желал. Чуть осмотревшись, заметили, что колонна с флагом выложена не из ракушечника, как мне сперва показалось, а из маленьких бутылочек из-под спиртного, «мерзавчиков», как их ИАХ называет любовно – в глубоких и многочисленных карманах его всегда водятся такие в количествах, почти достаточных для творческого вдохновения… – Мы плывем, – вдруг тихо сказал ДС. – Как плывем?… Куда?… Ой, правда, плывем!.. Медленно, чуть покачиваясь на волнах, островок удалялся от нашего застрявшего на мели корабля. – Не волнуйтесь, обратно приплывем, когда надо будет, весло у меня одно есть… Появившись на сей раз не из воздуха, а из воды, с одного из берегов островка, ИАХ приветственно замахал нам рукой. – Остров мой плавучий, ребята. Плот он потому как. Рукотворный плотоостров. Соорудил сам из бутылок пластиковых, скотчем скрепил. А почву сюда уж сам Господин Океан нанес да ветра буйные. Влажно, светло, тепло, растет все хорошо… Описание начала трапезыСели в тесный кружок на травяном коврике. – Милости прошу, угощайтесь, гости дорогие! Широким хлебосольным жестом ИАХ указал на пространство меж нами, пространство пустое, без каких-либо иллюзий, чем вызвал естественное молчаливое недоумение и дружное сокращение мышц наших желудков и пищеводов. – Вас понял, – добавил он после двухсекундной паузы, выдержанной по всем театральным канонам. – Сейчас сделаем. Фаыутицуарфыфюфысиыф! Никогда не слышал подобного заклинания ни от ИАХ, ни от кого-либо, себя включая, но факт остается, как ИАХ любит говорить, голышом: в сей же миг роскошно накрытая скатерть оказалась меж нами, вся дышащая слюноотделительными ароматами, с икоркой, с лучком, с чесночком, с хренцом, со свежим рыбцом в салате из морской капусты, со всякой снедью… Ну и с сопровожденьицем, как же без этого. – Пьющих, кроме вашего покорного пациента, как вижу, всего полпроцента, ну ничего, мое дело предложить, ваше – решить, употребить или оставить мне на потом, я человек не настойчивый. – Иван Афанасич, а как… Как вы это все… – Сотворяю? А самобранка-то на что?… – Вы ее этим вот фыфюсиыф вызываете? – Угадали. Если БуддА не идет к еде, значит, еда попадет к БуддЕ, вот как заклинание сие переводится, но в том фишка, что каждый раз его требуется произносить по-иному, по-новому, по иномирному, каковое посылается свыше… Я вспомнил о недавней интернетской находке, чьем-то полуплагиате-полупародии – притче о русском буддисте Иване Халявине, и спросил: – Поговаривают, Иван Афанасич, будто в одной из многочисленных предыдущих жизней вы были китайцем, жили, дескать, в провинции Мандариния, слыли буддийским старателем, медитировали… – Возможности не исключаю. За бывшие жизни несу всю полноту ответственности, почему и болею острым стихозом в хронической форме, но жив! Весь век ублажая свое естество, Это к тому, милые, что пора вкусить – не убойтесь изобилия моего, Бог даст, вылечимся! Вот что сугубо конфиденциально написал мне тысячу лет назад коллега ваш Авиценна, а я перевел: Описание некоторых занятии И.Л. ХолявиноТвои болезни лекарю полезны, Закусив по первости, Оля спросила: – Иван Афанасич, что же вы тут на плотоострове своем делаете, чем занимаетесь? – Стихиатрией. Стихотерапевтирую себя и народ. Депресняк изгоняю. Дух подымаю. – Знаем, читаем, усваиваем… Ваши творения уже в поговорки вошли. Вот это, например: По России ветер дует, – Иви пво векваму, – вставился я, жуя. Ради красного словца – А эсо свусайно не мвафе? – жуя, спросил ДС. Чтоб башка варила, мало, – Не отрекаюсь, мое, – признался ИАХ. – На электроплитке сработано. Как-то раз в масленицу в подсобке нашей детсадовской блины пекли с уборщицей Шурой, да заболтались. Блины и сгорели, зато стиховина вышла, народ пользуется. – И вмвы повзуемся… В вабвоте с пвашивентами – нешпошвредственное вуковошство. – Иван Афанасич, а вас сюда… что привело? – на необитаемый ваш плотоостров? – спросила Оля. – Необходимость творческого мирообщения. Остров-то вполне обитаемый, раз тут я нахожусь. А что барахла маловато, так мне и довольно – ноутбучок вот прихватил на солнечных батарейках, живность кое-какую… Не берите с собой много вещей. – А одному тут не боязно? – Бывает, сам себя испужаешься, как умнеть вдруг начнешь некстати. Хуже одной глупой головы может быть только полторы умных, и на сей случай имеется вот такой стихолептик: Отдаваясь великим делам, – А это – ваше или народное? Всякой твари нужен враг, – Мое. Рабочее заглавие «Тоска по империализму». Второй вариант – по теще. – А еще чем тут занимаетесь, Иван Афанасич? – Себя ищу – Так вот же он, вы. – Это не я. Это мое физическое лицо. – А… – Лица бывают физические, юридические, налогооблагаемые, исполнительные, ответственные, общественные, государственные, частные, виртуальные, мультимедийные, кавказской национальности и разные прочие. Вот среди них я и потерялся. Что и увековечил в следующем стихоиде: Трудясь как вол, хрипя, сипя, – Мна эфой пофве быфает, – заметил, жуя, я. – И мне тожко на эфой, – добавил, жуя, ДС. – Ващето (ИАХ настаивает именно на таком, разговорном правописании выражения «вообще-то», а вот, например, интернетного «естесссно» на дух не принимает, это его личная особенность, и с ней нельзя не считаться) – ващето нонича, ежели себя потерял, сходи в антирнет, там найдешь чего и не терял. – Эфо два, – согласились мы, жуя и жуя. – А вот кстати и про всемирную сеть… О присутствии Ивана Афанасьевича Халявина и его предка в Интернете, с последствиямиПо сякрету вам скажу (чтоб ня быть бяде): Прочитав нам этот стихопус, отнюдь не последний, ИАХ, элегически вздохнув, произнес: «За халяву божью! Опрокидон!», поднял рюмашку и грациозно опрокинул вовнутрь. (Я намеренно воспроизвел здесь некоторые фонетические особенности его речи, свидетельствующие о происхождении из глубинки, далее обойдемся обычной орфографией.) – В Интернете этом меня полно уже. Перевирают, живьем крадут… Ну я не в обиде, авторские права мне ни к чему, народными словами пишу сразу. – Но ведь вы все-таки поэт, профессиональный поэт, Иван Афанасич, – уважительно заметила Оля. – Никакой не поэт, – строго ответил ИАХ. – Стихиатр я. Ремесло серьезное. Поэзмы иногда выкондрячиваются, это да, муза – она и в Африке муза. И что правда, то правда: размеры знаю. К примеру, вот. Деду Ивану посвящается: Жил да был дед Иван. Стишонок простой вроде, да? А вот размер не обычный, не частый в русском стихе: амфимакр. – Уф ты… Бррллаво! – проурчал ДС, приканчивая ножку гуся. – Экзистюха крутая… А кто этот дед? Знакомое что-то чудится… – Мой личный дед Халявин Иван, я в него весь и пошел: именем и занятием, характером и кукареком. Это иносказание – кукарек, на самом деле покрепче он кое-что со своего сторожевого дивана сказал. И крепость его и к нему обращаемых выражений историей отмечена: вот интернет-копия заметки Николая Пересторонина из газеты «Вятский край».
– Музея Халявина! – дружно вскричали мы. – Деда Ивана моего? Здравая мысль. Только… Фантики, папироски там, ленты от Ундервуда – это пожалуйста, а вот письмо-то хулительное придется того… в спецхранение. Молодежь в музей ходить будет, дети, сами понимаете. – Дети теперь и не такому научат, – шепнул ДС. – Оно да, – живо услышал ИАХ, – научить-то научат, а мы им – асимметричный ответ, а?… – А они – нам. – Что ж, асимметрия – закон поколений. Нонешние-то младенцы уже с мобильниками рождаются и подключенными к Интернету, вместо сисей и сосок требуют флэшки. Едва встанут на ножки и речь проклюнется, уже переговоры деловые друг с дружкой ведут. Я давеча услыхал, как один из коляски другому грудное молоко по дешевке толкал, по десять баксов за баррель. Ниче, и им всем тоже дедами и бабками быть, никуда не денутся. – А что, дедушка ваш на машинке печатать умел? – Умел. Одним пальцем. Слова типа кукарек. – Ааа… – Сторожил он эту контору, как и я свой садик детский. Из деревенских был, вятских. Знахарская наша порода, колдовать мог, лихорадки заговаривал, бородавки сводил, растительность знал, что чего лечит… Жену губернского заседателя в чадородие возвернул… Сам до ста одиннадцати лет дожил. Помню, говаривал: «Каждая трава по-своему права. Всяческий цветок – истины глоток». – И его, и ваш музей, Иван Афанасич, народу будет жизненно необходим, – убежденно заявил я. – И мой?… Хм… Музей имени кукареее… Кукарек и другие местоименияОглушительный кукарек, взаправдашний, натуральный, прервал речь ИАХ. И хлопанье крыльев, и опять кукарек, и опять… В первые секунды нам показалось, что это Иван Афанасьевич кукарекает, уж больно слилось все акустически и содержательно. Нет, это закукарекал петух. Пегий петух, невесть откуда взявшийся, сидел на флагштоке над трепыхающимся флажком «О. Халявин» и, вцепившись в него голенастыми лапами, в борьбе с земным притяжением судорожно вибрируя и клонясь вперед-назад и обратно, самовыражался с завидным усердием. Обалдев от неожиданности, мы не сразу заметили, что у петуха всего полтора хвостовых пера, гребешок ополовинен, борода размочалена и один глаз искусственный, заменен пуговицей. Размер птицы был невелик, меньше вороны, но голосище безмерной неукротимой мощи. – Все, Петька, сворачивай децибелы, уши людям сломаешь. Чтобы хорошо петь, одного старания мало. А ну – пшшут! – шуганул ИАХ петуха, и тот, вложив в последний свой кукарек столько возмущения, сколько смог, оскорбленно смолк. Соскочил с флагштока и, гордо задрав голову, твердой походкой военного зашагал к кокосовой пальме, замахал около нее пестрыми крыльями, бешено закудахтал и вдруг, взлетев вертикально, очутился на верхушке. Самовыразился там еще раз истошно и стих, потонул в зелени ветвей. – Чувствует себя тут при деле – считает, что будит солнце, – ухмыльнулся ИАХ. – На пальме насест у него. Но есть конкуренция кое-какая… – Еще петух? – удивился ДС. – Не-е, это был бы смертельный номер, второй петух тут бы не выжил, Петька у меня мал, да удал. Кое-кто из другого племени, тоже пацан конкретный, пальца в рот не клади, через что и потрепанность боевую имеем, как видели, – кривоглазие и прочие инвалидности причинил. Пока сам не явится супостат, звать и знакомить не буду7, уж не взыщите, – на рыбалке он сейчас где-то. Я ему: «Ты, браток, лови осторожнее, нынче, сам знаешь, без вреда не вынешь и рыбки из пруда – экологический елдец грядет». А он: «Да ладно, все вы уже и так мутанты, а я как-нибудь разберусь, в рыбке толк понимаю…» Мы остались в недогадках, кто же такой этот завзятый рыбак, выдравший у бедняги петуха хвост, глаза лишивший, бороду и гребешок повредивший, на верхушку пальмы способный забраться… Иван Афанасьевич между тем развил петушиную тему в разрезе общей и мужской психологии. – Петровича я сюда взял по двум причинам. Одна: десятки поколений моих предков по петухам сутки строили, жизненный ритм держали, а я что же? Русскому человеку без петуха жить неправильно. Другая: петух – образец мужественного дерзания и немеркнущего самоуважения. Петька мой вот на что меня вдохновил, верней, вот что изрекает вседневно, а я перевел с петушиного на людской.  Кодекс оценочной независимости Отныне я перестаю – Браво, Иван Афанасич! – зааплодировали мы с ДС. – Это по-нашему! По-мужски! Уверенность должна быть беспричинной! Оценки – по факсу! – Петушиный колорит, и правда, отчетлив, – заметила Оля с контрастной прохладцей. – «Отвага птичья», «жму лапу, а верней, крыло»… А вот «полет к горным высям» – по-моему, уже некоторое преувеличение петушиных возможностей, отрыв от реальности. Вправду, на манию величия тянет. – Так оно ж так и есть, – охотно согласился ИАХ, – о том и толкуем. Каждый петух себя орлом числит, не меньше, и прав глубоко. Практический результат – полное признание таковым и женскою половиной, имею в виду кур, что и требовалось доказать. – Оценочная зависимость от кур, значит, не возбраняется? – продолжала подтрунивать Оля. – Какая же это зависимость? Зависимость – это когда то, в чем ты нуждаешься, будь это еда или любовь, выпивка или чье-то признание, может менять свое количество и качество, может то быть, то не быть, и тебе от этого либо хорошо, либо плохо. А признание петуха орлом со стороны кур – величина постоянная, все тут, как говорится, схвачено, обеспечена полная оценочная уверенность и стабильность самооценки на высшем уровне. – Далась вам эта самооценка… А без нее – никак? – Совсем без самооценки жить всего лучше, это я и проповедую, исходя из принципа всеотносительности и сверхпревосходства духа над превосходством тела. Но прийти к безоценочности, живя в рыночном мире сравнений и зависти, не так-то легко, требуются усилия и души, и ума. У всякого коня длинней, Прошу извинения у почтенных господ и дам за некоторый натурализм вышепрозвучавшего стихоида, но, согласитесь, образчик торжества духа над телом более чем наглядный. Путь к безоценочности есть путь наверх по спирали самоутверждений и самоотвержений. Один из первых этапов моего пути – вот. Неакселератпеснемарш для избавления от мужских и всех прочих комплексов под барабаны, тарелки, блюдца и другие ударные Просто нет житья  Роста ИАХ действительно невысокого: «метр с кепкой». В юности это причиняло ему понятные неудобства, что и отражено в песнемарше и с его же помощью и с применением боевых искусств (бокс, самбо и айкидо) успешно преодолено. О себе и о мухах творчестваМузей имени мене тоже идея неплохая, но преждевременная, – продолжил ИАХ свою прерванную кукареканьем мысль. – Материал не добран еще. Жизнь человеческая что есть такое?… К себе дорога. Не к внешнему какому-то там лицу, ему каюк обеспечен, а к сущности сокровенной, к душе – чтобы отождествиться с нею и совершиться… Каждый ищет себя впотьмах в этом вот загадочном смысле, и я поэтому здесь на острове очутился… Позвольте же представить еще некоторые, как бы сказать поплотней, столбики на пути к себе. Самоопределявина Ивана ХалявинаБредет по узким улочкам культура, Что за мухи такие, желаете знать? Мухи творчества. У кого-то там муки творчества: на стенки лезут, в запои ухаются, в депресии, чуть не стреляются, – ну а меня, слава те Господи, миновало такое, у меня только мухи, не более. Но ведь тоже – поди попади в нее, в муху-то!.. 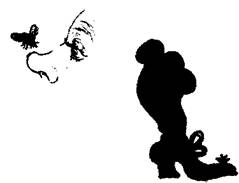 Настырное, между прочим, животное! Покоя душевного не дает! До того доходит, что иной раз и себя с ней сравнишь ненароком… О широте мира и узости сознанияКакой мне прок, что мир широк? Отчасти знакомое состояние, да?… Всяк содержит в себе зверинец, всяк в сущности – смесь подсущностей: зверосущностей. Некоторые глубоко скрыты, другие не глубоко, а иные прямо и выпирают. Я подсущности свои любознательно изучаю и вам того же желаю, гости мои хорошие. Нежелание вылезать из своего сапога-пирога при всяческих на него жалобах – состояние, характерное и для многих других наших потаенных зверюшек. Вот, например: СиндромСыч сидит на ветке, – Это вы о себе, Иван Афанасич? – с беспокойством спросила Оля. – Об одном приятеле, ну и о себе тоже отчасти, в определенные, тсзть, полосы существования. Приходится иногда, знаете ли, выбирать мордус живенди: иной раз между депрессией и паранойей, иной – между трудоголизмом и алкоголизмом. – Знакомо, Иван Афанасич, – подтвердил я. – Одно другим не вылечивается, но возмещается. Трудовые будниЯ ленился целый день.  О себе и о лени: развитие темы Верно ли я поняла, что лень – одна из ваших проблем, личных и творческих? – вопросила Оля. – Что есть проблема? – встречно спросил ИАХ. – Всюду слышу: «проблема, моя проблема, ваши проблемы» – значение термина не постигаю. Вижу только, кругом все какие-то запроблемпсованные. А лень уважаю, как ее не уважать. Родная сестрица сна, царица душ и умов. В трехсловье «вставать нельзя лежать» запятую кисельной ручкой ставит после второго слова. Бывало, как одолеет – валяешься и валяешься, спишь и спишь. А когда и не спится при лени, то уже депреснится что-то, и навязчивая мыслишка свербит, что, мол, если бы Бог был вполне здоров, ему не пришло бы в голову создавать человека. Встанешь по надобности, пройдешь мимо зеркала, отвернув, сколько можешь, в сторону переднюю часть головы, по недоразумению называемую лицом. Искренне улыбнуться самому себе очень сложно, а доктор советует… Телик включишь: а вдруг что-то важное выдаст. Ага! – рекомендацию выдает: бери от жизни все, а потом догони и еще получишь. Пошли на фиг, думаю, все у меня есть, а чего нет, то не вы дадите. Однажды зимой проспал с бодуна так долго, что опоздал даже в круглосуточный магазин. Эх, думаю, теперь все одно, опохмел пролетел, буду дальше спать. Проснулся на обеденный перерыв. В окошко на двор гляжу: пьяный снег – не успел пойти, уже лежит. Обед варить лень. Скушал пельмень – временно пообедал это называется. Почему-то после того, как подкрепишь свои силы, хочется лечь и отдохнуть. Отчего бы не отдохнуть? – Сыт ведь я? – Сыт. Одеждой и теплом обеспечен? – Вполне: есть целых полторы пары целых кальсон. Прилягу-ка я, посплю, а если не усну, встану и пойду работать, тогда уж точно усну. Так и вышло: лучшее из снотворных для творческого человека – труд умственный. Нет на свете дороги длиннее, чем день. – На Хайама похоже, – не удержался ДС (он любит Хайама и кое-что переводил из него для себя). – Перекличка через века, – подтвердил ИАХ. Великой жадностью как пламенем объятый, – Чистый Хайам! – воскликнул ДС. – Я даже, кажется, первую пару строк где-то видел.  Жанр «ругайя» и того около Жанр «ругайя» и того околоДа, это Хайам, только из недописанного. Не успел он – дописал я две нижние строки, пособил… Цикл целый у меня есть: хайямины, а также ругайи, заместо рубайев, значит. К примеру вот. Ты одинок уж тем, что ты родился. Эта ругайя в основном самому себе адресована и потому номер один имеет, заметьте. А послемыслие к ней уже в другом жанре: МанифестявинаОдинокие всех стран, соединяйтесь! А вот это - О современном читателе ругайя № 111О, как читатель поредел. – Сурово, Иван Афанасич, – отозвался ДС, оторвавшись от клубничного кейка. – Сурово, но справедливо. Ругайя – любопытное пополнение сатирического жанра, хотя строфа не омаровская. – Тут в содержании основная сермяга, хотя форма тоже передает суть, не поспорю. Хайамовскую строфу, между прочим, и не все переводчики соблюдают. Язык русский наш всякую иномысль и инакообраз воспринимает, но и свои требованья прилагает к гостеприимству… О несовместимости саможалости и любви к себеВ нетопленой избе я понял суть урока: Строфа в этой саморугайе хайамовская, не так ли? А содержание уже больше нашенское, расейское, хотя и общелюдское в немалой степени, как и здесь: Алаверды Омару от Кальмара X Аль АвинаЯ понял: глупость – злейшее коварство, Это из рукописи «Сезонная распропажа», в работе пока… И вот про дружество тоже уж кстати. О Неопознанных Вещающих СубъектахНе всякий друг Оля зааплодировала, ДС хотел добавить что-то еще, как вдруг слова его заглушило громкое хрюканье на высокой ноте, окончившееся пронзительным «уиииииииииии»… Сеанс гипноза с оправданиемВ тот же миг на скатерти-самобранке появился розовый, свежежареный, душистый, дымящийся поросенок в яблоках, с завинченным хвостиком и улыбкой Будды, с цветком ромашки в зубах. Все мы дружно ахнули, наши желудки тоже, и застыли в экстазе гастрономического благоговения. Иван Афанасьевич же, слегка насладившись произведенным впечатлением, садистски сказал: – Не для еды, извините. Для вдохновения. Это не блюдо. Ма-те-ри-а-ли-зо-вав-ша-я-ся мыслеформа. – Наглядное пособие? – упавшим голосом спросила Оля, сглотнув слюну. – В некотором роде. Демонстрация психотворения, голограмма. – А как же запах? Дымок?… – Сила внушения. Гипноз. Коллективное надувательство. Свинью вам подложил без зазрения совести, но – с оправданием: Апология Свиньи, к году Золотой СвиньиСвинья – не праздное животное, Последнюю пару строк ИАХ прочел с особой выразительностью, сделал опрокидон и продолжил. Свинья – не грязное животное,  Явление кота народу. Кошкотерапия и пр. Явление кота народу. Кошкотерапия и пр.Мощно хрюкнув на прощанье, подмигнув одним глазом и выплюнув ромашку, поросенок исчез. Ромашка, что характерно, попала в рюмашку ИАХ, точно по рифме. ИАХ осторожно извлек ее оттуда, стряхнул капли себе в рот, а цветок протянул Оле. Робко, двумя пальцами Оля взялась за стебелек. Ромашка была настоящая. Не мыслеформенная. – Поняааатно, – загадочно протянул ДС. – Что понятно? – поинтересовался ИАХ. – Про хрюкосущность понятно. – Рад очень. А это к ней послемыслие, моральное, тсзть, начехление. В своем домашнем бардаке Или, прозой выражаясь, лучше самому быть свиньей, чем в свинстве участвовать. – А другие подсущности или, может, надсущности посещают вас, Иван Афанасич? – спросила Оля. – Разумеется. Как-то во время психоэкстатического сеанса «Интегросуть» по методу доктора Лопатова подслушал, как подсущность гуру-собака говорит подсущности щенку-ученику о реинкарнаци: В нашей жизни собачьей На последнем слове последней строчки… Ну да, читатель уже ждет еще чего-нибудь эдакого мыслетрансформенного – ждали, вздрюченные мистическим поросенком, и мы, и в ожидании не обманулись: раздался громкий, довольно-таки противный, а если честно, почти матерный мяв. Раздался со стороны океана, который окружал нас со всех сторон. И матомяв или мявомат тоже, казалось, со всех сторон нас окружал, как и в жизни, но источника видно не было. Иван Афанасьевич понимающе улыбался. Позвал: – Хвостик! А ну, подь сюды. Кыс-кыс-кыс. Хвостика не последовало, но мяв прекратился, и наступила блаженная созерцательная тишина. Мы осмотрелись. Воды и небеса, небеса и воды… Плотоостров Халявин продолжал тихо плыть, а Океан Настроений жил вокруг своей жизнью, жил и дышал. Летучие рыбы стайкою, словно школьницы, вылетели из набежавшей волны и обдали нас веселыми солеными брызгами. Еле различимо маячил вдали «Цинциннат». Беззвучно, как во сне, прошествовала огромная водяная гора – волна-небоскреб. Шла было на нас прямо, но передумала… Какая сила, спрашивали мы себя, все это откуда-то вызвала?… Как облекла чувства, мысли, переживания, судьбы целые, жизненные истории – в вещества, в существа, в плотность, в зримость, в слышимость, в ощутимость на ощупь, на вкус и запах?… Неужели все это только игра нашего воображения, забавы фантазии и словесные изыски? Не думается ли вам иногда, милый читатель, что и тот живой, ласковый и жестокий мир, который нас с вами окружает, от которого мы плоть и кровь – тоже Чье-то воображение, игра или сновидение?… Негромкое, но отчетливое чавканье, вперемешку с рыкоурчанием: «рррмвавава!.. рррмввууррр!», заставило нас прервать размышления. Прямо перед нами на скатерти-самобранке сидел кот энциклопедически-помойного цвета, иными прилагательными передать окрас его затрудняюсь. Драный и рваноухий, как уважающему себя коту полагается, сидел кот – и жрал. Со скоростью необычайной, как пылесос, влопывал в себя последние остатки того, что только что было, казалось, образчиком неизбывного и немеркнущего кулинарного изобилия. – Ну кыш, кыш, хватит жадничать, – с напускной строгостью обратился к коту ИАХ. – А впрочем, чего уж… Доедывай, как говорится, угоючено. Щас еще сделаем: шгетмадпоаопоегопивпоф! Скатерть разом пополнилась, а кот отскочил в сторонку, облизываясь и тракторно мурлыкая. – Так вот кто петуший супостат, – догадался я. – Еще одна подсущность? – спросил ДС. – Вай нот иф ее, – подмигнул ИАХ чуть исподлобья, слегка наклонив голову и приподняв одно плечо так, что сам стал смахивать на кота. – Люблю мя-ясо, в людях кое-что понимяу… в крышах…  – Как звать? Хвостик, да? – осведомилась Оля. – Хвостик – это аббревиатура, – важно сказал ИАХ. – Для домашнего употребления. А полное имя, прошу любить и жаловать – Нахвостодоносор. – В честь этого? Как его… На ухо… На в ухо… – Не столько в честь, сколько в отличие. Вавилонский царь Навуходоносор, вами в виду имеемый, доносил сведения о себе людям на ухо, точнее, в ухо и на. Мы же с Хвостиком именно и исключительно на хвосте доносим до мира сего весть о собственном существовании и необходимости его всемерного расширения и всевозможного продолжения. Нахвостодоносор, словно в подтверждение слов ИАХ, вдруг впрыгнул ДС в тарелку, хвостом же действительно, донес нечто до его носа. – Тааак, – протянул ДС. – А знаете ли вы, милорд, что имеете дело с психиатром? И сверх того, опытным кошковедом и котоводом? – А ну-ка брысь, – поспешил загладить неловкость ИАХ. – Это он от гостеприимства ошалевает, притворяется невменяемым. А в остальном воспитанный и психотерапию умеет производить. – Да? – встрепенулась Оля. – В каких случаях? – В моих частных конкретных случаях перебора и недоопохмела. Перебираешь денек-другой, запой надвигается – тут как тут котяга, тигром глядит, чертом носится, метить все начинает, в подушку презенты кладет – поневоле завяжешь, покуда не выветрится… А в похмельном страдании жалость к тебе имеет, на грудь садится, мурчит, тоску утоляет и успокаивает лучше любого феназепама; или же на плечо – к голове жмется, снимает боль… – Могу засвидетельствовать, – поддержал я, – кошкотерапия – реальное средство вспомоществования при разнообразных недугах, включая и депрессии, и зависимостные отягощения. – А собакотерапия? – спросила Оля. – У меня как-то больше с собаками лад… Как раз на слове «собаками» Нахвостодоносор очутился на коленях у Оли, и последовала короткая неразбериха, завершившаяся Олиным взвизгом и пружинным соскоком кота. Оля вскинула оцарапанную руку, а кот – свой ободранный хвост и напряженно задергал им из стороны в сторону. – Спокойствие, – произнес Иван Афанасьевич – Ручку мы щас поправим: фуххь! – нежно дунув на кровоточащую царапину, ИАХ произвел скругленное движение рукой вверх, словно подбросил воздушный шарик, и царапина на наших глазах вмиг побледнела и почти затянулась. – А с тобой, друг сердешный, поговорим. Посмотрел на кота. Специально так посмотрел, гипнотически – не берусь описывать, не получится. Факт лишь тот, и его придется оставить истории, что Навухо, простите, Нахвостодоносор – под взглядом Ивана Афанасьевича заговорил. Прошу только без чересчур близких популярных аналогий. Никаким булгаковским Бегемотом или гофмановским продвинутым котярой не пахло. Речь Нахвостодоносора была не звуковой, а двигательной, пантомимической, но от этого не менее, а более выразительной. Перевод же ее в слова с целью обнародования осуществлял сам ИАХ, произнося вслух ответы кота на его вопросы. – Объясни, паршивец, с какой целью ты прыгнул на колени к этой любезной даме, притом без спроса? – Попрошу не грубить, я не паршивец. Я породистый уникальный кот высшей категории. Особе этой хотел доказать, что именно мы, племя кошачьих, являемся наиболее достойными уважения, преклонения и обожания существами. – И что, царапнувши – доказал? Доказательство было прервано. Вместо того, чтобы воспринять передаваемою мною сообщение, меня начали поглаживать и придерживать, чуть ли не обнимать, а вам ли не знать, что объятие – всегда немножечко удушение. Я и дал понять, что не терплю подобного обращения: кот я, однако. – А не собака, да? – Ф-фу, собаки! Презренные существа! Вонюги! – Отношение понято. Ну, а люди тебе как?… – Люди – полезные животные, если не пристают, не фамильярничают и не забывают своих служебных обязанностей. Я отнюдь не противник человеководства. Когда есть хороший дом, все условия, почему бы не завести людей в умеренном количестве? Можно и одним экземпляром обойтись, если приучить его соблюдать график поставки продуктов питания, обеспечения наличия мягкой мебели, тепла и других необходимых составляющих нашего бытия. Главное, чтобы перебоев не было. – Почему ты уверен, что мы предназначены служить кошкам и обязаны тебя кормить и ублажать? – Потому, что это доставляет вам удовольствие. Потому, что это у вас получается – обслуживать нас – у одних лучше, у других хуже, у третьих совсем нет, но в основном прилично. Наше племя начало приручать вас с той поры, когда вы еще не понимали, что вы люди, то бишь наши слуги. Вы сопротивлялись приручению упрямо и долго, кое-кто сопротивляется и сейчас… Нам пришлось пойти на многие жертвы: резко уменьшить размеры, привыкнуть ловить недостойную мелочевку типа мышей, ластиться и так далее. Но ведь это не вечно. Мы, кошки, умеем ждать. А вы, люди, – не умеете… Внезапно ИАХ опустился на четвереньки рядом с котом, слегка выгнул спину, и мы услышали: Человек носит в своем мундире – Это была Песнь Нахвостодоносора, – пояснил, поднявшись с четверенек, Иван Афанасьевич. – Гимн кошачьего племени и предупреждение роду человечьему… Эй, куда?! Ух, прохвост! Кот вырвался из гипноза. Сначала метнулся к воде, потом резко в сторону – и полез на пальму. Уже почти до верхушки добрался, уже петух гневно вскудахнул и залопотал крыльями, но меткая рука ИАХ вовремя запустила в кота уткой по-пекински. Остановленный неслабым ударом, Нахвостодоносор, скребя всеми четырьмя лапами, с гнусным мявом заскользил по ребристому стволу вниз, соскочил наземь и, нервно отряхнувшись, уселся стеречь петуха под пальмой. Утка же по-пекински, к нашему удивлению, после столь необычного использования вниз не упала, а совершив в воздухе немыслимый пируэт, вытрясла из себя огурцы, блины и еще какие-то составляющие, расправила крылья, верней, то, что от них оставалось после кулинарной обработки, – и… Полетела. Полетела в сторону нашего сидящего на мели «Цинцинната» – и, едва различимая, села на мачту, словно напоминая, что скоро пора отчаливать… Но спешить нам никуда не хотелось. О женщинах, о любви, о семье, о музыке…Самобранка тоже решила помедлить: уставилась разнокалиберными десертами, среди которых выделялся щедрым размером мороженый торт «Парнас» в виде скульптурного изображения хозяина острова в окружении девяти муз, в царском одеянии, в отличие от минимального, в коем присутствовал. Приступая к употреблению, Оля спросила: – Иван Афанасич, а вы женаты? – Гм… (длительная пауза). – Извините, не хотела вас смущать. – Отчего ж? Никакого смущения, просто считаю. Припоминаю, сколько раз, тсзть, сподобился… Как-то Шура, уборщица детсадика нашего, где я сторожевал, руку мою взяла и говорит: «Дай, Иван Афанасич, по ладошке тебе погадаю…» – «Ну, ну, погадай, говорю, на счастье». – «Ой, ой, Иван Афанасич, ну и счастливый же ты человек будешь». – «Почему буду? Уже есть». – «А будешь-то какой счастливый! В семейной жизни – вот тут на руке написано: счастлив в семейной жизни… Ой, батюшки! Много раз счастлив в семейной жизни!..» И правда, в семейной жизни бывал счастлив неоднократно, а нынче временным отсутствием таковой наслаждаюсь. Не исключая дальнейших опытов, подвожу промежуточные итоги. Счастье номер один было счастьем наивности, ею же и уничтожилось. Как, впрочем, и остальные все… Жил тогда в деревне еще, в Кулебякине своем, годков было двадцать один, с армии аккурат вернулся, в колхоз пошел трактористом, все наши парни трактористами вкалывали, а кто постарше, тот комбайнером, другого выбора не было, как и водки иной, кроме «Московской» с белой головкой. Женку взял из соседнего Свиньина. Не подумайте лишнего – деревень таких по Руси навалом, а в Вятском нашем краю почти что через одну. И фамилия девичья у Мани моей была Свиньина, вся деревня у них Свиньины, кроме семьи одной, те – Кабанчиковы, курям на смех. Никакого комплексования по поводу фамилии у супруги моей не было: все кругом Свиньины, так чего же? И самолюбием вроде повышенным не страдала, милая была, работящая, свекольник вкусный варила… А вот поди ж ты, на самолюбие ее и напоролся, да как! Через искренность, через любовь! Через стиховный свой дар! Шел как-то опушкой лесной, красоту закатную наблюдал… Строчки вышли под дятловый стукот: Солнце клонится к закату, И вправду любил овощ сей и ныне люблю – чистит кровь, печень ласкает. А женку – ну как не любить, на первом месте она, а свекла потом… Только не поняла она этого. Как принялись строчки мои частушками петь – народ понял! – ушла… Вывод зрелых лет: О предупреждении любовного травматизмаПостигнуть, как любить, о молодые люди, Спросите: как понимать? Отвечу: почти буквально. На бабочек поглядите: любовь есть танец, полетный танец! И счастье в нем, и несчастье скрытое, ибо придет и конец, но главное – радость движения вместе, миг вечности – полетное упоение! И брачный союз танцем душ и тел должен быть, чтобы не умереть заживо. В танце что основное? Доверие: подвижное равновесие взаимопритяжения и взаимосвободы. На почве этой благодатной цветут фантазия, юмор, игра – всяческие затеи – спасители отношений, иммунные средства от скуки, злобы, измен. Если ж недостает затей, то и при самых благих намерениях происходит взаимное намагничиванье негативов, и отношения протухают. В голоске у каждой дочки Коли так повернется, лучше – развод. И тогда… Чем меньше женщину мы больше, – Это что, алаверды Александру Сергеевичу? – спросил я. – Оно самое. Притом, обратите внимание, сугубо стихиатрическое. – Мне не нравится, – твердо сказала Оля. – Мужской шовинизм, да? – улыбнулся ИАХ. – Вот именно, притом в пассивной его форме. – Дык это ж для мужичков пропись. А для вас вот: Если бы Пушкин был женщиной, или фэйсом об тэйблЧем меньше мы мужчину любим, – Спасибо за добрые советы, Иван Афанасич, но кажется, эти стихи я где-то уже читала… – Был грех. Спер. Для «Травматологии любви». За свое выдал, – признался я, опустив глаза. – Ниче, прощаю. Ради пользы дела душеспасания и психопросвещения на что не пойдешь, – великодушно сказал ИАХ, совершая очередной опрокидон. – Я вот тоже работаю алконавтом не ради собственного удовольствия, а для всехнего блага по преимуществу. Огонь на себя, тсзть… Отчего порой и оказываюсь по части творческой потенции, научно выражаясь, в неконсистенции: Явилась муза в неглиже. Мы было заухмылялись над несколько озорным двустишьицем, как вдруг увидели, что ИАХ плачет. Горько, навзрыд, ручьем слезы, две струйки стекли прямо на «Парнас», на голову мороженому Халявину, которого еще не успели съесть, отчего выражение его лица тоже стало плачущим. – Иван Афанасич!.. Что с вами? Расстроили мы вас? Чем-то обидели? – всполошилась Оля. – Не… не… Ни… ничего… – Иван Афанасьевич, да вы что? – вскинулся и ДС. – Если вы из-за творческой самооценки горюете, то напрасно. Вы самородок. – Поэтому-то я у вас и… подтибриваю… таскаю… заимствую кое-что, – неуклюже поддержал я. – Это вот тоже… без разрешения… для профнужд… Настоящая депрессия – – Не… не о том я, ребята, не… Не обращайте внимание на придурка поддатого… пьяные слезы… Как доктор говорит, маятниковая отмашка от эйфорического благодушия… А тоска моя горькая о любви несказанной, о Недоступной моей, и слаще тоски этой ничего для меня в жизни нет… Помните, доктор, пригласили вы меня как-то на свой домашний концерт музыку послушать и почитать мое кое-что. – Было такое, и не раз, – подтвердил я. – Среди прочих выступала на том концерте девушка-скрипачка, студентка консерватории. Имени намеренно не назову, но вы помните… – Да… Концерт Моцарта играла, Прокофьева… – Играла двояко: и плохо, и хорошо. Плохо, потому что допускала много технических погрешностей, неряшливостей исполнения – я, хоть и не музыкант, слух имею, к несчастью своему, абсолютный, малейшая фальшь мучает, тем паче скрипичная. А хорошо – потому что свежо, искренне, душеполетно, музыке отдаваясь как любимому человеку в первый раз отдаются… Так двояко и проняла меня игра ее – и наслаждением, и мучением. Тут же импровизнул: Мой милый друг, игра на скрипке – Да, помню, Иван Афанасич, вы это прочли, не глядя на адресатшу, но все поняли, адресатша покрылась пунцовым румянцем… – Законы красоты смешны… Это ж надо так… А ведь правда, кажется, – прошептала Оля. – Вот в тот-то миг, когда она закраснелась, – продолжил ИАХ, – в тот миг я и ощутил… Она это, Она – муза моя и любовь до скончания лет. Перевлюблялся я много раз, а теперь причалил. Нотные значки – Это Ей – и другое многое… Это тоже: Не бойся взгляда свысока, А этот стихотропный препарат предназначен был в качестве антидепрессанта себе самому, а пригодился как действующее предсказание Ей – и… Стишки-пирожки: прощальные подарку Ивана АфанасьевичаКогда продолжит зло свои атаки, Иван Афанасьевич умолк и задумался, лицо приняло выражение собранное, словно и не был под градусом. Мы же, впечатленные последней порцией стихиатрических снадобий, не заметили, как подчистую смели всех девятерых мороженых муз; оставался нетронутым лишь парнасский ИАХ – никто не решался приступить к нему первым, что-то сдерживало; да к тому же и внешний вид кулинарного экспоната в результате облития слезами и подтаивания существенно переменился: он уже не стоял в величественном облачении вдохновенного пиита, а смирно сидел в подобии позы лотоса; одеяние подрастеклось, особенно на животе, черты лица смазались, и общие очертания стали напоминать то ли Будду, то ли китайского божка веселья, общения и удовольствий – Хотэя. Заметив нашу заминку, ИАХ участливо спросил: – Насытились презентацией, да? Демьяново угощение уже?… Ниче, щас трансформируемся. Тут скатерть-самобранка начала потихоньку скукоживаться, менять форму, а остававшиеся на ней яства вместе с приборами, соусами и напитками плавно поднялись в воздух, заставив следовать за собой наши завороженные взоры, – и оказались над верхушкой кокосовой пальмы, той самой, на которой сидел петух, а у подножья дежурил кот, – как раз там, где произвела свой трюк утка по-пекински. Повисев и покивав нам прощально, неотведанные угощения потянулись, как стайка перелетных птиц по бирюзовому небу, туда же, куда улетела утка – в сторону «Цинцинната». – Провиант вам на обратную дорожку, запасец не повредит, – пояснил ИАХ. Этот нечаянный намек нельзя было не понять. Мы поднялись с мест. – Спасибо, Иван Афанасич, было очень… – Погодите, погодите, а на посошок? – ИАХ жестом показал, что такое посошок для него. А что для нас – мы увидели, глянув на самобранку. Скатерть обрела вид возлежащего на траве большого вопросительного знака. Внутри него от конца до конца, друг за дружкой пунктиром был выложен ряд свежеиспеченных, невероятно вкусно и разнообразно пахнущих пирожков. Успел сосчитать – тридцать три. Величины одинаковой, а формы все разной: где цветочек, где рыбка, где воробьиное гнездышко, где устрица, а один, особо мне приглянувшийся – в виде зверя тянитолкая о двух головах. Я сразу на него и нацелился, и это не ускользнуло от внимания ИАХ. – Можно, можно и даже нужно… Какой унюхала душа, тот и берите. Только надламывайте, прошу вас, с осмотрительностью: внутри каждого выпечного изделия, кроме начинки чревоугодной, еще кое-какая имеется. Пирожковая лотерея, давняя затейка моя для желанных гостей… Смелее!.. Ну давайте с вас начнем, – видя, что мы с ДС оробели, обратился ИАХ к Оле, – ледиес ферст, бусурмански выражаясь, сударыня в первую очередь… – Ой, а мне страшно, – сказала Оля с непритворным трепетом. – Здесь что, предсказания? Как в китайских ресторанных печеньях? – Здесь информация, – закрыто сказал ИАХ. Оля опустилась на колени, зажмурила глаза, протянула руку и вслепую нашарила пирожок-рыбку. Разломила. Вынула бумажку. Прочла вслух: Я этой истины куски глотал, – Не нахожу, что возразить, Иван Афанасич, но как в жизни применить, не представляю. Стремиться к поражениям в любви, по-моему, излишне, они и так косяком идут, поражения, одни прямые и откровенные, а другие… – В виде побед, эти единственно и страшны. Кто предупрежден, тот вооружен, разумейте… ДС поднял и разломил пирожок-гнездо. Вынул бумажку, пробежал текст глазами. Читать вслух не стал, передал мне. Я озвучил. Все в порядке. Новости худые Глядя молча друг на друга, мы с ДС несколько мгновений простояли в немой сцене, словно у Гоголя в концовке «Ревизора», когда городничему и его свите объявляют известие о приезде Настоящего Ревизора… Иван Афанасьевич сцену прервал. – К прочитанному стихиатрическое послемыслие родилось, вы позволите? Пушкину легкий отзвук… Уходит все, что мило – – Это обнадеживает, Иван Афанасьевич, – произнес после паузы ДС. – Этому хочется верить. И как-то верится даже, когда пьяная смерть дуреет и, как черепаха Тортила, выбалтывает свою тайну… – Во-во, старуху костлявую поить надобно чаще, добрее будет… Теперь ваша очередь, доктор. Меня охватило волнение. – Может, мне уже не надо, Иван Афанасич? Может, хватит уже?… Нам домой пора. – Не мандражируйте, док, – непреклонно сказал ИАХ. – Тяните, или я потяну за вас… – Ладно, будь что будет. Я вскрыл своего тянитолкая и прочитал: Альтерэго – что телега: – Намек понял, Иван Афанасич. Учту. Буду думать, куда поклажу свою пристраивать. Людей творческих и занятых грузить своими заморочками, действительно, небезопасно: того и гляди, в приступе вдохновения изобразит тебя каким-нибудь персонажем, своих грехов и комплексов вдобавок к твоим понавешает или пошлет так далеко, что… – Да полно, доктор, не шибко берите в голову. Дружеская подкавыка, не более. Я же, вы знаете, всегда готов своему пациентскому предназначению соответствовать, лишь бы горючего хватило… Совершив опрокидон на посошок, Иван Афанасьевич чуть насупился и сказал: – Ну с Богом, тяну и я свой жребий… Взял крайний пирожок – тот, что лежал в самой нижней части вопросительного знака, в его точке. Формы самой простой – колобок. Прочитал: Кредо жаворонкав прыжке возвышенном – Жаворонка живого кто-нибудь видел-слышал из вас? – спросил Иван Афанасьевич. – Я слышал однажды, – сказал ДС, – когда на велосипеде ехал полевой тропкой; но увидеть не удалось, где-то он высоко порхал, солнце мешало… – А я наоборот, видела жаворонка висящим над полем, крылышки так быстро двигались, что похожи были на полупрозрачный веер, но пения никакого не было слышно. Потом камнем вдруг – вниз… – Эта песня его, Оленька, и была главная: внезвуковая, запредельная песня, молитва о жизни. А отзыв ей – снизу, от подружки-жены, и, падая, он кусочек неба с собой для нее прихватил… Иван Афанасьевич длинно посмотрел на небо, и нам показалось, что вот-вот… Нет, жаворонка не появилось, но откуда-то издалека начали доноситься звуки, похожие на трели… Да, именно – звуки из глинковской песни о жаворонке, трельные припевные звуки: лялялялЯ – ляляляляЯАА… И мы поняли: это зовет нас наш «Цинциннат». Было бы неправильно, было бы просто странно, если бы у фрегата не было музыкальных позывных, приглашающих команду к работе. Трели жаворонка – как раз то, что надо. Иван Афанасьевич подошел к колонне с флажком, пошуровал под ней, вытащил небольшое весельце, встал у берега, он же край плота, и мы двинулись… Последний же тост, произнесенный Иваном Афанасьевичем, был такой: Тост сторожа детсадаКуда нам, взрослым, деться?  Возращение к «Цинцинноту» Возращение к «Цинцинноту»Кто объяснит, почему так происходит?… Всегда, ну почти всегда, с очень редкими исключениями: когда приезжает или уезжает мой гость, особенно если это близкий, дорогой хмне человек, или когда я сам отбываю далеко или издалека прибываю, – резко меняет свой знак погода. И в том месте, откуда прибыл, и в том, куда… Загадка эта не только меня касается, а похоже, всеобщая – недаром в народе говорят о прибывших: «погоду привез». Либо хорошую, либо… Погода на нас влияет и тем может предопределить некоторые события жизни – это понятно. Но как объяснить влияние обратное? Или это другая, не причинно-следственная событийная взаимосвязь, а клоническая (от слова «клонировать», воспроизводить повторно) – по соответствию сути или виду, по рифме?… По той же закономерности, какая понуждает собак и их хозяев быть иной раз столь похожими друг на дружку, что и не сразу различишь, как говаривал первый и последний президент СССР, кто есть ху?… Как бы то ни было, а погода в Океане Настроений вполне срифмовалась с нашим отплытием: не успел плотоостров Халявин усилиями своего хозяина направиться в сторону торчавшего на мели «Цинцинната», как внезапно задул ветрище, все более шквалистый, пошли волны, все более крупные и увесистые, небо заволоклось мутным маревом с клочковатыми, бегущими вперегонки тучками, похожими на мохнатых монгольских лошадок… – О-о, к шторму дело! – бодро сказал ИАХ и усилил работу веслом. По счастью, ветер дул как раз в направлении нашего корабля, нас на него несло. Увидев это, Иван Афанасьевич вынул весло из воды – зачем помогать стихии, она и так совершит свое – и прилег. – Вы тоже прилягте на всякий случай, чтобы порывом не сдуло, – посоветовал он. Мы легли рядом. Слышно было, как на колонне отчаянно трепыхается островной флажок, потренькивают, посвистывают и подвывают «мерзавчики», превратившиеся в духовые инструменты… Я посмотрел на пальму: ветер немилосердно трепал ее ветви – как-то там приходится петуху?… – Придется поскучать без гостей-то, – вздохнул ИАХ. – Когда пожалуете теперь? – Скоро, Иван Афанасич, – поспешил я заверить. – Плавание наше ведь не заканчивается, в следующую книгу плывем. Обязательно завернем. – И собаку вам можем привезти в следующий раз, хотите? – спросила Оля. – У моей подруги щенки… у пуделихи то есть щенки ожидаются… – Насчет собаки оно конешно, псовую братию люблю, но в нашем островном клубе холостяков придется совет собирать, голосование проводить. Петьку особо уговаривать не понадобится, а вот Хвостик, боюсь, вето наложит… – А обезьяну хотите? – предложил ДС. – У моего друга-психиатра живет юный макак, точь-в-точь на него похожий, просто до неприличия. Последнее время сладу с ним нет: факс сломал, компьютер изгадил, бросается с люстры на пациенток… – Переходный возраст, – уточнил я. – А у вас тут все условия для сурового мужского перевоспитания. – С обезьяном общность найдем, – твердо сказал ИАХ. – Изъяны исправим. Заметано. Очутившись вблизи «Цинцинната», мы обнаружили радостный сюрприз: с мели его снесло. Вибрируя и прихлопывая парусами, фрегат плясал на мощных волнах, показывая свою остойчивость – качество, особо ценимое моряками и завидное для сухопутников: способность возвращаться в равновесное положение при самых, казалось бы, безвозвратных от него отклонениях. Оставалось только подчалить к бортовому канатному трапу, уцепиться за него и взобраться на палубу, как вдруг Фортуна, до сего мига мило нам улыбавшаяся, оскалилась и показала ту часть своего тела, которую видят обычно существа невезучие: ветер резко задул в противоположную сторону. Плотоостров стремительно понесло обратно, он летел по волнам, уже холмоподобным, с гребня на гребень, проваливался в междуволния, снова вздымался, «Цинциннат» удалялся… – Стоп! В воду не прыгать! – скомандовал ИАХ, заметив мое импульсивное движение. – Не гоношись! В дрейф – ложись! – Мальчики, назад едем! – крикнула Оля голосом, в котором смешались отчаяние и торжество. – В клубе холостяков будем жить! – Как бы не так, – возразил ДС. – Кто как, а я еще норму супружасов недовыполнил… – А теперь прыгайте! – приказал внезапно ИАХ, как раз в миг, когда плотоостров наш оказался в лощине между двумя громадными длинными волнищами, похожими на железнодорожные насыпи, и одна из них уже превращалась в вертикальную стену, готовую на нас обрушиться. – Смело – оп! Быстро! Они готовы! Они – за вами! Но ждать не будут! Единственный шанс! Теперь – или… Тут мы увидели, кто такие Они: три больших плавника, похожих то ли на маленькие темные паруса, то ли на большие рога, выступили из воды; три иссиня-черные с прозеленью спины колыхались призывно совсем рядом… И свист, говорящий свист, нежный, ласкающий, ни с чем не сравнимый… – Дельфины, – слабым голосом пролепетала Оля. – Дельфинчики… Милые… Я боюсь… – Глазки боятся, а ножки прыгают! – ИАХ взял Олю за руку, намереваясь помочь. – Легко будет! – Сама! – вскрикнула Оля и бултыхнулась в воду. Мы успели увидеть, как одна из спин колыхнулась Оле навстречу и выставилась из воды как матрас; в следущий миг спутница наша уже лежала на этом ложе плашмя, крепко ухватившись руками за плавник – и тут волна-стена с космическим ревом рухнула на остров Халявин и поглотила все… …Я очнулся в странном положении – лежа на спине в пенном соленом потоке, зажатый между каким-то твердо-скользким столбиком и упирающимся в меня боком рядом лежащего человека. То, на чем я лежал, вернее, на чем лежали мы с человеком впритык, было тоже скользковатым и непрестанно двигалось, то подымая нас вверх, то бросая вниз, то метая из стороны в сторону, но не давая соскользнуть и упасть. Мы плыли как будто в живой лодке-плоскодонке, и сверх того, в невидимом атмосферическом одеяле, сотканном из могучего запаха морских водорослей и из свиста, того самого нежного астрального свиста… Через несколько мгновений я осознал, что нахожусь на спине дельфина, даже не одного, а двух, и что человек, лежащий рядом со мной – ДС. Мы повернули друг к другу головы и попытались улыбнуться, довольно неубедительно. – Какая-то симметрия, что ли? – пробормотал я. – Или симметричное сновидение?… – Они устроили нам лодку из своих спин, – хрипло заговорил ДС. – Вглубь не заныривают, высоко держат, дышать дают… Между волнами идут, как ракеты… А вот куда несут, непонятно… – Ребята, приплыли! – раздался вдруг откуда-то сверху, совсем близко, Олин радостный голос. – Приплыли, слезайте! Я уже здесь! Поднимайтесь! Движение приостановилось; мы с ДС бултыхались на дельфиньих спинах в волнах, перекатывавшихся через нас, уже не таких больших – шторм, видимо, затихал… Приподняли головы и увидели, что находимся возле самого борта нашего корабля, прямо перед канатным трапом. Оля стояла на палубе, пригласительно наклонялась и махала рукой. – Залазьте, залазьте! Очухались? В этот момент что-то большое с шумом выметнулось из воды рядом с нами и подлетело вверх, чуть не достав Олину протянутую руку. – Не бойтесь, это Кирюша. Это он прощается. Мы поняли, что это дельфин, доставивший к «Цинциннату» Олю. – А почему Кирюша? – спросил я, перебираясь вслед за ДС со спин наших спасителей на канатный трап. – Он вам так представился? – Да, только на своем языке. Это мой перевод. У каждого дельфина есть свое имя, разве не знаете? И у ваших тоже… – Нас везли Сим и Гомер, – убежденно сказал ДС. Сомневаться в этом было нельзя, потому что это было красиво. Hа корабле: три «мерзавчика»Некрасиво получилось только одно: мы покинули остров Халявин, не попрощавшись с хозяином и спасибо ему не сказав. Вышло так, правда, по произволу стихии – как нынче говорят, по форсмажорному обстоятельству… Да и остался ли в живых Иван Афанасьевич? Уцелел ли остров после обрушения водяной стены?… Дул вялый зюйд-вест, «Цинциннат» двигался со скоростью около тринадцати узлов в час в направлении Моря Скуки… Поминутно мы забирались на капитанский мостик, поочередно смотрели в подзорную трубу, надеясь углядеть где-нибудь вдали знакомый флажок, пальму… Нет. Ничего. Только буграми по горизонту ходили остатки уходящего шторма, да стаи чаек кружились то там, то здесь с надрывными криками. – Ой… Слушайте… Слышите?! – крикнула Оля шепотом. Именно так: шепотом по негромкости, а криком по значимости. Мы прислушались – и услышали свист… Тот самый. И звуки выброса из воды и плюханья, легко отличимые от ударов и плеска волн. – Они здесь! Вернулись! За кормой резвились дельфины, покинувшие нас после того, как мы оказались в безопасности на борту. Все трое: Кирюша, Сим и Гомер, один за другим высоко выпрыгивали из воды, словно соревнуясь, кто выскочит выше всех, и вытянутые клювы их то и дело поднимались над краем борта. Мы опрометью кинулись на корму. – Смотрите!! – заорал ДС вслух (обычно он орет молча). – У них что-то есть!! Для нас!!! Мощный выирыг Кирюши последовал вслед за тем, и на корму из клюва его что-то полетело, упало и покатилось… Бутылка! «Мерзавчик»! Оля проворно схватила бутылку и принялась распечатывать – это было не трудно, всего лишь отодрать с горлышка скотч… Но тут выпрыгнул Сим (мы, хотя и не успели разглядеть наших друзей, как-то нутром знали, кого как зовут, наверное, они нам это транслировали – дельфины, как известно, великие телепаты) – взлетел над бортом еще выше Кирюши и вбросил еще одного «мерзавчика», прямо с лету его подхватил ДС. А следующего, как уже понятно читателю, пришлось принять от Гомера мне. Вышло это, правда, не совсем гладко: Гомер, хотя и был самым крупным из троих, прыгал всех ниже, до края борта не доставал – то ли вес мешал, то ли возраст – и несколько раз мне пришлось тянуть руку вниз, чтобы выхватить у него «мерзавчик» из клюва, но ничего не получалось, бутылка летела обратно в воду, Гомер там ее ловил и, прежде чем снова прыгнуть, делал по два или три кувырка, чтобы набраться духу… Наконец, выпрыгнул еще ниже, зато успел подкинуть бутылку в воздух, и я, перевесившись с борта вниз головой, успел ее подхватить на лету, но не удержал равновесия и оказался бы снова в воде, если бы ДС не удалось поймать меня за штанину и с превеликим трудом затащить назад. Тем временем Оля с нетерпеливым любопытством, свойственным лучшей половине человечества, распечатала свой «мерзавчик». – Бумажка какая-то… В трубочку свернута… Вытрясла… Записка, ребята! 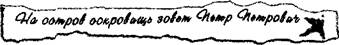 – Что еще за Петр Петрович, – удивился я. – И след птичьей лапы… Вместо подписи, что ли? – Кроме петуха никто такую подпись поставить не мог, – с экспертной уверенностью заявил ДС. – Тээк-с. Что в следующем послании? 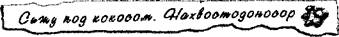 – Ну, это ясно кто! – засмеялась Оля. – Читайте скорее третье! – Сейчас… секундочку… Тьфу ты ччч… В моем «мерзавчике» бумажка расправилась и вытрясаться не желала. – Разбейте, – посоветовал ДС. – Ни-ни, – не позволила Оля, – это музейный экспонат, это история. Дайте-ка сюда… Булавочной заколкой подцепила бумажку, вытащила и с торжеством показала: 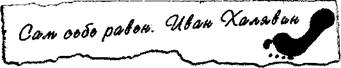 – Живооой!!! – завопили мы в один голос. – Ура-аа! – и кинулись в пляс, в обнимку друг с дружкой, бумажками и бутылками. – Стойте, – опомнилась Оля. – Надо Ивану Афанасичу записку послать, хотя бы словцо… Вытащила карандаш и блокнот – они всегда при ней, профессия требует – но блокнот весь измок вместе с одеждой… – Вот клочок петиного послания, текст не пострадал, – выручил ДС. – Что писать будем? – Вот что:  – Вряд ли мы это сообщение передадим, – сказал я грустно, – вон, посмотрите: Они уже далеко… Три сине-черных спинных плавника, издали похожих на рыбацкие поплавки, то пропадая, то выдаваясь вверх, быстро двигались к горизонту. – Ох, ну… Мужики вы или нет?… Дайте мне… Мгновенно Оля запихнула бумажку в бутылку, залепила ее тем же скотчем и бросилась к борту. – Кирюша! Кирюююшааа!! Кирюшенькааа!.. Ноль реакции со стороны удаляющихся. И тогда Оля размахнулась и со всех своих женских силенок бросила «мерзавчика» в море. Совсем недалеко. Безнадежно. Что произошло дальше, легко догадаться, поняв логику нашего подзатянувшегося повествования. Один из дельфинов – конечно, Кирюша, кто бы усомнился – дал полный назад, доплыл до беспомощной бутылки, поймал ее в клюв, трижды жонглерски подбросил, как рыбку, вверх, успев при каждом подбрасывании дружественно покивать нам головой, – и ринулся догонять товарищей. Через полминуты Они слились с горизонтом. |
|
||
|
Главная | В избранное | Наш E-MAIL | Добавить материал | Нашёл ошибку | Другие сайты | Наверх |
||||
|
|
||||
