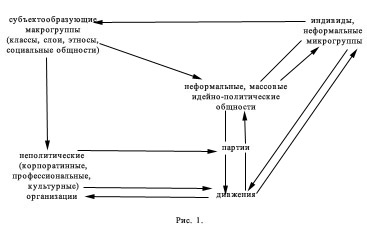|
||||
|
|
Глава V. ПОЛИТИЧЕСКИЙ ЧЕЛОВЕК: ПСИХОЛОГИЯ ВЫБОРА Психика и поведение человека суть продукты биологических и социальных обстоятельств. И в то же время в рамках этих обстоятельств человек реализует свою субъективность, свое собственное Я, свободу своих мыслей, решений и поступков. Соотношение детерминизма и свободы — одна из центральных проблем философии и всех наук о человеке. Чрезвычайно важна она и для социально–политической психологии. В ходе всемирно–исторического процесса постепенно — хотя далеко не прямолинейно — расширялось поле свободы, амплитуда альтернативных возможностей самоопределения человека, его отношения к общественно–политической действительности. В подавляющем большинстве современных обществ люди выбирают те мотивы и ценности, цели и средства, ту линию поведения, которыми они руководствуются в общественно–политической жизни. А также в той или иной мере созидают новые цели, ценности и поведенческие установки. Какие объективные и субъективно–психологические факторы определяют этот выбор и это созидание? В какой мере он является сознательным, рациональным и в какой совершается спонтанно — под влиянием устоявшихся стереотипов, неосознанных потребностей и эмоций, социального окружения? Каков психологический механизм выбора общественно–политических позиции? Таковы главные вопросы, которые будут рассмотрены в этой главе. 1. Политический актив: вовлеченность в систему власти Два типа вовлеченности Для социально–политической психологии наибольший интерес представляют два типа личного и группового выбора. Во–первых, выбор человеком уровня и форм своей вовлеченности в общественно–политическую жизнь. Крайние точки континуума таких уровней и форм, с одной стороны, активное участие в этой жизни, осмысление ее как главной сферы деятельности человека, с другой — полное отчуждение от нее, принятие роли пассивного объекта социальных и политических процессов. Этот выбор лежит в основе упоминавшейся выше условной дифференциации членов общества на лидеров, активистов и массу, а также и весьма подвижной, неустойчивой дифференциации самой массы по признаку большей или меньшей вовлеченности в общественнополитическую жизнь. Он же проявляется в существующем в любом обществе разделении людей по степени их интереса к политике (см. главу I). Второй выбор определяет конкретную общественно–политическую позицию или ориентацию человека, основанную на одной из систем идейно–политических ценностей, существующих в обществе. Оба эти выбора взаимосвязаны. Уровень психологической и практической вовлеченности людей в жизнь общества влияет на определенность и последовательность их идейно–политического выбора: чем меньше человек интересуется политикой, тем более аморфны, бессистемны, неустойчивы его политические взгляды. В то же время отчуждение от господствующих в обществе конвенциональных систем ценностей и форм политической жизни может означать психологическую готовность к активной альтернативной, вне–или антисистемной общественной деятельности (именно такими были психологические предпосылки так называемых неформальных движений в ряде стран). Условия обоих типов выбора определяются характером политической системы. Понятно, что наиболее полные возможности для них дают общества, где право на выбор является действующей конституционной нормой, существует представительная демократия, идеологический и политический плюрализм. Но даже и в условиях деспотических режимов существуют различия между теми, кто искренно поклоняется и ревностно служит власти, и теми, кто старается держаться подальше от нее или питает осознанную или эмоциональную враждебность к господствующему порядку. Психологический выбор возможен даже в условиях полного отсутствия выбора форм общественно–политического действия: мыслить и чувствовать, как известно, не запретишь. Уровень вовлеченности людей в общественно–политическую жизнь обусловлен достаточно сложной системой факторов. Обычно он возрастает в периоды бурного обновления общественных отношений, когда происходит взлет социальных ожиданий масс, создающий психологические предпосылки для политической мобилизации вокруг новых целей. Такие ситуации складывались в СССР в 20–х — начале 30–х годов, в Западной Европе после окончания второй мировой войны, в ряде стран третьего мира после обретения ими независимости. В периоды стабилизации системы, когда политическая жизнь приобретает рутинный характер, а также в трудные времена кризисов обычно происходит спад массовой политической активности. В первом случае потому, что она не находит точек приложения, во втором — из–за груза давящих на людей материальных забот. Помимо таких ситуационных факторов на масштабы вовлеченности в общественную жизнь влияют факторы структурные. Они коренятся в особенностях социальной деятельности, присущих каждому обществу. В странах, где эта деятельность является монополией политической власти и осуществляется исключительно под ее контролем, после только что упоминавшихся фаз массовой политической мобилизации вовлеченность приобретает инструментальный характер. Частично она совпадает с обыкновенной службой в бюрократических институтах партийно–государственной власти и подчиненных ей псевдообщественных организациях, частично — выполняет функцию политического и идеологического контроля, «рычага» аппаратного влияния в толще общества. Чем более широкие контингенты людей охватывает такая вовлеченность, тем более она является формально–символической, практически сводится к демонстрации преданности власти. Такой была вовлеченность миллионов рядовых членов КПСС и сотен тысяч ее низовых «активистов». В странах с развитым гражданским обществом широкое распространение получает вовлеченность, которую можно назвать ценностноориентированной. Ибо она направляется прежде всего теми ценностями, которые вырабатываются различными социальными группами в процессе осознания ими своих интересов и предпочтений. Самодеятельная, независимая от институтов власти активность таких социальных субъектов — отличительная особенность гражданского общества. И хотя она чаще всего развертывается вокруг конкретных проблем — общенациональных или локальных и групповых — и не претендует на участие в «большой политике», даже противопоставляет себя ей, она так или иначе влияет на деятельность партий и органов власти. Данная форма социальной активности эволюционирует относительно независимо от уровня активности политической и представляет собой один из важнейших механизмов саморегулирования общества, связей между гражданами и органами власти. Ценностно–ориентированный характер носит, разумеется, не только такая неполитическая социальная деятельность. В условиях многопартийности соответствующий тип вовлеченности присущ рядовым членам и активистам политических партий, особенно оппозиционных и не имеющих больших шансов прорваться к власти. По данным некоторых эмпирических исследований, существует положительная корреляция между политической активностью человека и уровнем его психологической вовлеченности в профессиональную трудовую деятельность, особенно если она предполагает участие в принятии решений, затрагивающих других людей[183]. Таким образом, такую активность можно рассматривать как проявление особых психических черт личности: ее способности и потребности активно воздействовать на социальную среду. Инструментальный «службистский» тип социально–политической вовлеченности отнюдь не исключительная особенность бюрократически организованных политических режимов. В обществах с развитой представительной демократией он сосуществует с ценностно–ориентированным типом, нередко даже в психологии одних и тех же людей. В психологическом плане эти типы различаются прежде всего личностной мотивацией, побуждающей к прямому участию в общественно–политической жизни. Вовлеченность и мотивация Мотивы инструментальной вовлеченности часто не отличаются от тех, которые определяют выбор профессии и осуществление избранной профессиональной деятельности. Как известно, такими мотивами для очень многих людей являются стабильность профессионального положения, гарантии определенного социального статуса и его роста и удовлетворительные доходы и условия труда. Положение государственного, партийного или профсоюзного чиновника по всем этим параметрам обладает значительными преимуществами. С одной стороны, оно является «чистой», беловоротничковой профессией и обеспечивает статусную принадлежность к «среднему классу». С другой, хотя приносимый им доход ниже того, который может дать, например, предпринимательство, он более гарантирован, меньше, чем в большинстве других видов деятельности, зависит от способностей и удачи, элемент риска здесь минимален. Вертикальная социальная мобильность, повышение в должности носит в бюрократических учреждениях в значительной мере рутинный, автоматический характер. Со всеми этими преимуществами связаны типологические особенности инструментально вовлеченных: среди них много людей, не ощущающих в себе какого–либо призвания или особых способностей и в то же время не склонных к инициативе, риску, не имеющих активной жизненной позиции. Так, в Советском Союзе в аппарат часто вербовались выпускники вузов, не проявившие себя в учебе, но зато делавшие успешную комсомольскую карьеру, ИТР и научные сотрудники, не имеющие особых перспектив в своей профессии, секретари и члены парткомов, фактически выполнявшие подсобные управленческие функции при администрации предприятий. В качестве несколько экзотического, но достаточно характерного примера можно назвать весьма известного в 70–80–х годах деятеля, который был послом, заведующим Отделом ЦК КПСС, руководителем государственного туристического ведомства, а начал свою карьеру в качестве актера и секретаря партбюро провинциального театра. Говорят, он по привычке гримировался перед приемами в посольстве. Разумеется, материальное благополучие и стабильность, карьера не исчерпывают мотивации инструментальной вовлеченности. Большую или меньшую роль в ней играет потребность во власти, причем совсем не обязательно выражающаяся в надежде прорваться к ее вершинам. Психологически достаточно привлекательной может быть и принадлежность к системе политической власти, участие в этой системе, выступающее как способ социального самоутверждения личности, ее выделения из массы простых смертных. Особенно в условиях тоталитарно–авторитарного бюрократического строя, при котором властвующая номенклатура командует не только в политике, но и во всех других сферах жизни общества, обладает многочисленными материальными и социальными привилегиями и является по сути дела единственной социальной группой, осуществляющей реальную власть. Существенное психологическое отличие инструментальной вовлеченности от ценностно–ориентированной состоит в том, что ценностный уровень мотивации играет в ней подчиненную, служебную роль. Она не требует глубокой интериоризации личностью какой–либо системы ценностей, достаточно хотя бы формально демонстрировать верность официальной идеологии, выражающую лояльность системе. В странах с развитой демократической культурой даже это условие не всегда является обязательным, ибо высшим приоритетом признается право личности на собственное мировоззрение. Поэтому в демократических странах существует довольно четкое деление на политиков, исповедующих идеологию своей партии, находится ли она у власти или в оппозиции, и чиновников, от которых требуют лишь добросовестного выполнения профессиональных обязанностей. В период, когда будущий французский президент В. Жискар д'Эстен был министром финансов, один из высокопоставленных служащих его министерства — экономист и член Коммунистической партии, публиковал в коммунистической прессе статьи, естественно, антиправительственной направленности. Узнав об этом, Жискар попросил чиновника–коммуниста печататься под псевдонимом, чтобы избежать двусмысленной ситуации — ему и в голову не пришло применить какие–либо санкции к своему политическому противнику. Конечно, и в капиталистических странах подобная идеологическая терпимость — явление далеко не постоянное и не повсеместное, а в некоторых звеньях госаппарата (например, в спецслужбах и военном ведомстве) и вовсе невозможное. В условиях же тоталитарно–авторитарных порядков идеологическая «выдержанность», конформизм непременное условие пребывания в аппарате. Поэтому хотя она, как отмечалось, может носить чисто внешний, демонстративный характер, как и любое ролевое требование (см. главу III), она нередко накладывает отпечаток на психологию личности, во всяком случае на ценностный уровень ее сознания. Любопытной иллюстрацией различий между двумя типами вовлеченности может служить сравнение реакций различных групп, вовлеченных в общественную жизнь, на новые идеологические ориентиры выдвинутые советской перестройкой. В 1988 г., когда в стране уже существовала гласность и полным ходом осуществлялась политическая реформа Горбачева, на эту тему был проведен опрос среди участников неформальных (т.е. самодеятельных, не связанных с властью) общественных движений и функционеров аппарата КПСС. Партийные работники наиболее широко поддержали политические цели, выдвинутые Генеральным секретарем и его окружением: «социалистическое самоуправление народа», «социалистическое правовое государство». В отношении же целей, в то время не санкционированных официально, но уже выдвигавшихся демократическим движением, позиции групп резко разошлись. Так, 51,4% неформалов и только 23,6% партработников высказались за многопартийную систему (т.е. отказ от неограниченной власти КПСС), соответственно 64,2 и 33,3% - за ликвидацию партийного контроля за средствами массовой информации[184]. Таким образом, если в аппарате больше носителей инструментальной вовлеченности, принимающих лишь те новые ценности, которые провозглашаются начальством, то самодеятельные активисты гораздо более восприимчивы к ценностям альтернативным. Неформальные движения в тот период в основном еще не имели «антисистемной» политической направленности (почти половина их участников не поддержала требования многопартийности), но присущая им ценностная мотивация обусловливала их большую свободу от идеологии, выражавшей интересы системы. Приведенные данные интересны и в другом отношении. Несмотря на укоренившийся конформизм аппаратчиков и их корпоративную заинтересованность в сохранении властных привилегий КПСС, от одной четверти до одной трети представителей данной группы высказались за перемены, прямо подрывающие эти привилегии, фактически приняли вне–или антисистемные ценности. Это показывает, что даже в условиях лишь начавшей размываться тоталитарно–авторитарной системы принадлежность человека к аппарату власти совсем не обязательно означала его невосприимчивость к ценностям, этой власти оппозиционным. Человеческая психика неизмеримо богаче ролевых норм, диктуемых властными функциями, на мотивы индивида могут оказывать влияние любые ценности, существующие в обществе, особенно те, которые усиливаются в нем под воздействием динамики общественных настроений. Отношения власти порождают инструментальную вовлеченность, но этой зависимости чужд жесткий однолинейный детерминизм. Фактором, противодействующим такому детерминизму, является идентификация политиков и чиновников с потребностями и интересами основной массы членов общества (этот тип социальной идентификации рассматривался в главе IV). С расширением социальных функций государства в мотивах осуществляющих их людей все чаще эти потребности и интересы доминируют над карьерными, стяжательскими, корпоративно чиновничьими или партийными. Во всех странах бюрократический менталитет и коррупция — явления достаточно распространенные, но не определяющие целиком психологию всех, кто работает на государственной службе. В странах с развитой и укоренившейся демократической культурой специалист, обладающий высокой профессиональной этикой и чувством социальной ответственности, — нередкая фигура в госаппарате. Подобные качества часто сочетаются с отсутствием политической ангажированности: честный судья или полицейский, экономист или социолог, служащий в органах управления — это часто человек с гуманистическими ценностями, видящий свою профессиональную задачу не в службе государству, но в служении людям, обществу. В распространенности подобного социально–психологического феномена сказывается общий уровень развития социэтальных демократически гуманистических ценностей. Одним из последствий движения за новые «постматериальные» ценности, охватившего западные общества в 6070–х годах, стал приход в институты власти людей, отвергших традиционный тип политики, подчиненный борьбе за власть и «долю пирога», ориентированных психологически на социально–конструктивную и социально–творческую работу. Подобная мотивация вряд ли стала господствующей, она сосуществует с традиционными — политиканскими, бюрократическими и стяжательскими, — но во всяком случае завоевала значительные позиции. В России, где государственная служба веками рассматривалась как способ «кормления», а позднее стала важнейшим компонентом тоталитарной системы, для развития такой ценностной мотивации политиков и чиновников существуют значительные социально–культурные препятствия. Крах тоталитаризма, коммерциализация общественного организма и ослабление «вертикали власти» привели не к демократизации государственного управления, но к превращению его в поле свободной игры частных и мелкогрупповых интересов. «Хватательный рефлекс» овладел множеством старых и «новых» — экс–демократических — политиков и чиновников. Без массированного прихода в аппарат властей людей с высокой профессиональной этикой и с мотивацией ориентированной на ценности социальной ответственности российское общество вряд ли сможет решить проблемы формирования подлинного демократизма и эффективной системы управления. По мнению политического психолога А.И. Юрьева, «политическая работа в парламенте… является частным случаем трудовой профессиональной деятельности. Предмет этого труда — состояние населения региона, государства»[185]. Этот тезис не вызывает сомнений и может быть отнесен не только к парламентской, но и к любой политической работе. Для психолога, однако, важно не столько подвести политическую деятельность под какую–то более общую категорию, сколько разобраться в ее специфической психологической структуре, а в ней одно из центральных мест занимает мотивация. Как известно, мотивами любого труда могут быть его материальные и социальные результаты для работающего (заработок, статус), интерес к самому процессу труда и решению трудовых задач, самоосуществление и самоутверждение личности, потребность в принадлежности к социальной общности (трудовому коллективу), в общении. Все эти мотивы в тех или иных пропорциях присутствуют и в работе политика, но от других видов трудовой деятельности ее отличает та специфическая роль, которую играет в ней мотивация власти. Американский политический психолог Дж. Барбер, проведя эмпирические исследования мотивации членов конгресса штата Коннектикут, выявил у них четыре типа доминирующих мотивов. Для одних конгрессменов таким мотивом была политическая карьера, для других, игравших пассивную роль в законодательном процессе, — потребность в одобрении своих коллег, для третьих — чувство долга, моральноэтические ценности (по нашей терминологии, их отличала ценностноориентированная вовлеченность), для четвертых — интерес к содержанию самой законодательной деятельности, к подготовке законов[186]. По этим данным получается, что мотив власти или, по крайней мере, стремление к повышению статуса во властных структурах, был присущ только части законодателей. Сам по себе он не является какой то исключительной особенностью политиков: этот мотив может проявляться и у людей, занятых в производстве, науке, военном деле и во многих других сферах деятельности. Существенно, однако, то, что независимо от своих исходных личных мотивов любой активный политик (а к таким принадлежат три из четырех типов, выделенных Барбером) для их реализации вынужден овладеть какой–то позицией в системе власти и заботиться об ее удержании. Такая позиция, выражается ли она в каком–то посте, иерархическом статусе или членстве в выборном органе, в формальном или неформальном лидерстве в партии, движении, парламентской фракции, реализует ли она власть индивидуальную или групповую (партии, «команды»), необходима для осуществления политических целей и ценностей. Для одних политиков власть — самоцель, для других — средство и выступает в качестве предмета инструментальной потребности. Но и в том и в другом случае политик может вовлечься в борьбу за власть, и чем острее и напряженнее эта борьба, тем больше шансов, что данный вид вовлеченности и стимулирующая его цель — одержание победы, накладываясь на все другие мотивы, в конце концов перекроет их и станет доминирующим мотивом в деятельности политика. Наблюдая активных участников реальной политической жизни, не всегда легко различить, что у них первично, что вторично: борются ли они за власть, чтобы осуществить определенные общественно–политические цели, или эти цели, напротив, являются лишь средством завоевания или укрепления власти. При этом не имеет большого значения, как оценивает свои мотивы сам политик, ибо, как мы видели на примере лидеров, он вполне может приукрашивать их не только перед публикой, но и перед самим собой. Вовлеченность и политические конфликты Вовлеченность в борьбу за власть может совершенно не соответствовать первичным намерениям и целям политиков. В Российском Верховном Совете в период 1991–1993 гг., наверняка, было немало людей, которых привело туда стремление принять участие в решении судеб страны, реализовать те ценности и цели, которые они считали соответствующими ее интересам. Однако нарастание конфликта между различными течениями в парламенте, между парламентским большинством и президентом привело к тому, что для многих его участников расширение собственной власти и оттеснение противоположной стороны превратились в самоцель, которой подчинялись их позиции по конкретным социально–экономическим и политическим вопросам. В результате парламент оказался недееспособным в выполнении своей главной — законодательной — функции. Подобные ситуации свидетельствуют о весьма существенной роли мотивации политиков в динамике политических конфликтов. Конфликт — явление, органически присущее общественно–политической жизни, и его исследование выходит за рамки одного лишь психологического анализа. Очевидно, что влияние конфликтов на функционирование и развитие общества весьма неоднозначно. Столкновение позиций по проблемам, стоящим перед обществом, в принципе позволяет выявить различные социальные интересы и в конце концов прийти к их согласованию, к решению, приемлемому для большинства. Бесконфликтное политическое развитие обычно обусловлено монополией на власть определенных общественно–политических сил и рано или поздно ведет к застою и кризису. В той мере, в какой конфликт связан с выработкой альтернативных решений, он содействует выбору оптимального с точки зрения широких общественных интересов варианта и тем самым рационализации политического процесса. Наконец, конфликт полезен для политического развития в том смысле, в каком конкуренция полезна для экономики: состязание различных политических группировок нередко ведет к выявлению той из них, деятельность которой наиболее адекватна ситуации и потребностям общества. В то же время общественному сознанию всегда была очевидна деструктивная роль политических конфликтов. В своих наиболее острых формах они ведут к дестабилизации и распаду общественного организма, к резкому ухудшению условий жизни людей, способны перерастать в гражданские и международные войны, порождать насилие, террор, нести страшные лишения и смерть множеству людей. В отличие от цивилизованной политической конкуренции подобные силовые конфликты нацелены на физическое устранение и подавление противника и часто ведут к установлению деспотической власти над своим и другими народами, к экономическому и социальному, нравственному и политическому регрессу. Но даже и не приводя к столь трагическим последствиям, а просто никак не разрешаясь в продолжение длительного времени — многих лет, десятилетий, они способны воспроизводить в обществе или в международных отношениях состояние перманентной напряженности, кризиса. С психологической точки зрения, одним из важнейших факторов развития деструктивных конфликтов является определенный тип политической мотивации. Для него характерно неограниченное и неконтролируемое доминирование в политике мотивов и интересов власти. Нетрудно убедиться в том, что этот тип мотивации господствовал в подавляющем большинстве обществ в течение длительных исторических эпох, широко распространен он и в наше время. Его обслуживает инструментальная вовлеченность в политику. Инструментально вовлеченному политику и чиновнику безразлично, что делает власть, полезны ли ее действия для общества: ведь он служит ей в основном ради собственного блага. Лишь на том этапе цивилизационной эволюции, на котором возникли ценности демократии и прав личности, появились определенные механизмы, ограничивающие и контролирующие стремление к власти. Эти механизмы встроены в политическую и правовую культуру обществ, в которых существует представительная демократия. В той мере, в какой ценности и нормы этой культуры интериоризированы политиками, они способны превращаться в мотивы, конкурирующие с мотивами личной власти, карьеры, корыстолюбия или придавать им социально–конструктивную цивилизованную форму. Одной из таких норм является верность конституционному порядку. Как показал еще 3. Фрейд, культура играет роль цензора по отношению к импульсам и страстям, возникающим в бессознательной сфере психики. Именно в этой сфере рождается страсть власти. Ограничителем этой страсти является и определенный тип ценностно–ориентированной вовлеченности в политику. А именно тот, в основе которого лежит эмпатия. Политик, действительно мотивируемый интересами блага и безопасности своих сограждан, психологически защищен этой альтруистической мотивацией от эгоистических — личных или корпоративных — страстей. Перед аналитиком, исследующим посттоталитарные общества в России и других республиках бывшего Союза, неизбежно возникнет вопрос: почему эти общества не сумели воспользоваться обретенной политической свободой и преимуществами представительной демократии, почему политическая деятельность в них так мало связана с интересами основной массы населения? Ответ более или менее очевиден: он кроется в психологических установках, относительно независимых от сегодняшних политических взглядов людей и сформированных тоталитарной культурой. В рамках этой культуры единственным ограничителем личных и групповых амбиций были интересы иерархической системы власти, практически не подчиненные ни закону, ни чисто декоративному конституционному порядку, ни интересам членам общества, рассматривавшимся лишь как «винтики» системы. Откуда же могли люди, оставшиеся в политике или пришедшие в нее в посттоталитарный период, почерпнуть нормы правового и демократического общественного порядка, психологическую установку на эмпатию к согражданам? Разрушение старой властной иерархии имело для многих из них лишь один психологический эффект: освобождение уже ничем не контролируемых теперь эгоистических страстей и амбиций. Эта культурно–психологическая ситуация оказала сильное влияние на характер и динамику личных конфликтов в ряде посттоталитарных обществ. Культура цивилизованного разрешения конфликтов ориентирована на расширение поля общественного консенсуса. Это, однако, не означает установки на достижение консенсуса любой ценой. Механическое эклектическое соединение противоположных, взаимоисключающих систем ценностей, принципов общественного устройства либо невозможно, либо, если его все же пытаются осуществить, ведет к деструктивным, дезорганизующим общество процессам. Не может быть полутоталитарного, полудемократического общества или экономики, сочетающей рыночные принципы с неограниченным диктатом государства. Попытки вырастить таких кентавров — и об этом свидетельствует опыт России и других экс–тоталитарных стран — чреваты параличом в функционировании и развитии общества. Консенсус конструктивен в тех случаях, когда он основан на компромиссе между реальными общественными потребностями. Например, между экономической эффективностью и социальной справедливостью, свободой и общественным порядком. Именно такой тип консенсуса обеспечил стабильность и поступательное развитие многих современных обществ. 2. Ценностно–ориентированная вовлеченность: активисты массовых движений Мотивы активности: «действовать вместе» Анализ мотивов и типов поведения, характеризующих инструментальную вовлеченность в общественно–политическую жизнь, не представляет большого труда. Властолюбивые амбиции, карьеризм или корыстолюбие политиков и чиновников у всех на виду. Обыденное представление о политике как «грязном деле» с незапамятных времен стало расхожей истиной. Гораздо труднее распознать лишенную личной корысти ценностно ориентированную вовлеченность. Даже самый честный и идейный деятель не избегает подозрений, что он движим какими–то тайными помыслами или занят излечением личных психологических травм. Да и в действительности, как отмечалось выше, идейные мотивы нередко переплетаются или сливаются с «инструментальными». Подобные трудности побуждают обратиться к таким формам ценностно–ориентированной вовлеченности, в которых она представлена в максимально «чистом» виде, сопряжена с такой активностью, которая по самому своему характеру не может приносить ее участникам каких–либо персональных выгод. Можно полагать, что именно такой является деятельность многих низовых активистов и рядовых участников массовых общественных и политических движений и некоторых партий. Речь идет о таких движениях и партиях, которые не претендуют на власть (или не имеют больших шансов ее достичь) и не имеют иных возможностей обеспечить своим участникам и членам какой–либо материальный или социальный статус. Разумеется, и у таких партий или движений есть свои лидирующие группировки и аппарат, и действуют механизмы внутрипартийной или внутри движенческой карьеры. Однако эти возможности крайне ограниченны, чаще всего не слишком привлекательны по своим материальным и профессиональным (условия труда) характеристикам. Подавляющее большинство рядовых активистов не имеют ни возможностей, ни желания продвигаться по иерархический лестнице своих организаций. И в то же время их общественная деятельность часто приносит им материальный ущерб, ведет к физическим и нервно–психологическим перегрузкам, нарушает, а то и вовсе подрывает семейную жизнь. О такого рода фактах подробно рассказывается, например, в социологическом исследовании, посвященном активистам возникших на волне забастовочного движения 1989 г. в угольных районах СССР свободных шахтерских профсоюзов[187]. Какие же мотивы направляют такую форму общественной активности? По мнению исследователя «неформальных» движений периода перестройки О.Н. Яницкого, их наиболее глубокой психологической мотивацией были потребности в самореализации личности, в проявлении ее индивидуальности, в самостоятельно конструируемых, разнообразных, эмоционально насыщенных социальных связях, общении[188]. Действительно для человека, чьим уделом является повседневная рутина неинтересного труда и однообразных семейных обязанностей, общественная активность — сфера приложения личностных сил и способностей; она радикально обогащает содержание жизни, наполняет ее новым смыслом. Как объясняла свое участие в неформальном движении одна из «героинь» Яницкого — молодая женщина из Омска, оно означало для нее разрыв с прежним образом жизни: «живешь как клуша — муж, ребенок…»[189] Стремление к самоосуществлению или самоутверждению вместе с тем объясняет многое, но далеко не все. Ведь «бескорыстная» социальная активность — далеко не единственно возможный их способ. Самоосуществляться и самоутверждаться можно и в более «эгоистических», лучше вознаграждаемых занятиях. По данным эмпирических исследований, многие активисты возникшего в 1990 г. движения «Демократическая Россия» впоследствии ушли из него в бизнес. Так же поступила и часть активистов–шахтеров[190]. У них мотив самоосуществления действительно был ведущим, и они искали оптимальную сферу его реализации. Но для тех, кто остался в движении, он, очевидно, таковым не был. Или дополнялся и перекрывался другими мотивами. Обогащение социальных связей личности, которое Яницкий наряду с самоосуществлением выделяет в качестве мотива активности «неформалов», более, на наш взгляд, специфично для этого социально–психологического типа. Но и данный мотив — лишь одно из проявлений более общей «базовой» черты психологии активистов: ориентации их мотивов на интеграцию в социальную общность. Доминирующая в психике тенденция к включению в общность может осуществляться разными способами, в том числе через полное подчинение группе и ее лидерам, неограниченный конформизм по отношению к ним, утрату собственного я. В рассмотренных примерах она носит иной характер: социально–интегративная тенденция (или потребность в принадлежности, по терминологии А. Маслоу и его последователей) соединяется с потребностью в индивидуальном самоосуществлении, точнее, самоосуществление достигается через соответствующий ему уровень интеграции. Проиллюстрируем этот несколько абстрактный тезис описанием психологии рабочих активистов, принадлежащим авторам уже упоминавшегося исследования о шахтерах. «Видно, — пишут они, — что шахтеры отождествляют себя с движением, что они готовы добровольно принимать его дисциплину при одновременном согласии с правом на разномыслие, свободу обсуждений и критики… Поддержка линии движения и принятие авторитета лидеров не становятся здесь насилием над внутренними установками отдельных людей»[191]. «ДемРоссия, — говорила одна из активисток этого движения, — дает людям выразить себя, всем вместе участвовать в конкретных действиях. За два года жители Москвы сумели увидеть, сколько их единомышленников». По словам другой активистки, «из людей ушел страх. Они знают, что все вместе они сила. Люди осознали свое место в политической жизни страны»[192]. Формула «все вместе» чрезвычайно характерна для психологии активистов — она выражает ценностную, аффективную и поведенческую установку на формирование активной, действующей общности и включение в нее. Эта социально–интегративная установка становится основной целью комплекса норм и ценностей, интериоризируемых личностью. Так, по наблюдению исследователей, «свойства и личностные особенности» шахтерских активистов свидетельствуют, что они обладают сознанием «людей, которые чувствуют себя не просто индивидами, но участниками движения, ощущают свою ответственность за это движение и ответственность перед движением». Восприятие движения как высшей ценности, чувство ответственности за его судьбу воздействует на характер дискуссий и разногласий, возникающих в среде активистов. «Обсуждения и споры, которые ведут шахтеры, направлены не на самовыражение… но прежде всего на поиск эффективного решения, на возможно более полный учет всего практически полезного в разных взглядах»[193]. В социально–политической психологии интегративная тенденция, деятельность по созиданию и воспроизводству действующей человеческой общности, разумеется, может возникать и развиваться только на основе определенных социальных ценностей, общественных или политических целей. Этим такие общности отличаются, например, от общностей культурных, объединяемых не какими–либо общими целями, но лишь стилем жизни и поведения (например, молодежных группировок вроде хиппи или рокеров). В России конца 80–х–начала 90–х годов массовые демократические движения возникли на волне протеста против власти КПСС и командно–бюрократической системы, сохранявшихся в условиях реформ сверху, проводимых партийно–государственным руководством СССР. Их застрельщиками были люди, еще до возникновения движения психологически ориентированные на борьбу с системой: диссиденты, наиболее непокорные и сопротивляющиеся начальству наемные работники. «Так дальше жить невозможно» — таков наиболее осознанный мотив участников движений. Их общими и довольно абстрактными ценностями были свобода, демократия, рыночная экономика. Общность, выступавшая в форме движения, воспринималась как орудие общественного действия, борьбы, способной изменить общественно–политическую ситуацию. Главной же целью как для участников политических движений, так — в значительной мере — и для нового рабочего актива было свержение власти КПСС. Нравственно–эмоциональная основа мотивации Дальнейшая судьба этих движений позволяет лучше понять их главные социально–психологические характеристики. После августовского путча 1991 г. и ухода КПСС с политической сцены непосредственная политическая цель демократического движения была достигнута. Для «Демократической России» это означало кризис целей — дальнейшее осуществление демократических и рыночных преобразований стало функцией президента и правительства. Значительные трудности испытало и независимое рабочее движение: если на первых этапах его борьба за экономические и социальные интересы трудящихся естественно сливалась с борьбой против коммунистической власти, то с приходом к власти демократов идейно–политические установки рабочих лидеров побуждали их к поддержке правительства Ельцина–Гайдара, а ухудшение положения трудящихся под влиянием проводимых реформ ограничивало возможности такой поддержки. Обнаружилась слабость когнитивной составляющей всего демократического движения: вынужденное перейти от борьбы «против» к участию в конструктивной работе, в создании новых общественных отношений, оно оказалось к этому не готовым, не смогло занять самостоятельную ясную позицию в тех ожесточенных политических схватках, которые развернулись вокруг темпов и методов проведения реформ. Движение, ориентированное лишь на конкретные цели и не способное после их достижения выдвинуть новые, обречено на распад и исчезновение. В России демократическое движение испытало глубокий кризис; по своему влиянию, способности организовать массовые акции, политическим связям «Демократическая Россия» мало напоминала весной 1994 г. ту мощную силу, которая практически сорвала августовский путч. Но говорить об исчезновении движения было бы неверно: сохранилось ядро активистов, которые были его цементирующей силой с момента возникновения. И хотя эти люди в значительной мере дезориентированы и не имеют — особенно после декабрьских выборов 1993 г. — сколько–нибудь ясной программы действий, они вносят свой вклад в политическую жизнь. Об этом свидетельствует хотя бы та роль, которую демократы сыграли в избирательной кампании либеральной политической группировки «Выбор России», получившей, несмотря на поражение на выборах по партийным спискам, наиболее многочисленную фракцию в Государственной думе. А также те усилия, которые предприняли лидеры «Выбора России», чтобы привлечь демороссов во вновь сформированную ими в 1994 г. партию. Чем же объяснить относительную устойчивость активного ядра движения, хотя и сильно сократившегося за годы реформ, его выживаемость в крайне трудных и неблагоприятных условиях, при отсутствии общепризнанных популярных лидеров, разработанной идеологии и программы, при постоянных внутренних конфликтах и расколах высшего руководства? Думается, что главной причиной является прочность ценностной ориентации этой общности: ценности, глубоко интериоризованные активистами, позволили им сохранить свою сплоченность и верность движению. Причем речь здесь идет не столько о таких программных общественных ценностях, как демократия и рынок, которые с самого начала носили во многом абстрактно–символический характер и в значительной мере поблекли под влиянием опыта 1992–1994 гг. Большее значение имеют нравственные ценности, моральный долг, формирующий установку личности на посильное, но активное вмешательство в процессы, происходящие в обществе, готовность противостоять явлениям, эмоционально воспринимаемым как негативные, противоречащие принятым ею нормам и идеалам. Общие идейно политические установки играют в этой психологической ситуации как бы роль когнитивного ориентира, помогающего осознать, рационализировать имеющие нравственное происхождение эмоции, потребность в «правильном», нравственном общественном устройстве. Именно о такой основе мотивации демократических активистов свидетельствует характерное для многих из них отталкивание от участия в институциональной, т.е. партийной, парламентской политике, хотя они и признают ее необходимой, оказывают поддержку близким им по ориентации политикам, проводят их избирательные кампании. Отторжение политики они сами объясняют сомнением в возможности ее соединения с нравственностью. Пытаясь объяснить свое представление о роли движения по сравнению с политическими партиями, один из активистов «Демократической России» сказал: «партия — это механизм, который работает, а движение — это совесть, которая, наверное, не должна что–то делать, она должна предупреждать человека о том, чего делать не нужно»[194]. 3. Вовлеченность в общественно–политическую жизнь и проблема группового субъекта Субъектные и субъектообразующие группы Выше были рассмотрены формы личностной вовлеченности людей в общественно–политические процессы. Очевидно, что подход к феномену вовлеченности и, говоря шире, к проблеме выбора социально–политической позиции, так сказать, со стороны личности является необходимым, но в то же время недостаточным. Человек активно вовлекается в общественную жизнь и в политику не в качестве изолированного индивида (такие случаи возможны лишь как редкое исключение), но путем установления формальных и неформальных, социально–психологических связей с другими людьми, с общностью. Или, как мы видели на примере массовых движений, участвует в создании такой общности. Поняв, кто и почему вовлекается в ту или иную общность или создает ее, мы должны еще выяснить, что представляет собой сама эта общность, каковы психологические механизмы ее возникновения, функционирования и эволюции, ее социально–психологические качества, например уровень сплоченности, гомогенности, способность к активным действиям. Ибо действующая общность — это не механическая сумма индивидов, но особое относительно самостоятельное образование, обладающее своими собственными психологическими свойствами и оказывающее обратное влияние на индивидуальную психологию. Ставя вопрос таким образом, мы подходим к проблеме группового субъекта социально–политической психологии. Как отмечалось в другом месте книги, группа, как и личность, является наделенным собственной психологией действующим лицом на общественной и политической сцене. Социальная группа — одно из основных понятий общественных наук. При этом разные научные дисциплины и школы подходят к определению и классификации групп со своих собственных теоретико–методологических позиций. Группы различают по объему: большие, малые, среднего уровня, по объективному месту в системе производственных отношений (классы в марксистском понимании этого термина), по другим социально–экономическим критериям (уровень дохода, профессии), этнонациональным, географическим, культурным признакам. В контексте данной работы наибольший интерес представляет подход к группам как субъектам общественно–политического действия и классификация их именно по этому критерию. Наиболее полно и последовательно черты субъектности выражены у тех групп, которые самым принципом, мотивами и целями своего объединения непосредственно вовлечены в общественную и политическую жизнь. Такие группы различаются по масштабам: они могут быть малыми, или контактными, — например, политические «команды», лидирующие группировки и низовые ячейки партий, движений, политических течений, парламентские фракции — и относительно большими: членский состав и активные сторонники партий и движений, члены профсоюзов и других массовых общественных организаций. Многие из таких функционально вовлеченных групп являются институциональными: например, политическая партия, особенно если она имеет свой фиксированный членский состав, является одновременно и политическим институтом и группой большего или меньшего объема. То же самое можно сказать о государственном аппарате, хотя его роль как субъекта социально–политической деятельности неодинакова в различных национально–исторических ситуациях. В тех странах, где, как отмечалось выше, политики (депутаты, министры и другие высшие руководители) четко отделены от чиновников, исполнительный аппарат психологически характеризуется инструментальной или в наиболее квалифицированной своей части профессиональной вовлеченностью в политику и оказывает влияние в основном лишь на технические (как делать), но не принципиальные политические решения (что делать). В странах с неразвитой партийно–политической структурой (например, в России, во многих странах третьего мира) госаппарат превращается в мощную и самостоятельную политическую силу, наиболее влиятельную часть политической элиты. Непосредственным субъектом общественно–политической деятельности являются и те институциональные организации, которые формируются с целью защиты интересов социальных групп, существующих вне и независимо от сферы такой деятельности. К ним относятся предпринимательские, профсоюзные, лоббистские, этнонационалъные (обычно представляющие национальные меньшинства), молодежные и другие неполитические общественные организации. В социологической и политологической литературе их нередко называют «группы интересов» или «группы давления». Они, несомненно, участвуют в общественно–политической жизни, но в основном вмешиваются в решение лишь тех вопросов, которые непосредственно затрагивают представляемую ими социальную или профессиональную категорию. Правда, в определенных, особенно кризисных ситуациях общественно–политическая роль таких организаций, как предпринимательские или профсоюзные, может резко возрастать, в некоторых же странах профсоюзы составляют массовую базу политических партий. Однако поскольку речь идет о массовых общественных организациях, субъективно вовлеченными в общественно–политическую жизнь являются в них — по крайней мере, в большинстве случаев — лишь лидеры, активисты и работники аппарата. Основная же масса в основном играет роль потенциальной и часто довольно пассивной «базы поддержки» этих лидирующих группировок, а часто и вовсе не связана с ними психологически. Более сложно оценить «субъектность» тех больших общественных групп, которые различаются по своему положению и месту в социальной структуре общества, а также по национальной или национально–государственной принадлежности. К ним относятся нации, классы, социальные слои (страты). Поскольку такие группы существуют независимо от воли образующих их людей, их можно называть «объективными». В марксистской, да и не только в марксистской, литературе о классах, о «народных массах» принято говорить как о реальных субъектах исторического процесса, наделять их волей, мотивами, целями. Несомненно, любая большая социальная группа обладает определенными потребностями и интересами. Очевидно и то, что эти потребности и интересы оказывают громадное воздействие на политическую деятельность; институты власти не могут существовать, опираясь только на насилие, не имея активной или пассивной поддержки тех или других групп общества. Без такой поддержки не могут возникать и действовать сколько–нибудь влиятельные общественные и политические организации. В современном обществе любое политическое решение принимается в интересах каких–то групп общества. Все это, однако, не означает, что «объективные» массовые группы являются субъектами общественно–политической деятельности в том же смысле, что институты, организации и индивиды, специально этой деятельностью занимающиеся. Прежде всего потому, что большая часть масс большую часть времени не думает об общественно–политических проблемах и крайне мало и спорадически участвует в каких–либо общественных и политических действиях. В политических партиях почти во всех странах участвует лишь незначительное меньшинство населения. Не могут большие «объективные» социальные группы быть субъектом и по другой причине. Имманентным качеством субъекта является способность осуществлять целеполагание и целенаправленную деятельность; чтобы выступать в роли «единицы действия», субъект должен обладать минимумом психологического единства, целостности. Лебедь, рак и щука из басни — это, несомненно, группа, но, конечно же, не субъект. Политическая группа, будь то «команда», фракция, партия или государственный орган, состоит из людей, которые могут иметь разные позиции по тем или иным вопросам, но они не могли бы действовать на политической арене, если бы не обладали тем минимумом единства воли, который необходим для принятия и осуществления решений. Большие национальные и социально–экономические группы такой целостностью не обладают. У них, несомненно, есть свои интересы, но входящие в них люди осознают и понимают эти интересы по–разному. Принято считать, что если арифметическое большинство группы, например, взрослого населения страны, проголосовало за какое–то решение (утвердить конституцию, выбрать президентом определенного кандидата), оно тем самым выразило свою волю. Однако такое толкование верно лишь с точки зрения юридически закрепленной конвенциональной нормы («правило 51%»), но сомнительно с точки зрения строгого социологического и социально–психологического анализа. Ибо оно сбрасывает со счета мнение проголосовавших иначе или не участвовавших в голосовании избирателей, которые, в зависимости от норм закона о выборах, могут составлять около половины или даже большинство электората. Субъектом такого решения в действительности является не группа, а лишь та ее часть, которая в соответствии с принятыми юридическими правилами считается достаточной для его принятия. На любых демократических выборах голоса членов больших социальных групп — избирательного корпуса в целом, классов, профессиональных и других сообществ раскалываются между кандидатами от разных партий: это свидетельствует о том, что ни одна из таких групп не имеет ни единого представления о своих интересах, ни единства воли, необходимого субъекту действия. Итак, большие группы, существующие на основе объективной экономической, социальной, этнической, национальной, демографической дифференциации людей, не являются в строгом смысле субъектами социально–политической психологии и регулируемой ею деятельности. Это, однако, не значит, что психология и действия реальных субъектов независимы от тех социально–психологических процессов, которые происходят внутри таких групп, от осознаваемых на основе внутригруппового общения общих потребностей и стремлений входящих в них людей. Ходячее выражение: «такая–то партия или политик выражают интересы такого–то класса, слоя и т.д.» весьма неточно, ибо они выражают, во–первых, не только эти, но и свои собственные интересы, во–вторых, выражают групповые интересы по–своему, в соответствии с собственным пониманием, не обязательно разделяемым группой как целым. Но данное выражение не вовсе лишено смысла, ибо конкретное содержание политических решений и политического курса, деятельность общественной организации в той или иной мере формируется из содержания реальных социальных интересов. Когда большевики в 1917 г. совершили политический переворот в России, они стремились захватить власть и осуществить общественные преобразования, которые, следуя своей идеологии, считали соответствующими интересам «пролетариата». Но, выдвигая лозунги выхода из мировой войны и передачи земли крестьянам, они использовали реальные интересы громадной массы населения страны. В демократических странах любая претендующая на массовое влияние партия включает в свою программу осмысленные и сформулированные ею групповые интересы, отражающие те настроения и предпочтения, которые рождаются на массовом уровне, и в то же время пропагандируют в массах свое понимание этих интересов. Не представляя собой непосредственных субъектов общественно–политической деятельности, «объективные» (социально–экономические, национальные, демографические, территориальные) группы формируют необходимые социальные и психологические условия и предпосылки деятельности таких субъектов, соединены с ними системой прямых и обратных связей. Поэтому такие группы можно назвать субъектообразующими. Эту субъектообразующую роль разные макрогруппы выполняют в весьма различной степени. Например, в дореформенной царской России у крепостного крестьянства она была близка к нулю, а у дворянства и особенно у аристократической его части относительно высокой. У рабочего класса развитых стран в середине XX в. она была значительно большей, чем на ранних этапах индустриализации. У наций, обладающих демократическим государственным устройством, субъектообразующие функции развиты на порядок выше, чем у тех, которые живут в условиях деспотического или тоталитарного режима. В данной связи стоит заметить, что современную представительную демократию вообще можно охарактеризовать как систему, создающую оптимальные условия для субъектообразующей деятельности массовых социальных групп. Такое определение может показаться излишне усложненным, однако оно, возможно, более адекватно, чем основанное на буквальном понимании слова «демократия» — власть народа. В условиях парламентского или президентского режима власть осуществляет не народ, а политическая элита, которая в социальном и психологическом отношениях не тождественна и не может быть тождественной ни с народом в целом, ни с одной из образующих его массовых групп. Как свидетельствует опыт демократических стран, не может быть такого тождества и между «народными избранниками» и избирателями. Однако в зависимости от конкретных национально–исторических ситуаций эти массовые социальные группы могут оказывать большее или меньшее влияние на субъектов власти, в большей или меньшей степени осуществлять по отношению к ним субъектообразующую функцию. Уровни групповой общности Масштабы осуществления этой функции зависят не только от характера политического строя, но и от определенных социально–психологических качеств массовых социальных групп. Главным детерминантом субъектообразующей способности групп является характер внутригрупповых связей. Наименее развиты эти связи у групп, которые могут быть определены как типологические. Их общность — как, например, у тех же русских крестьян середины XIX в. — выражается главным образом в типологическом сходстве социальных, социально–психологических и культурных черт входящих в них людей. Их групповые связи замыкаются в основном в рамках непосредственной социальной среды семейной, локальной. У таких групп могут быть общие культура, морально–этические нормы и ценности, обыденная жизненная философия, но у них нет институтов и организаций, способных представлять их на общественно–политической арене, нет и своей ориентированной на целенаправленное действие системы социально–политических воззрений. Более высоким уровнем развития внутригрупповых связей отличаются идентификационные группы. Эти группы обладают групповым самосознанием: они идентифицируют себя как общности социэтального, национально–государственного или регионального масштаба, у входящих в них людей имеются определенные (хотя и различные) представления об общегрупповых интересах и потребностях. Однако они не владеют механизмами и процедурами систематизации этих потребностей и интересов, их «перевода» на язык социально–политических программ и концепций, формирования в своих собственных рамках общностей, способных действовать на социэтальной и политической арене. Настроения и потребности таких групп учитываются различными политическими силами и используются в политической борьбе, но сами они отчуждены от всех этих сил, не делегируют защиту своих интересов какой–либо из них. К данному типу относится большинство массовых социальных групп постсоциалистического российского общества — прежде всего рядовые наемные работники, но также и частники — предприниматели, которые в своем большинстве не определились в социэтально–политическом пространстве, не верят ни государственной власти, ни партиям, не имеют представительных и влиятельных корпоративных организаций. Высшего уровня внутригрупповых связей достигают группы, обладающие качеством солидарности. Оно выражается в том, что большая или, во всяком случае, значительная часть группы проявляет способность к объединению на общей идейно–политической платформе и формированию своих собственных институтов и организаций. Таким уровнем общности обладают во многих странах различные слои предпринимателей, некоторые этнонациональные группы. В современной России к этому уровню ближе всего основная часть государственной бюрократии: ее платформой, правда, нигде полностью и открыто не сформулированной, является защита своих властных прерогатив; ей не надо создавать каких–то особых групповых организаций, так как она изначально организована самим аппаратом государства. Предлагаемая типология, разумеется, весьма условна, ее задача — моделировать зависимость субъектообразующей функции группы от интенсивности и структуры внутригрупповых связей. В реальной жизни названные типы редко существуют в чистом виде, скорее преобладают «промежуточные» группы, объединяющие черты «соседних» типов. По сравнению с «объективными» массовыми группами гораздо более развитыми субъектообразующими и иногда субъектными качествами обладают добровольные общественные и политические ассоциации. Поскольку они создаются ради достижения каких–то политических целей или систематического отстаивания определенных социальных интересов, целеполагание и целенаправленная деятельность — необходимое условие их существования. Однако вопрос о том, насколько такие ассоциации могут выступать в роли массового субъекта, не имеет однозначного ответа — вернее, он зависит от конкретных ситуаций. Это хорошо видно на примере политических партий. В обществах, где существует политический плюрализм, они представляют собой добровольные ассоциации, обладающие довольно сложной, многоуровневой структурой. Если говорить только о крупных, имеющих массовое влияние партиях, их политика осуществляется на основе взаимодействия таких малых, средних и больших групп, как лидеры, актив, партийный аппарат и масса относительно устойчивых сторонников и избирателей. В партиях с фиксированным членством просто сторонники отличаются от обладателей партийных билетов. Субъектные качества ярко выражены у лидеров, актива, партийных деятелей разного уровня, что же касается рядовых членов партий, дело обстоит по–разному. В партиях, требующих от своих членов высокого уровня политической мобилизованности и дисциплины (например, в организованных по принципу «демократического централизма» массовых компартиях), рядовые партийцы активно участвуют в политической деятельности. В других массовых партиях членство носит чисто формальный характер (например, в британской лейбористской партии, в которой существует коллективное членство профсоюзов, рядовые члены последних чаще всего никак не участвуют в партийной работе). Такие пассивные или формальные члены партий, как и массы сторонников и избирателей, представляют собой субъектообразующие группы: чтобы сохранить их поддержку, партийное руководство должно учитывать их настроения и позиции по конкретным политическим проблемам, но они не являются активно действующими лицами на политической сцене. Такие же различия существуют и между массовыми неполитическими общественными организациями: одни из них отличает высокая массовая активность, в других масса выполняет функцию пассивной (и не всегда устойчивой) «базы поддержки» активного ядра. Движения как субъект социально–политической психологии Означает ли все сказанное выше, что массового группового субъекта социально–политической психологии, общественного и политического действия вообще не существует? Напротив, можно утверждать, что такой субъект не только вполне реален, но и играет ключевую роль во всем общественном развитии. Ими являются массовые социальные и политические движения. Выше проблемы движений затрагивались в связи с вопросом о психологии их активистов. Теперь же попытаемся дать краткую характеристику социально–психологических параметров данного феномена. Один из наиболее известных исследователей социальных движений французский социолог А. Турен считает их действующими лицами («актерами») процесса самопроизводства общества. Смысл этой идеи заключается в том, что движение есть такая форма коллективной деятельности, посредством которой социальные общности устанавливают, по выражению Турена, «контроль над историчностью», т.е. вмешиваются в ход истории. Это вмешательство становится возможным потому, что социальные движения носят конфликтный и наступательный характер: они оспаривают те или иные параметры существующих общественных отношений и культурных моделей и тем самым выступают как факторы изменений[195]. Социальные движения являются массовым групповым субъектом, хотя они и не подходят под определение группы как имеющей определенные границы и относительно устойчивой общности людей. Общность, охватываемая движением, обычно чрезвычайно подвижна: состав его участников постоянно меняется, то расширяясь, то сужаясь; форма его существования — более или менее спорадические акции, которые могут многократно возникать и прекращаться в течение более или менее длительного времени, но могут быстро и необратимо пойти на убыль, затухнуть вместе с самим движением. Эти черты движения объясняются их массовым характером: масса не в состоянии вся фазу и в течение длительного времени отдаваться общественной или политической деятельности. Вместе с тем именно эти особенности движений позволяют им выступать в роли подлинного массового субъекта и фактора социально–политических изменений. Движение — это действие, а действие, в котором непосредственно участвует масса, способно оказать гораздо более сильное и быстрое влияние на ситуацию, чем пассивные, институциональные формы вовлеченности масс в общественно–политическую жизнь (как, например, голосование на выборах). Движение выражается в таких действиях, как забастовки, демонстрации, митинги, и если масса их участников достигает некоей критической точки, в стране, городе или регионе возникает принципиально новая психологическая атмосфера, которая становится самостоятельным фактором политических решений. Мы не можем здесь обстоятельно рассматривать социально–психологические механизмы динамики общественно–политических движений, их мотивационные, когнитивные, аффективные и другие аспекты[196]. Социология и социальная психология общественных движений — весьма широкое направление научных исследований, в его рамках сформировалось немало школ и концепций. Стоит отметить, что попытки обосновать некую общую теорию движений или их типологию наталкиваются на трудности, связанные с чрезвычайным многообразием этого феномена. История знает как движения, ориентированные на достаточно определенные программные цели, так и таких целей не имеющие, выражающие лишь протест против тех или иных институтов, социальных явлений; движения «против» и движения «за»; хорошо организованные и стихийные. С точки зрения рассматриваемого здесь вопроса о групповых субъектах социально–политической психологии, важно прежде всего понять, чем движение психологически отличается от других видов массовых общностей и как оно соотносится с другими ее субъектами. В отличие от социально–экономических, культурных, региональных, этнических, профессиональных групп, движение представляет собой общность, объединенную общим действием. Такое действие означает сближение людей, интенсификацию социально–психологических связей общения между ними, причем связей, не «заданных» обстоятельствами, не навязанных общей судьбой, но конструируемых ими самими. В движениях проявляются не только те конкретные потребности и интересы, которые приводят к их возникновению, но и глубинная социально–интегративная потребность, присущая человеку. Мы видели ее проявление у активистов движения, но и основная масса их участников испытывает то же ощущение слитности с большей общностью людей, способной «действовать вместе», активно вмешиваться в ход событий. В движении личность на какое–то время преодолевает свою изоляцию, отчуждение от других, незнакомых людей и в то же время возрастает ее чувство социального достоинства — человек ощущает себя частью коллективной силы. С этим связан тот повышенный эмоциональный тонус, который обычно характеризует массовые акции. Массовое движение может возникать как принципиально новая общность, черпающая своих участников из различных социальных групп, и может быть связана генетически с интересами какой–то определенной социальной или этнической группы. Примером движений первого типа могут служить экологические движения, второго — массовое рабочее движение. По отношению к нему рабочий класс является субъектообразующей группой. Другие субъекты социальнополитической психологии — партии, группы активистов могут быть зачинщиками и организаторами движений, а в других ситуациях создаются самим движением, представляют собой его продукты. Например, многие социал–демократические и коммунистические партии возникли из рабочего движения, были его частью, и лишь затем отделились от него, превратились в самостоятельные политические институты.
Различные виды связей — генетических и структурных — между различными субъектообразующими, субъектными общностями и движениями иллюстрируются приводимой ниже схемой (см. рис. 1). В науке идут споры, совместима ли деятельность движений с их институционализацией. Многие исследователи утверждают, что движения и социальные и политические институты — взаимоисключающие феномены, превращение движения в институт убивает его, так как лишает его главной сущностной характеристики — способности воплощать свободную, никем не контролируемую и не регулируемую творческую самодеятельность масс. В действительности отношение между институтами или организациями и движениями, очевидно, определяется конкретной ситуацией. Отделение движений от институтов — прежде всего от политических партий — явление, типичное для стран со сложившейся и относительно устойчивой социальной и партийной структурой, где партии имеют налаженные связи с субъектообразующими группами, что позволяет им представлять различные социальные интересы. В этих ситуациях движения как бы сигнализируют о проблемах и потребностях, ощущаемых массами, но недостаточно осознанных политической элитой, и выступают «мотором изменений»: их напор заставляет вносить коррективы в институциональную политику, а подчас приводит и к существенным изменениям в партийной структуре и в составе политической элиты. В случае превращения движений в институты это «разделение труда» нарушается, и массы теряют возможность непосредственного вмешательства в политику. В этой связи весьма характерны те мучительные сомнения и противоречия, которые испытывали в ряде стран движения «зеленых», когда перед ними возникла перспектива превращения в обычные парламентские партии. Иная ситуация складывается в тех странах, где в связи с процессом ускоренной модернизации или перехода от государственной к рыночной экономике происходит бурная ломка старых структур и далеко еще не завершившееся формирование новых. В этой ситуации еще нет условий для функционирования партий, обладающих устойчивыми социальными связями, и воздействие массовых слоев на политику может осуществляться в основном в форме социально–политических движений. Если существующие в этих странах партии не связаны с такими движениями, они превращаются в не имеющие сколько–нибудь устойчивой социальной базы группки политиканов, занятых борьбой за власть и неспособных к проведению устойчивого политического курса. Чтобы выжить и приобрести статус реальной политической силы, партии, действующие в подобной ситуации, нередко стремятся подвести «под себя» массовые движения, мобилизация путем организации массовых акций потенциальных сторонников заменяет им организованную систему связей с обществом. В посттоталитарной России такие попытки — в основном не особенно успешные — инициирования массового движения особенно характерны для национал–патриотических и коммунистических группировок. В ряде стран третьего мира феномен «партии–движения» стал типичной чертой политической жизни; характерно, что многие ученые из этих стран решительно отрицают дуалистический тезис «или движение, или институт», отстаиваемый западными социологами. Российский опыт, с одной стороны, демонстрирует громадную роль массовых социальных и политических движений в обществе переходного периода, а с другой — крайнюю нестабильность, которую вносит в общественное развитие «волнообразная», по схеме «подъем–спад» динамика этих движений. Кризис и спад демократического движения после августа 1991 г. явился одним из решающих факторов неустойчивости политической ситуации и курса, проводимого руководством страны. «Организовать» массовое движение сверху, разумеется, невозможно, но демократические политические организации и властные структуры могут создавать «благоприятную среду» для их нового подъема, поддерживать те инициативы снизу, которые идут в этом направлении. В большинстве случаев политическая элита, в том числе ее группы, в свое время вышедшие из демократического движения, занимали противоположные позиции. Один из примеров — игнорирование этими группами и властными структурами в целом нового рабочего движения и его профсоюзных организаций, предпочтение, оказываемое ими «официальной» профсоюзной федерации — институту, унаследованному от тоталитаризма и имеющему мало общего с массовым движением. Массовый субъект общественно–политической жизни — движения, несомненно, во многих отношениях неудобен для любой власти и связанных с ней политических институтов, воспринимается ими как дестабилизирующий фактор. Однако, если стратегические цели этих институтов и движений совпадают, противодействие движениям, отказ от диалога с ними (при всех его сложностях) равносилен запрету на непосредственное участие масс в выработке и осуществлении политического курса. Такое противодействие может способствовать частичной и конъюнктурной стабилизации социально–политической ситуации, но является фактором углубления ее структурной, долгосрочной нестабильности. Ибо она делает политический курс страны игрушкой в руках отчужденных от общества соперничающих политических «команд» и клик. 4. Психологические основы политических ориентации Понятие политической ориентации В первых трех главах книги были рассмотрены те когнитивные и мотивационные механизмы, взаимодействие которых формирует отношение людей к общественно–политической действительности, их социальные и политические установки. Было показано также, как совокупность различных установок объединяется в целостную систему, характеризующую личность как субъекта социально–политической психологии, как взаимодействуют ценностные, когнитивные, аффективные и поведенческие составляющие этой системы. Теперь нам предстоит уяснить каким образом все эти процессы влияют на выбор людьми позиции и линии поведения в общественно–политической сфере. Иначе эту задачу можно сформулировать так: если до сих пор мы рассматривали различные процессы, происходящие в сфере социально–политической психологии, то теперь речь пойдет о конечном выходе, или «продукте» этих процессов, определяющем направленность общественно–политического поведения людей. Таким продуктом являются политические ориентации — представления людей о соответствующих их потребностям целях политической деятельности и приемлемых для них средствах достижения этих целей. Политические ориентации отличаются от идейно–политических концепций, программ партий и течений, изучаемых политологией, историей общественной и политической мысли. Политическая идеология есть продукт общественного сознания — система вербализованных воззрений, выражаемых на языке абстрактных понятий, фиксирующих ценности и цели, направляющие общественно–политическую деятельность. Ориентации представляют собой социально–психологическое образование; словесно выражаемые идеи и ценности в той или иной степени сочетаются в них с неосознанными или не вполне осознанными предпочтениями и мотивами, которые люди переживают на эмоциональном уровне. Как показывают многочисленные эмпирические исследования, целостные системы воззрений присутствуют в сознании лишь меньшинства членов общества, ориентации же распространены в гораздо более широкой массе. Часто употребляемый термин «массовое сознание» в свете сказанного нельзя считать вполне адекватным, под этим понятием в сущности подразумевается сочетание продуктов сознания и неосознанных психологических тенденций. Ориентации и концептуальные воззрения не разделены какой–то четкой гранью, они взаимосвязаны и частично сливаются друг с другом. Осознанные системы воззрений, теории, идеологии имеют психологические источники и психологическое содержание и в то же время выступают в качестве фактора формирования массовых ориентации, их утверждения и распространения в толще общества. Источники ориентации имеют двойственный характер: их порождает взаимодействие собственных мотивов и эмпирических знаний людей и усвоенных ими идейно–политических концепций. В когнитивном отношении они близки рассмотренным в главе книги социальным представлениям и отличаются от них тем, что помимо знаний содержат ценностные, аффективные и поведенческие установки в отношении явлений общественнополитической жизни. Формы и уровни политического выбора Выбор людьми политических ориентации — одна из центральных тем политической социологии и психологии. Рассматривая возникающие в данной связи проблемы, приходится сразу же контстатировать, что само понятие «выбор» далеко не самоочевидно. Его смысл более или менее ясен, поскольку речь идет о современных демократических обществах, где сосуществуют и свободно распространяются различные системы политических взглядов, где положение «политического человека» сходно с ситуацией потребителя в условиях свободного рынка: он «покупает» идейный и политический «товар», наиболее соответствующий его предпочтениям. Но о каком «выборе» можно говорить в условиях крепостной России или сталинского социализма? На первый взгляд может показаться, что понятие выбора релевантно только определенным, довольно ограниченным во времени и пространстве историческим ситуациям. На самом деле это не так. Даже в условиях абсолютной социальной и политической несвободы люди производят определенный психологический выбор: человек может интериоризировать свою несвободу, превратить фиксирующие ее социальные и политические нормы в свою собственную ориентацию и может внутренне отвергать ее, даже если у него нет возможностей выразить ее неприятие в каких–то общественных или политических акциях. Выбор в таких случаях выражается в эмоциональном восприятии данной системы отношений, в индивидуальной линии поведения в рамках этой системы. Среди американских негров–рабов были «дяди Томы», искренне преданные своим хозяевам, были и такие, которые, рискуя жизнью, убегали в свободные штаты. Такие же психологические и поведенческие различия существовали в среде русских крепостных крестьян. Конечно, поведение крепостного, убежавшего от барина в разбойники или в казаки, трудно назвать политическим выбором, но, скажем, массовые бунты, поднимавшие крестьян на вооруженную борьбу с властями, — это уже стихийная политическая акция. Психологическое родство этих явлений очевидно — в их основе определенная позиция в отношении существующей системы власти, неприятие освящавших ее патерналистских ценностных норм («власть от Бога», «вы наши отцы, мы ваши дети»). Очевидно, также, что это неприятие может различаться по формам и уровням своего проявления — от скрытых, внутренних эмоций (ненависти к носителям власти, отчуждения от них) до активного индивидуального или группового поведения. В условиях жестко репрессивной системы протестующее поведение доступно в обычной ситуации лишь ограниченному меньшинству выделяющихся по своим психологическим свойствам индивидов — таким, например, как те героические одиночки, которые пытались бороться против сталинского режима, а впоследствии, как диссиденты брежневского периода. В условиях деспотически организованных общественных систем латентное неприятие распространено в относительно широких слоях общества и проявляется не только в скрываемых от всех переживаниях, но и в определенных формах коммуникативного поведения (например, массовое слушание «плохих голосов» и «кухонные» политические дискуссии в Советском Союзе) и культурного творчества, особенно в «смеховой культуре», комически занижавшей образы носителей власти (фольклор, политические анекдоты). В целом можно утверждать, что психологический общественно–политический выбор происходит так или иначе при всех политических системах (т.е. таких общественных отношений, которым присуще наличие институтов власти). От характера системы и политической культуры зависят возможные формы и уровни такого выбора. В одних исторических ситуациях он ограничивается принятием дисперсных аффективных и поведенческих установок, в других выбором отдельных социально–политических ценностей, например, в рамках альтернативы: является ли воля монарха–властителя высшим законом или он должен сам подчиняться правовым нормам. В этих случаях имеют место доили предориентационные формы выбора. Высшей его формой является идентифицирующая ориентация, означающая, что человек сознательно отождествляет себя с какими–то системами ценностей, неформальными или институционализированными типами воззрений и политического поведения. Для идентификации могут использоваться как реально существующие, так и воображаемые, мифологические идейно–политические системы. Так советские «фрондеры–шестидесятники» и многие сочувствующие им граждане отождествляли себя с мифическим ленинским, сиречь «подлинным», социализмом, а их противники–сталинисты с вполне реальной политической практикой тоталитаризма. Общественно–политический выбор характеризуется не только своими исторически обусловленными формами, но и уровнем проявляемой в нем индивидуальной и групповой активности осуществляющих выбор людей. С этой точки зрения его можно оценивать по двум типам критериев. Во–первых, по отсутствию или наличию творческого компонента в политическом самоопределении индивидов и групп: осуществляется ли выбор из уже имеющегося набора ориентации и позиций или дополняется их модификацией, развитием, внесением новых элементов. В странах Запада 60–80–е годы, а в СССР и России перестроечный и постперестроечный период были временем бурного обновления старых и созидания новых идейно–политических ориентации, в котором принимали участие не только политики и идеологи, но и обычные граждане, испытывавшие потребность в самоопределении в условиях резко меняющихся социальных и культурных реалий. Во–вторых, выбор может быть групповым или индивидуальным. В тех случаях, когда индивид тесно связан психологически с социально–культурной группой, имеющей определенные идеологические и политические предпочтения, он часто автоматически, не размышляя, принимает свойственные ей ориентации. Этот автоматизм закладывается в период ранней политической социализации, когда ребенок на веру принимает все, чему его учат окружающие взрослые, и воспроизводится в случае сохранения устойчивых связей человека со средой происхождения. Он не обязательно равнозначен консерватизму — верности унаследованным от прошлого воззрениям. Групповые ориентации нередко меняются под влиянием перемен, происходящих в обществе, и многие психологически интегрированные в группу индивиды как бы незаметно для себя, автоматически усваивают эти изменения. Для англосаксонских стран, отличающихся стабильной партийной системой, характерен феномен традиционной партийной приверженности: семья или локальная социальная группа в течение ряда поколений поддерживают одну и ту же, «свою» партию, независимо от тех изменений, которые претерпевает ее программа и политика. Групповой характер носила идейно–политическая эволюция части российской интеллигенции в периоды застоя и перестройки: следуя своим идейным лидерам и не обременяя себя самостоятельным размышлением, многие ее представители переходили от латентной оппозиционности режиму к горбачевскому «социалистическому» антитоталитаризму, затем ельцинскому радикальному антикоммунизму и рыночному либерализму и наконец, разочаровавшись в Ельцине и Гайдаре, — к демонстративной тотальной оппозиции институтам власти. Нелишне, наконец, отметить, что выбор ориентации далеко не всегда и не у всех бывает определенным и законченным. Феномены политической дезориентированности и вакуума политических представлений существуют в различные эпохи, усиливаясь в наиболее сложные и переломные периоды общественного развития. Факторы выбора: психология и история Разговор об исторической обусловленности форм общественно–политического выбора подводит к теоретической проблеме, не всегда четко осознаваемой исследователями, но имеющей фундаментальное значение для социально–политической психологии. Речь идет о соотношении общечеловеческого и конкретно исторического в той совокупности явлений и процессов, которую мы обозначили этим понятием. С одной стороны, очевидна тесная связь содержания социально–политической психологии с политической системой и политической культурой и, следовательно, его исторический характер. Аргументы в пользу этого тезиса можно почерпнуть в тех научных теориях, которые обосновывают историческую эволюцию субъекта психологии — человека, личности (о некоторых аспектах этой эволюции см. главу II). С другой стороны, даже и не проводя глубоких исследований, легко заметить поразительное сходство многих психологических механизмов и процессов общественно–политического поведения людей, живших в совершенно различных исторических условиях. Борьба за власть в России 90–х годов XX в. весьма напоминает в этом отношении ту, которая происходила в Афинах IV или в Риме I в. до Р.Х., а психологические отношения между властителями и подданными в средневековых азиатских деспотиях могли бы служить моделью для сталинского тоталитаризма. По мнению А.И. Юрьева, «политико–психологические процессы, идущие в обществе», «являются константными во времени, на всех территориях и у всех народов… Политический порядок, подчиняющийся психологическим закономерностям… вечен и неизменен как сам человек»[197]. С этими тезисами трудно согласиться в полной мере, но определенное рациональное зерно в них, несомненно, имеется. Человек вряд ли абсолютно неизменен, но исторические изменения в нем происходят в пределах, заданных его биосоциальной природой. Очевидно, она так или иначе проявляется и в социально–политической психологии. В выборе политических ориентации «участвуют» как константные психологические структуры, присущие людям, когда бы и где бы они ни жили, так и психологически особенности «политического человека», порожденные его эпохой, типом цивилизации и общества. Развести эти две группы факторов и выявить механизмы их взаимодействия — одна из самых сложных проблем, изучаемых социально–политической психологией. Если обобщить опыт научных исследований, прямо или косвенно затрагивающих проблему политического выбора, можно выделить четыре наиболее распространенных подхода к его детерминации. Ситуационные и социологические факторы Первый из них может быть назван ситуационным (или историческим). Этот подход исходит из совершенно бесспорной посылки, что любая политическая ориентация представляет собой реакцию на ту конкретную историческую ситуацию, в которой находится общество. Эта ситуация определяет, во–первых, набор и иерархию тех проблем, которые призвана решать политика. Политические психологи подметили, что в ситуации, воспринимаемой как угрожающая, например, когда в стране свирепствует тяжелый экономический кризис или ей грозит нападение внешнего врага, возрастает притягательная сила жестко авторитарных политических ориентации[198]. Потребность в общественном порядке, дисциплине, неукоснительном соблюдении норм, ограничивающих индивидуальную свободу, в твердой власти, способной контролировать поведение людей и их готовность подчиняться ей, — все эти тенденции выступают как механизмы психологической защиты. Люди пытаются преодолеть страх и неуверенность путем сплочения в жестко организованную и жестко управляемую общность. Во–вторых, в ситуацию входит та конкретная совокупность уже сложившихся политических ориентации, выражающих их организаций, течений, лидеров, которые собственно и являются объектом выбора. Ситуационный подход затрагивает определенные мотивационные и когнитивные механизмы социально–политической психологии. Он раскрывает зависимость выбора ориентации от динамики потребностей и их иерархии, обусловленной сдвигами в социальной и политической ситуации, а также от содержания знаний (сложившихся политических представлений, идей и т.д.), которыми располагает общество. Этот подход особенно важен для анализа эволюции общественно–политических настроений. Однако вне его сферы остаются внутрипсихические структуры, которые обусловливают преобразование потребностей и мотивов в определенные (например, авторитарные), а не какие–то иные ориентации. О значении этих структур в процессе выбора свидетельствует хотя бы тот факт, что далеко не все люди под влиянием определенной ситуации выбирают одну и ту же ориентацию, не все в равной мере поддаются усилившемуся общественному настроению. Второй подход можно назвать социологическим. Он нацелен на анализ зависимости индивидуального и группового политического выбора от объективного экономического, социального и демографического статуса людей. Как известно, марксизм объясняет политическое мировоззрение и поведение прежде всего классовым положением и классовыми интересами людей (либо недостаточно развитым классовым сознанием, если такая зависимость не прослеживается). Адекватность такого объяснения применительно ко многим конкретным ситуациям не вызывает сомнений. Представители привилегированных классов во многих случаях выбирают консервативные политические ориентации, поскольку они заинтересованы в сохранении и стабильности существующих порядков. Наемные рабочие часто примыкают к реформистским ориентациям, так как надеются, что реформы улучшат их положение. Однако можно назвать не меньше ситуаций, которые не подтверждают «классовой» схемы. Например, английский рабочий класс с конца 70–х годов XX в. нередко оказывал консерваторам более широкую поддержку, чем «классовой» рабочей партии лейбористов. «Классовый» принцип не объясняет, почему в 60–70–х годах в странах Запада множество молодых людей из буржуазной среды активно выступали против норм буржуазного образа жизни. Вообще в условиях политического плюрализма ни одна классовая общность не выбирает вся скопом единую политическую ориентацию. Например, если какая–то часть буржуазного класса в некоторых ситуациях придерживается право авторитарных или фашистских политических установок, то не меньшая, а чаще всего большая его часть разделяет либерально–демократические или умеренно–консервативные взгляды. Все это не означает, что марксистский социологический подход полностью неверен. Скорее, он содержит зерно истины, но слишком груб и примитивен, нуждается в значительной корректировке и уточнении. В немарксистской позитивистской социологии проблема выбора решается на основе исследования корреляций между политическими ориентациями и набором социальных и демографических характеристик людей: уровня дохода, профессионального статуса, образования, возраста, пола, места проживания и т.д. Эти исследования ориентированы на получение данных, поддающихся измерению и носящих вероятностный характер. Их результатом является информация примерно такого типа: «сторонниками реформ мужчины являются чаще, чем женщины, люди среднего возраста чаще, чем молодежь и пожилые, специалисты чаще, чем рабочие и предприниматели, люди с высшим образованием чаще, чем менее образованные, получатели средних доходов — чем богатые и бедные, жители крупных городов — чем более мелких населенных пунктов». Таким образом, мы узнаем, каков наиболее вероятный выбор представителей каждой категории населения, а математизация данных позволяет измерить величину этой вероятности и значимость корреляций. Правда, при публикации такого рода исследований (особенно в массовой прессе) нередко происходит аберрация: абсолютное или даже относительное большинство группы (социальной или демографической) как бы выдается за группу в целом, и мы получаем, мягко говоря, весьма неточные сообщения типа: «рабочие против реформ, интеллигенция — за реформы». Социологический подход имеет громадное значение для выяснения социальной базы и масштаба влияния политических ориентации и их динамики. Однако он скорее ставит, чем решает проблемы их психологических основ; мы узнаем, что определенное сочетание социальных характеристик индивидов создает оптимальные предпосылки для того или иного идейно–политического выбора, но не получаем психологического объяснения этой зависимости. Правда, в наиболее глубоких эмпирических социологических исследованиях такое объяснение дается, но оно находится уже за рамками собственного социологического подхода. Манипулятивный подход Третий подход может быть назван манипулятивным. В его основе представление о зависимости идейно–политических позиций людей от их «обработки» системой массовых коммуникаций и пропаганды. Такая зависимость реальна; общеизвестно, что шансы на победу в борьбе за массовое влияние наиболее велики у политиков, которые искуснее своих соперников умеют манипулировать общественным мнением. Психология массовых коммуникаций стала предметом особого, весьма разветвленного направления социально–психологических исследований. В терминах общепсихологических категорий массовая манипуляция — это разновидность процесса убеждения или внушения (суггестии), что делает необходимым рассматривать ее в связи с научными знаниями об этом явлении. Принципиально важно, что людям свойственно не только поддаваться внушению, но и вырабатывать психологические механизмы защиты от него — контрсуггестию. Между тем некоторые сторонники манипулятивного подхода представляют человеческую психику и сознание как своего рода пустой контейнер, в который политики и масс медиа могут заложить любое содержание. Специальные исследования последних десятилетий опровергают эту в свое время весьма распространенную точку зрения. Обнаружилось, что эффективность пропаганды, в том числе наиболее мощной — телевизионной, отнюдь не беспредельна, а во многих случаях просто низка. В США рост расходов на проведение избирательных кампаний не ведет к росту числа голосов, поданных за соответствующих кандидатов. Интересен такой факт: американцы, наиболее активно следящие за политическими телепередачами, образуют наиболее нестабильную и колеблющуюся по своим политическим симпатиям часть электората. Очевидно, в условиях политической конкуренции, чем интенсивнее поток манипулирующей информации, которой подвергает себя человек, тем больше он сопротивляется ей и старается занять позицию, равно удаленную от соперничающих сторон. Этот психологический феномен американские исследователи назвали «воинственным нейтралитетом»[199]. В целом в современных обществах массовая информация — один из главных источников формирования социально–политических установок населения. Однако ее манипулятивное воздействие обратно пропорционально многообразию, плюрализму всей той суммы социальных знаний, которой располагает каждый индивид. В эту сумму входят, во–первых, те представления, которые человек усваивает в процессе первичной социализации: в родительской семье и школе, во–вторых, получаемые им в различных контактных группах, в которых он участвует на протяжении своего жизненного пути (дружеских, производственных и т.д.). Втретьих, любой индивид обладает знаниями, почерпнутыми из собственного опыта, ибо макросоциальные явления, политические события и решения влияют на условия его жизни, а это влияние так или иначе осознается и переживается им. Наконец, весьма важно, что идейное содержание самой массовой информации, получаемой человеком как в различные периоды его жизни, так и в каждый данный момент неоднородно: сегодня оно может быть иным, чем усвоенное им несколькими годами ранее; в различных телепередачах, газетных статьях, пропаганде соперничающих политиков и партий он сталкивается с противоположными ценностями и суждениями. Кроме того, если не все, то многие люди формируют свои взгляды под влиянием не только массовой информации, но и идей, почерпнутых из арсенала культуры: художественной и научной литературы, в частности, созданной в другие исторические эпохи и далекой от интересов сегодняшней идейно–политической борьбы. Многочисленными эмпирическими исследованиями установлено, что эффект пропагандистских кампаний, воздействие какого–то комплекса идей, интенсивно распространяемых масс медиа, зависит от их соответствия потребностям, настроениям, установкам, ранее сформировавшимся в психологии массовой аудитории. Этот вывод вполне подтверждается и опытом политической борьбы в современной России. Успех Жириновского и поражение гайдаровского «Выбора России» на декабрьских выборах 1993 г. многие объясняют тем, что пропагандистская кампания первого была весьма искусной и продуманной, а «выбороссы» вели ее на крайне низком профессиональном уровне. Этот вывод бесспорен, но, во всяком случае, не меньшую роль сыграл другой фактор: за Жириновского проголосовали главным образом группы населения, наиболее пострадавшие от последствий реформ 1992–1993 гг. Из всего того комплекса идей, которые звучали в его пропаганде, они «услышали» прежде всего то, что соответствовало их настроениям. Соперниками Жириновского в борьбе за недовольных и разочарованных избирателей были коммунисты, но равного с ним успеха им помешали добиться антикоммунистические установки, сохранившиеся в этой части избирательного корпуса: преимуществом лидера ЛДПР был имидж «нового человека», не связанного с дискредитированной КПСС. О манипулировании как доминирующем факторе формирования политических ориентации, по–видимому, можно говорить лишь применительно к тем ситуациям, в которых влияние всех или большинства источников социально–политических представлений массовых групп населения гомогенно, характеризуется единой направленностью. Ситуации, близкие к такой монолитной модели, возникают на высших точках развития изолированных от внешних влияний тоталитарных обществ. Более типичны ситуации, в которых гомогенность коммуникативных влияний существует на уровне неких базовых социальных ценностей (например, таких, как «социализм», «демократия»), но распространяемые по коммуникационным каналам представления о способах их реализации и оптимальных системах более конкретных идейно–политических приоритетов достаточно гетерогенны (например, социализм «реальный» и «с человеческим лицом»). В современном мире процесс социально–психологической индивидуализации (см. главу II) порождающий отторжение всего, что воспринимается как навязываемое индивиду социальными институтами, ведет, скорее, к ослаблению эффекта манипуляции. Во всяком случае, опросы, проводимые в различных странах, показывают, что за последние два–три десятилетия повсеместно резко снизился уровень доверия населения к масс медиа. Индивидуально–психологический подход. Концепция авторитарной личности Четвертый подход к анализу политического выбора можно назвать индивидуально–психологическим. Он основан на посылке, что устойчивые характерологические черты индивидуальной психики («психические структуры») - врожденные или приобретенные — влияют на общественно–политические позиции человека. Классическим трудом, представляющим данное направление, считается фундаментальное эмпирическое исследование «авторитарной личности», выполненное в США в 40–х годах под руководством одного из основоположников неофрейдизма Т. Адорно[200]. Используя весьма рафинированную методику, авторы этого исследования установили системную взаимосвязь различных психологических черт и взглядов людей, которых они определили как «потенциальных фашистов». Наиболее очевидной оказалась взаимосвязь между преобладанием примитивно–стереотипных способов восприятия, антисемитизмом и «этноцентризмом». Этим последним термином обозначался воинствующий национализм, «псевдопатриотизм», выражавшийся во враждебном отношении к другим этническим группам. Столь же характерна для этого типа приверженность к иерархическому принципу социальных отношений, предполагающему подчинение «чужих» групп «своей». Менее отчетливой, но тоже значимой оказалась взаимосвязь между этноцентрическими и иерархическими установками «потенциальных фашистов», с одной стороны, их общими экономическими и политическими воззрениями — с другой. Следуя укоренившемуся в американской политической культуре делению политических ориентации на консервативную и либеральную, исследователи установили, что консерваторы разделяют указанный комплекс установок чаще, чем либералы. Однако были выявлены и группы консерваторов со слабо выраженным этноцентризмом и «этноцентристов», не принадлежащих к консерваторам. По–видимому, в этом результате сказалась расплывчатость и многозначность понятий, обозначающих американский политический дуализм. В США 40–х годов консерватор — это прежде всего сторонник традиционного индивидуалистического капитализма, что не исключает ни приверженности демократическим политическим традициям, ни этнической и расовой терпимости. Либералы же выступали за вмешательство государства в экономику с целью социальной защиты обездоленных слоев населения и предотвращения кризисных потрясений. По данным исследования, авторитарную личность отличают не только определенные этнонациональные и социально–политические установки, но и характерологические личностные черты: приверженность принятым нормам («конвенциализм»), готовность к подчинению иерархии и идеализация иерархической структуры общества, авторитарная агрессивность, суеверность и стереотипная ментальность, дух разрушения и цинизма, гипертрофированный интерес к сексуальной проблематике, проекция собственных признаваемых порочными склонностей на других людей, поиск «козлов отпущения». Авторитарной личности Адорно и его сотрудники противопоставляли либеральную, или демократическую, личность, отличающуюся полярно противоположными чертами. Несомненным достижением исследования «авторитарной личности» был типологический психологический портрет определенной разновидности «политического человека» и установление структурной взаимосвязи между такими установками и характерологическими чертами, как агрессивный национализм, антидемократизм, иррационализм, крайне примитивный, тяготеющий к мифам, стереотипам и фобиям когнитивный аппарат. Достоверность этого портрета подтверждается тем, что выявленный им психологический комплекс нетрудно обнаружить в социально–исторических условиях, весьма далеких от Соединенных Штатов 40–х годов. Многие его черты мы узнаем, например, у людей, принадлежащих к национал — «патриотическому» течению или к так называемым красно–коричневым в России 90–х годов. Менее убедительно был решен в исследовании Адорно вопрос о происхождении этого комплекса. Авторы пытались ответить на него, руководствуясь психоаналитической методологией, обращаясь к переживаниям, испытанным авторитарными индивидами в раннем детстве в их отношениях с родителями, первичных восприятиях проблем секса, Другого, Я. Критики исследования отмечали, что такой подход неоправданно игнорирует более поздний опыт субъекта и его актуальную социальную ситуацию. Дальнейшие исследования авторитарной личности подтвердили значение этих факторов. Так, было доказано, что авторитарные черты чаще проявляются у людей старше 30 лет, чем у более молодых, у менее образованных (что, очевидно, связано с когнитивными особенностями данного типа), в более бедных и обделенных социальных слоях, а в буржуазной среде главным образом у мелких собственников с относительно низкими доходами[201]. Совокупность всех этих наблюдений позволяет предположить, что типичной (но не единственно возможной!) предпосылкой формирования авторитарных черт является неблагополучие, ущербность личности — неблагополучие либо психологическое, заложенное в ее структуру в раннем детстве, либо материальное и социальное, которое человек может начать испытывать значительно позже. Видимо, именно этот последний фактор объясняет возрастные характеристики авторитарных личностей: в молодости люди надеются на будущее, лишь достигнув среднего возраста, они начинают терять надежду. Зависимость уровня авторитаризма от ситуационных факторов подтверждает и резкое увеличение числа «авторитарных личностей», которое происходит в плохие, кризисные времена. Психология этноцентризма и фашизма Исследования группы Адорно вместе с рядом работ другого ведущего представителя неофрейдизма Э. Фромма положили начало изучению психологии одного из наиболее мрачных общественно–политических явлений XX в. — фашизма. В период максимального распространения фашизма — в 30–х — первой половине 40–х годов — он представлялся многим неким трагическим парадоксом, исторической и психологической загадкой. Парадокс заключался в том, что принесенное фашизмом одичание, возврат к типам общественного сознания и политической практике, напоминающим то ли первобытное варварство, то ли самые темные времена средневековья, происходили в странах европейской культуры, где, казалось бы, прочно укоренились идеи либерализма, демократии, гуманизма, человеческих прав и достоинства. Опыт фашизма, казалось, лишал всякого смысла те представления об общественном прогрессе, культуре, разумном социальном устройстве, на которые опиралась общественная мысль и политическая деятельность в развитых странах. Проблема фашизма, в том числе и ее социально–психологические аспекты, сложна и многогранна. Здесь мы можем коснуться лишь некоторых, наиболее существенных моментов. В психологическом плане весьма важным представляется различие между лидерами, активными участниками фашистского движения, глубоко впитавшими его идеи и ценности, с одной стороны, и его более или менее пассивными сторонниками, покорными подданными фашистских государств — с другой. Во втором случае мы имеем дело с разновидностью рассматривавшегося выше патерналистского сознания, для которого любая власть, какой бы жестокой она ни была, является законной и оправданной уже потому, что она власть, что она способна гарантировать порядок, стабильность определенных основ социального бытия, внушать страх соседям и подданным. Многие немецкие бюргеры в 30–х годах приняли Гитлера так же, как они приняли бы любого «твердого» политика, который, независимо от его идеологических лозунгов, сумел бы положить конец смутам и беспорядкам в фатерлянде, внушить уважение его врагам, облегчить бремя экономических проблем. Во многом иначе выглядят социально–психологические предпосылки фашистского движения и фашистских настроений, которые во времени и пространстве — явление гораздо более распространенное, чем фашизм, овладевший государственной властью. Главный вопрос, который оно ставит перед психологической теорией, можно сформулировать так: почему и как этические нормы христианской культуры, ценности и нормы культуры либерально–демократической, веками внедрявшиеся в сознание европейцев (и других народов, воспринявших европейскую культурную традицию), столь часто обнаруживают полную неспособность контролировать психологию и поведение индивидов и целых социальных групп? В сущности он совпадает с вопросом о соотношении психологической силы «культурной цензуры», «сверх–Я» и бессознательного «Оно», поставленным фрейдистским психоанализом. Ответ, очевидно, требует анализа как индивидуально–психологических, так и социально–исторических факторов. Простой и бесспорный факт неоднородности индивидуальных психологии, в частности, означает, что разные люди в весьма разной мере поддаются процессу аккультурации («окультуривания»), у какой–то их части бессознательные, существующие независимо от культурных влияний страсти и влечения могут намного превосходить по своей мотивирующей силе господствующие в обществе нормы и ценности. Одной из разновидностей подобной психологической структуры является тип личности, ориентированный на утверждение превосходства и власти над другими людьми для того, чтобы получить свободу распоряжаться чужой жизнью, уничтожать ее. Э. Фромм, специально описавший этот психологический феномен, который он назвал некрофилией (любовь к мертвому. — греч.), отмечал связь «некрофильной ориентации» с гипертрофированным влечением к силе и власти. «Для некрофила характерна установка на силу, — писал он. — Сила есть способность превратить человека в труп… В конечном счете всякая сила покоится на власти убивать… Кто любит мертвое, неизбежно любит и силу… Для такого человека… применение силы не является навязанным ему обстоятельствами преходящим действием — оно является его образом жизни». В уголовном мире из числа некрофилов рекрутируются профессиональные убийцы. В мире политическом — наиболее убежденные «идейные» фашисты, члены «правых» и «левых» террористических группировок. Среди поклонников Гитлера и Сталина, отмечал Фромм, были люди, которые просто боялись их, не желая признаться себе в этом страхе, были и те, кто видел в них «созидателей, спасителей и добрых отцов»[202]. Но самое глубокое и искреннее поклонение они вызывали у людей с «некрофильной» ориентацией. Правоту этих наблюдений подтверждает возрождение культа Гитлера в среде современных русских фашистов: видимо, именно глубокое психологическое родство побуждает их выбирать в идейные лидеры «фюрера», принадлежащего к другой нации и иной исторической эпохе. Для этой психологии весьма характерна надпись, оставленная одним из снайперов–боевиков коммуно–националистической оппозиции во время октябрьских событий 1993 г. на стене церкви, расположенной рядом с Белым домом: «Я убил шесть человек, и очень рад этому». Возможно, «некрофильная» ориентация является архетипом, атавизмом, унаследованным от времен, когда люди убивали друг друга, чтобы выжить. В латентном (скрытом) состоянии она может существовать в глубинах психики вполне добропорядочных и законопослушных граждан демократических стран. Ее превращение в реальный мотив поведения связано с сочетанием ряда личных, социальных и исторических обстоятельств. Во–первых, ее могут усиливать идеологические ценности и культурные нормы, ориентированные на нетерпимость, непримиримую вражду к другим группам: этническим, классовым, религиозным. В странах, где традиционно велико влияние религиозного фундаментализма, призывающего к искоренению иноверцев или экстремальных, агрессивных форм национализма, политические организации или группы, практикующие физическое насилие, террор, убийства, воспринимаются как более или менее нормальная деталь местного культурного колорита. В Западной Европе возникновение фашизма было непосредственно связано с кризисом либерально–демократических и гуманистических ценностей, вызванным первой мировой войной, с обусловленным ею взрывом националистических настроений, особенно в странах, потерпевших поражение. «Некрофильная» ориентация, преобразованная в политическое движение или тенденцию, нуждается в объекте ненависти, в обобщенном образе врага, которого можно и нужно уничтожать, и эта потребность порождает исследованную Адорно органическую связь фашизоидных авторитарных политических установок с национализмом, этноцентризмом и этническими фобиями (особенно с антисемитизмом). Другим возможным объектом этой ориентации может быть классовый враг, поэтому, несмотря на радикальное различие идеологических источников фашизма и коммунизма, ленинско–сталинская идеология классовой ненависти как в России, так и в ряде других стран содействовала распространению «некрофилии» на общественно–политической арене. Не случайно среди «часовых революции» — чекистов — было так много людей с явно выраженными садистскими наклонностями. Чтобы сохранять свою мобилизующую силу, эта идеология вынуждена изобретать все новых врагов: когда классовых противников уже не осталось, их стали искать в собственных рядах, потом среди «космополитов–сионистов»… Конечно, идейный коммунист — романтик, мечтающий осчастливить трудящихся всего мира, часто не имеет ничего общего с убежденным фашистом, однако множество сторонников «революционной идеологии» впитали именно ее «некрофильские» установки («если враг не сдается», его уничтожают»), что обусловило их психологическое родство с фашистами. В России 90–х годов оно ярко проявилось в смычке сталинистов–коммунистов с русскими последователями Гитлера. Во–вторых, развитию «фашизоидных» и этноцентрических тенденций обычно содействуют разного рода кризисные ситуации — кризисы экономические и культурные, личные и социэтальные. Выше уже говорилось о связи возникновения фашизма с кризисом либерализма и социально–политического рационализма, обостренного первой мировой войной. По сути дела это был кризис определенного типа культуры. Именно поэтому в фашистском движении участвовали или сочувствовали ему некоторые видные представители европейской культурной элиты, разочарованные в ценностях, господствовавших в прошлом веке. Фашизм и этноцентризм отражают также кризисную ситуацию, которую испытывает личность, невосприимчивая по своей внутренней структуре к либеральной, демократической и рационалистической культуре, восходящей к идеям Просвещения. Осевыми ценностями этой культуры являются мощь человеческого интеллекта, научное знание; утверждаемый ею приоритет духовной жизни человека над его грубо материальными запросами фактически объединяет ее с европейской христианской традицией. Люди, по типу своей мотивации и интеллекта неспособные к органическому и практическому освоению таких ценностей, могут испытывать — в условиях их господства в обществе комплекс социальной неполноценности, зависти к более умным, образованным и духовно развитым. Фашизм с его антиинтеллектуализмом, проповедью грубой силы и бездуховным «языческим» мистицизмом позволяет таким людям преодолеть кризис идентичности, обрести социальное достоинство. Стремление к максимально упрощенному, не требующему знаний и умственных усилий видению общественной жизни — таков важнейший когнитивный источник и величайший искус фашистского и любого этноцентрического мировоззрения. Как отмечает А. Худокормов (псевдоним автора газетной статьи, принадлежавшего к русскому фашистскому движению, а затем отвергшего его идеологию и практику), «фашизм — это максимальное упрощение всей духовной жизни и всех социальных связей. Это черно–белое видение мира и людей без всяких оттенков и нюансов»[203]. В когнитивном отношении фашизм и этноцентризм — наиболее последовательное выражение мифологического типа социально–политической психологии, описанного в первой главе этой книги. Максимально благоприятные условия для развития отмеченных личностно–психологических тенденций создаются в обстановке дестабилизации социально–групповых связей людей и особенно кризиса всей социальной и политической системы. Можно утверждать, что усиление фашизоидной и этноцентрической психологии является одним из возможных последствий современных процессов индивидуализации (см. главу II). Психологическая идентификация людей с объединенными культурной общностью и морально–этическими нормами группами плюс интеграция этих групп в более или менее устойчивый социэтальный порядок суть факторы, сдерживающие агрессивные, «некрофильные» устремления испытывающих их индивидов. Естественно, что ослабление этих факторов и тем более массированная дискредитация, моральная делегитимизация существующих социальных структур и политических институтов создают широкое поле для подобных устремлений. В таких ситуациях возрастают одиночество и дезориентация личности, превращающие в тяжкое бремя вдруг обретенную ею свободу от социальных норм и связей, усиливается поиск ею таких способов жизнедеятельности, которые одновременно позволили бы ей обрести максимально простые и ясные ориентиры, противостоять обесценившим себя общественным нормам и институтам, включиться в общность, обладающую соответствующими качествами. Людей, по структуре своей мотивации и интеллекта предрасположенных к упрощению образа мира, агрессивно–враждебному восприятию «чужих», приоритету силы, этот поиск сплошь и рядом ведет в ряды фашизоидных общностей. Причем возможность такого выбора особенно велика в юношеском возрасте, когда естественный поиск самоопределения, идентичности становящейся личности осложняется обстановкой социального кризиса. Как рассказывает А. Худокормов, в ряды фашистов–баркашевцев его привела «глубокая, почти патологическая ненависть к российской бюрократии, к чинодралам, ко всей казенной сволочи…» Но тут же приводит другой мотив, характерный для основной массы его бывших молодых соратников, охотно подчинившихся «ритуалам примитивной эсэсовской казармы»: «Главное — тебя освобождают от чувства одиночества, неприкаянности, покинутости и страха. Ты в волчьей стае, а следовательно — защищен»[204]. Двухмерная модель политической психологии Бесспорное достижение группы Адорно заключалось в плодотворном исследовании структуры фашизоидной психологии. Вместе с тем Адорно и его коллег справедливо критиковали за жесткую привязку типов индивидуальной политической психологии к дуалистической партийно–политической системе США, что фактически приводило к отождествлению авторитаризма с консервативными, или правыми, а противоположного типа — с либерально–демократическими, или левыми, позициями. Такой подход явно противоречил фактам, в том числе и результатам исследования: авторитарные черты не обязательно присущи правым и не являются чем–то совершенно несовместимым с левыми взглядами. Право–левый дуализм — характерная черта западной политической культуры, и естественно, что поиск его психологических основ стал одним из центральных направлений политико–психологических исследований. Эта работа шла в разных направлениях. Работы французских социологов 60–х годов позволили более четко очертить рамки проблемы. В них был доказан факт, вообще–то очевидный из повседневного опыта, но недостаточно учитывавшийся в концептуальном плане: распределение политических ориентации по оси правые — левые охватывает далеко не всю массу населения. Во Франции примерно треть избирателей не может быть отнесена ни к правым, ни к левым, ни к промежуточным — центристским ориентациям. Эту массу людей, не интересующихся политикой, не имеющих и не испытывающих настоятельной потребности иметь политическую ориентацию, социологи выделили в особую, «политическую семью», которую они окрестили «болотом»[205]. Тем самым фактически была поставлена задача изучения психологических типов, образующих эту «семью», от голосов которой во Франции и, очевидно, в других странах обычно зависят итоги парламентских и президентских выборов. Недостатки одномерной схемы Адорно пытался преодолеть английский психолог Г. Айзенк. В своем исследовании, признанном, как и «Авторитарная личность», «этапным» в развитии политической психологии, он наряду с «политической» осью правые — левые (по его терминологии, «консерваторы — радикалы») ввел особую психологическую ось «авторитаристы — демократы» (см. рис. 2). Если на первой оси располагались типы политических взглядов: правые радикалы — фашисты, консерваторы, социалисты, левые радикалы коммунисты, то на второй — политические темпераменты, измеряемые уровнем жесткости, нетерпимости и «мягкости», терпимости политических позиций человека. Жесткость, по Айзенку, равнозначна авторитаризму, мягкость — демократизму[206]. Двухмерная модель позволила выявить наличие аналогичных психологических типов среди сторонников противоположных политических воззрений. Так, нетерпимость и авторитаризм оказались в равной степени характерными для фашистов и коммунистов, социалисты и консерваторы заняли на авторитарнодемократической оси одинаковую центральную позицию; либералы, расположились в центре «политической» оси, но ближе к ее «демократическому» полюсу; психологически, по мнению Айзенка, только «политические темпераменты» (но не выбор между левой и правой идейно–политической позицией) коренятся в глубинных психологических структурах личности. В свете последующего исторического опыта этот вывод мог бы быть дополнен и скорректирован. Во–первых, несовпадение деления на правых и левых с психологической дифференциацией людей, очевидно, но его неправильно объяснять отсутствием психологических основ (или содержания) политических ориентации. Скорее оно связано с грубостью, упрощенностью этого деления, отражающего лишь некоторые общественно–политические приоритеты, но не различные системы целей и средств политической деятельности. Реальные же политические ориентации, очевидно, представляют собой, если использовать терминологию Айзенка, синтез «темпераментов» и идеологических установок. Поэтому «соседние» по месту на политической оси ориентации, например представленные в его схеме коммунистами и социалистами, в действительности могут находиться в отношениях непримиримой конфронтации. Хорошо известна вражда, долгое время разделявшая эти формально левые течения. Такая же, если не большая несовместимость разделяла в Англии 40–х годов консервативных последователей У. Черчилля и поклонников фашистского лидера О. Мосли. Во–вторых, формальные идеологические и программные установки, представляя собой символическое и вербальное выражение политических ориентации, необходимое им для собственной идентификации, не совпадают с последними. По сравнению с ориентациями они обычно более инерционны и менее динамичны. Сплошь и рядом идеологический «ярлык» ориентации остается тем же, а политическое и психологическое содержание существенно меняется. Так, коммунизм в Англии и ряде других стран Запада за истекшие десятилетия в значительной мере утратил свой жестко авторитарный характер времен Коминтерна, в коммунистическом движении произошла идейно–политическая дифференциация, расколовшая его на догматиков ленинско–сталинского закала и демократов, лояльных к существующему политическому строю. Подобные факты свидетельствуют о том, что социально–политическая психология должна с осторожностью использовать партийные и идеологические «ярлыки», всякий раз проверяя, действительно ли они отражают единую систему политических установок. С учетом этих оговорок познавательное значение методологии Айзенка неоспоримо. И это доказывается в первую очередь тем, что спустя 40 лет она может служить для объяснения происшедших за это время изменений. К 90–м годам в странах Запада при сохранении межпартийных различий и борьбы партий наметилось очевидное сближение идеологии и политики умеренно–правых и умеренно–левых течений, выразившееся в компромиссе между принципами свободного предпринимательства и социальной справедливости (или солидарности), национализма и антимилитаризма. Образовавшее основу нового общественного консенсуса, оно было вызвано рядом экономических, социальных и политических сдвигов, но, взглянув на схему Айзенка, легко обнаружить также и его исходные психологические предпосылки. Уже в 50–е годы такие течения, как консерваторы и социалисты, находились в одной и той же точке «психологической» оси (авторитаризм–демократизм), а за истекшие годы оба они, судя по ряду признаков, приблизились к либералам и тем самым — к демократическому полюсу. Эта исходная психологическая близость (при демонстрируемой противоположности идеологических платформ) сыграла свою роль в формировании консенсуса при одновременном политическом и психологическом отмежевании от него крайних течений — ультралевого и ультраправого (агрессивного националистического) экстремизма. Еще более впечатляющим доказательством аналитических возможностей двухмерной модели может служить ее применение к исследованию политических ориентации в посттоталитарной России. Так, политическое сближение полярных по исходным идеологическим установкам течений — ортодоксальных марксистов–ленинцев и ультранационалистов, их фактическое слияние в единую «непримиримую оппозицию» было предопределено их исходной психологической близостью — одинаково высоким уровнем авторитаризма и антидемократизма. Причем сближение произошло на основе националистической и шовинистической идеологии, что, как отмечалось, подтвердило тезис Адорно о системной связи «этноцентризма и авторитаризма» (и к ней мы еще вернемся). Политические ориентации в России Но дело не только в этом. Представляется, что двухмерное моделирование, предложенное Айзенком, может быть применено для определения и анализа социально–психологических основ российских политических ориентации (см. рисунок 3). Две координаты, образующие приводимую схему, отображают два основных принципа политико–психологической дифференциации населения России. Во–первых, россияне имеют различные представления об оптимальном государственно–политическом устройстве, во–вторых, поразному относятся к происходящим в России социально–экономическим преобразованиям, к потенциальному переходу от государственного социализма к рыночной экономике. Первое членение, отображенное на ординате схемы, распределяет россиян (как и англичан у Айзенка) между тоталитарно–авторитарным и демократическим полюсами. Второе, изображенное на абсциссе, более соответствует российским условиям, чем «западный» дуализм, «левые–правые». Именно отношение к реформам, к государственно–распределительному прошлому и туманному рыночному будущему образует главную ось политической борьбы в России, в которой левые и крайне правые (в западном смысле слова) оказываются в одном лагере, а просто правые — в другом. Поэтому в качестве полюсов абсциссы выступают государственно–социалистический консерватизм (не путать с консерватизмом буржуазным), тесно слитый с великодержавным национализмом, и рыночный «западнический» реформизм. Отметим, что двухмерное моделирование политических ориентации даже больше отвечает российским условиям, чем английским и большинства западных стран. Ведь авторитарно–демократическая ось там отображает главным образом различие между демократически ориентированным большинством и намного меньшими, большей частью политически маргинальными группами авторитаристов. У нас авторитаризм — весьма мощный и массовый политико–психологический феномен. В верхнем правом углу схемы находятся сторонники коммунистов. Для них наиболее характерна ностальгия по плановой экономике и тоталитарному «порядку», они наиболее непримиримые противники частной собственности и рыночных реформ. В этой группе значителен удельный вес людей старшего возраста. Национал — «патриоты» и жириновцы, превосходя коммунистов по силе великодержавно–националистических «имперских» установок, более индифферентны по сравнению с ними к вопросам собственности, менее «антирыночны». Эти течения поддерживают некоторые националистически и протекционистски ориентированные круги предпринимателей, их сторонники менее консервативны экономически, чем политически, готовы «включиться» в рыночные отношения при условии их жесткого регулирования государством и участия в них структур власти. Впрочем, эти различия ощущаются скорее в более идеологизированных (например, среди ветеранов КПСС, активистов национал — «патриотических» организаций и т.д.) и элитарных слоях «непримиримой оппозиции», чем в основной массе рядовых ее сторонников. На организуемых ею манифестациях все они смешиваются в толпу, в которой фашисты и православные монархисты объединяются с коммунистами под красными знаменами, антисемитскими транспарантами и портретами Сталина. Мобилизующим фактором «непримиримым» служат не столько общие идеологемы, сколько — что вообще типично для ультраавторитарных течений — образ врага — жидо–массонов и «дерьмократов», продающих страну западным империалистам. В социологическом и психологическом отношениях представители данной ориентации достаточно гетерогенны. Наиболее массовую их часть образуют «ситуационно–неблагополучные» и «угрожаемые». Среди них рядовые наемные работники, страдающие от экономического кризиса и инфляции, представители привилегированных в прошлом социальных и профессиональных групп, либо не сумевшие адаптироваться к новой социально–экономической ситуации, либо видящие в реформах угрозу своему статусу. Особую подгруппу образуют сельские жители — работники колхозов и совхозов, объединенные с аграрными генералами (председательско–директорский корпус) системой патерналистских отношений, боящихся потерять «кормушку» и относительную гарантию стабильности в случае разрушения этой системы. Боевая сила и ядро непримиримой оппозиции — «структурно–неблагополучные» и «идейные авторитаристы». Первые обладают чертами «авторитарной личности», описанной Адорно. Это люди, страдающие часто с молодых лет — комплексом социальной неполноценности, одиночества, неприкаянности, формирующими у них агрессивность, цинизм, деструктивные склонности. Они — социальные и психологические маргиналы, и могли бы служить иллюстрацией к описанию патологий, выявляемых фрейдистским психоанализом. Идейные авторитаристы, напротив, нередко обладают вполне уравновешенной психикой. Психологическим источником их позиций может быть интериоризированная социальная роль в системе жестко иерархических отношений власти (армия, другие силовые структуры); принадлежность к профессии, формирующей технократический рационализм, также ориентированный на модель жесткой властной иерархии (естественные и технические науки); защита социального статуса и достоинства включенных в структуру авторитарно–тоталитарного милитаризованного государства (ВПК). Этим источником могут быть также абстрактно–ценностные националистические и великодержавные установки, возникшие как способ самоидентификации в профессионально интеллектуальной или художественно–творческой — деятельности (ученые–гуманитарии, кинорежиссеры, художники и др.)[207]. Идейные авторитаристы происходят из старой партийной, хозяйственной, научно–технической, идеологической (преподаватели марксизма) номенклатуры, из офицеров вооруженных сил, госбезопасности и МВД, работников карательных органов. Но среди них немало и представителей научно–технической интеллигенции, ориентированных на проект нового авторитаризма, очищенного от архаических наслоений коммунистической идеологии, на ценности силы и порядка. Этот психологический тип характерен для «интеллигентной» части партии Жириновского. В целом идейные авторитаристы отличаются более высоким уровнем образования от малообразованной и поэтому восприимчивой к примитивным стереотипам и мифологии основной базы «непримиримой оппозиции». Государственники — «центристы» по основному содержанию своих экономических и политических воззрений мало отличаются от жириновцев и национал — «патриотов». Их идеалом также является сильное государство, распространяющее свою власть на экономику и защищающее великодержавные национальные интересы. Однако все эти установки проявляются у них в менее агрессивной, более смягченной форме, не обязательно сопряжены с антисемитизмом и этноцентризмом. На их систему ценностей некоторое, хотя и весьма поверхностное влияние оказывают демократические и реформаторские идеи, присутствующие в их «сверх–Я» в качестве конвенциональной нормы, вовсе отвергать которую было бы неприлично. Многие лидеры и идеологи этой ориентации — бывшие номенклатурные «прогрессисты» 60–70–х годов и люди из окружения Горбачева; органически не принимая либеральное реформаторство и отказ от великодержавия, они дорожат своим самосознанием борцов с тоталитаризмом. Все это придает их менталитету двойственный характер, побуждает их прикрывать свое родство с откровенными авторитаризмом и национализмом демократически–реформаторским флером. Отсюда курьезное тяготение к декларативной самоидентификации с социал–демократизмом, к которому они имеют ненамного большее отношение, чем ЛДПР Жириновского к либерализму и демократии. Все эти особенности государственников — «центристов» позволяют разместить их по абсциссе ближе к центру, чем коммунистов, а по ординате — чем непримиримую оппозицию. И в то же время заключить в кавычки « центристскую» часть их политического титула. Социальную базу данного течения составляют группы населения, которые хотели бы совместить государственный авторитаризм с наиболее соблазнительными прелестями рынка и демократических свобод (возможностью коммерческой прибыли, обильным потребительским рынком, гласностью). Или хотя бы сохранить свободу выбора между рыночной и традиционно–социалистической формами экономического бытия в условиях неопределенности переходного периода. Впрочем, эта база весьма узка, «элитарна» и охватывает главным образом некоторые слои хозяйственной номенклатуры (часть директорского корпуса) и интеллигенции. В верхнем левом квадранте схемы размещаются реформаторы–государственники. Они близки к реформаторскому полюсу абсциссы и весьма далеки от демократического полюса ординаты. Осознанно или интуитивно эти люди делают ставку на авторитарный путь осуществления рыночных реформ, на сильную исполнительную власть; пороки хасбулатовского Верховного совета, Государственной думы, Советов убедили их в фундаментальной недееспособности представительной демократии, во всяком случае в условиях современной России. В рефлектирующих группах сторонников этой ориентации популярны рассуждения «о неготовности России к демократии», интерес и чилийскому, южнокорейскому и т.п. опыту модернизации, мечтания о превращении госаппарата в главную силу реформ. Их более широкие слои высказываются за «сильную руку» в ходе социологических опросов. К ним принадлежат часть тех, кто идентифицирует себя с либерализмом, представляя его технократический вариант. Представители этой ориентации, происходящие из самых различных социальных слоев, образуют значительную, возможно, даже большую часть относительно устойчивого электората Ельцина и демократов. К реформаторскому и одновременно к демократическому полюсам двух осей близка реформаторско–демократическая ориентация. К ней принадлежат часть интеллигенции и элитарные (в культурном отношении) группы других слоев общества, которые интериоризировали демократические ценности, выработанные мировой цивилизацией. Кроме этих «идейных демократов», базу данной ориентации образуют «демократы–прагматики». Это представители тех социальных групп, которые под влиянием собственного практического опыта выработали ориентацию на самостоятельную деятельность и самовыражение на общественно–политической арене. В силу их объективного положения или характера отстаиваемых ими интересов они поняли, что нуждаются в независимости от власти, в возможности оказывать давление на нее извне или вступать с ней в партнерско–договорные отношения, не включаясь в ее структуры. В такой ситуации находятся, например, независимое рабочее движение, негосударственные и несвязанные с бюрократией предпринимательские структуры, группы, поддерживающие гражданские инициативы и движения: экологические, правозащитные, потребительские и т.д. Словом, различные компоненты складывающегося гражданского общества. Независимо от уровня и характера политической вовлеченности всех этих групп, их цели и интересы соответствуют демократическим принципам политической организации общества, бюрократический авторитаризм — их общий противник. Для определенной части социально–профессиональных групп главным ориентиром их общественно–политического поведения являются собственные корпоративные интересы. В силу гетерогенности и часто конъюнктурного характера этих интересов данная ориентация занимает на обеих осях промежуточное положение. Одни группы в каких–то ситуациях могут быть заинтересованы в дистанцировании от государства и в рыночных реформах, другие — в его покровительстве и торможении реформ. По своей объективной ситуации они близки ко многим демократам–прагматикам; корпоративистская ориентация черпает своих сторонников среди людей, связанных с профессиональными — рабочими и предпринимательскими — сообществами. В той мере, в какой эти сообщества стремятся избежать государственного контроля и зависимости от бюрократического произвола, они представляют потенциальный резерв демократической ориентации. Вокруг центра пересечения осей расположена обширная зона, «население» которой составляют массовые слои с противоречивыми, неустойчивыми и слабо выраженными политическими ориентациями. Совокупность этих качеств, однако, не равнозначна «пустому контейнеру», не исключает наличия определенных, хотя и не особенно логически взаимосвязанных предпочтений. Люди, находящиеся в центральной зоне, являются в принципе сторонниками реформ, видя в их продолжений прежде всего путь к преодолению хаоса, неопределенности, к стабилизации экономической и политической ситуации. Испытывая подчас ностальгию по спокойствию и стабильности доперестроечных времен, они все же не хотят возвращения к тоталитарному режиму и коммунистической власти, ценят те возможности свободного выбора в разных сферах жизнедеятельности, которые открылись в посттоталитарной ситуации. В то же время «политического человека», принадлежащего к «центральной зоне», не устраивает большинство сегодняшних реальных последствий реформ, он настаивает на их корректировке, которая существенно уменьшила бы материальные жертвы, приносимые им населением, и сократила бы дифференциацию доходов, на восстановлении общественного порядка, энергичной борьбе с коррупцией, преступностью. С авторитарными и консервативными ориентациями этого человека сближает отношение к функциям государства: не будучи готов к самостоятельному плаванию по морю свободного рынка (хотя нередко уже вынужденный пуститься в такое плавание), он требует от государственной власти гарантий своего экономического и социального положения, активного регулирующего и контролирующего вмешательства в экономические и общественные процессы. Он не разделяет агрессивного национализма «непримиримых», относительно индифферентен к волнующим их проблемам восстановления Союза и решительно против великодержавных политических акций, которые вовлекли бы Россию в войны в ближнем зарубежье. Но ему свойствен, по выражению некоторых социологов, «диффузный национализм», выражающийся в недовольстве падением международного веса страны, питаемый проблемами русских в зарубежье, сепаратизмом автономий и активностью различных этнических мафий в коренных русских областях. Понятие демократии в его институциональном и культурном значениях, принцип разделения властей не имеют для представителя «центральной зоны» ясного смысла, качества государства он, скорее, склонен измерять в терминах силы и слабости. В опросах он чаще всего высказывается за «сильную руку» и проявляет равнодушие к приоритету демократизации. Но он не является и антидемократом, демократия для него абстрактная ценность, сближающаяся с политической и социальной справедливостью. Практические, непосредственно затрагивающие его проявления антидемократизма — бесконтрольная и коррумпированная власть чиновников вызывает у него протест и возмущение. Судя по данным опросов, он считает, что, несмотря на перестройку, гласность и свободные выборы, он подчинен недемократической власти и этот факт оценивается им негативно. «Центральная зона» охватывает значительную, возможно, большую часть взрослого населения России. В терминах электоральной политологии она может быть отнесена к «болоту», так как не оказывает устойчивой поддержки ни одному из существующих политических течений. На референдуме апреля 1993 г. она в значительной своей части поддержала Ельцина, на декабрьских выборах того же года не участвовала в голосовании, а отдельные ее слои отдали голоса Жириновскому. Основной массив этой зоны составляют наемные работники госсектора и, возможно, развитие в стране ориентированной на эти слои массовой социал–демократической или социал–либеральной партии способствовало бы их политическому самоопределению. Заметим, что «болото» состоит не только из центральной зоны. В него входят массы людей, совершенно отключенных от политики, не видящих никакой связи между ней и своими заботами и устремлениями. К ним относятся, в частности, многочисленные люмпенизированные и криминальные слои. В схеме не выделены также группы населения бывших автономий, особенно северокавказских, включенные в националистические и сепаратистские движения и воспринимающие общероссийскую политику сквозь призму соответствующих этнонациональных конфликтов. Неготовность России к демократии? При общем взгляде на рассматриваемую схему бросается в глаза слабая выраженность демократических ориентации: верхняя «авторитарная» половина политического пространства заполнена гораздо гуще, чем половина «демократическая». Объясняется ли это тем, что русские от природы менее психологически демократичны, т.е. менее терпимы, сговорчивы, добры друг к другу, более властолюбивы и более покорны власти, чем, например, немцы, французы, американцы? Вспомнив историю, в это поверить трудно. А ведь весьма популярный в 90–е годы в российских политических и около политических кругах тезис о неготовности России к демократии имеет в числе прочих и психологический смысл. Думается, что глубинные национальные психологические структуры, особенности национального характера вряд ли имеют прямое отношение к демократизму или авторитаризму политической психологии. Если бы это было не так, одни нации с момента своего появления на свет божий достигли бы высот демократизма, а другие вечно были бы обречены прозябать в авторитарной низине. Однако мы хорошо знаем, что демократия — продукт истории и столь же историчны те черты психического склада наций, которые могут быть названы демократичными (или авторитарными). Эти черты закрепляются в национальной политической культуре. Если же говорить о низком уровне политического демократизма россиян, то он объясняется по меньшей мере тремя главными факторами. Во–первых, фактор культурно–исторический. Многовековое почти беспрерывное развитие страны в условиях политической деспотии и тирании не смогло сформировать демократическую политическую культуру, соответствующие ей психологические установки и нормы поведения. Во–вторых, фактор ситуационный. В учебниках политической психологии обычно отмечается рост уровня авторитаризма в обществе в периоды глубоких кризисов. В ужесточении политических порядков и системы власти люди ищут защиты от угрожающих им процессов усиления хаоса, социального распада. Современный российский массовый авторитаризм во многом ситуационен: в разгар перестройки (в 1988–1989 гг.), когда кризис экономики и политических институтов еще не был столь очевиден, наблюдалась противоположная тенденция — взлет демократических устремлений и ожиданий. В–третьих, фактор практического опыта. Лишь незначительное меньшинство может выработать демократические установки путем усвоения соответствующих абстрактных ценностей. Большинство может прийти к ним лишь пройдя прагматический (или инструментальный) этап их освоения, лишь убедившись на собственном опыте, что «демократия полезна». Но та незавершенная, непоследовательная и формальная демократия, с которой россияне столкнулись в перестроечные и постперестроечные годы, скорее, могла убедить их в обратном — в дисфункциональности демократии. Во всяком случае, вряд ли они могли поверить в ее достоинства, наблюдая по своим телевизорам в 1992–1993 гг. за «боевыми действиями» в Верховном совете. Рассматривая реальную и потенциальную базу массовой демократической ориентации, мы уже имели случай заметить, что в российском обществе существуют такие социальные группы, которые в силу особенностей своего положения могут прийти к демократизму именно практически эмпирическим путем. Неготовность России к демократии можно признать реальной, если рассматривать ее как феномен культурный, конкретно–исторический и ситуационный. Но было бы ошибочным видеть в ней некую внеисторическую психологическую константу, коренящуюся якобы в природных особенностях «русского духа». Если реально оценивать именно психологические, т.е. закрепленные в установках «массовой личности» параметры этой «неготовности», то не следует забывать о том, что, как и любое состояние, она может измеряться не абсолютными, но относительными показателями. С точки зрения психологического демократизма, россияне стоят в конце XX в., очевидно, на более низкой ступени, чем западноевропейцы, но выше многих жителей стран Азии и Африки, для которых всевластный и коррумпированный чиновник нормальная социальная фигура, не вызывающая какого–либо морального осуждения. Психологическое неприятие бюрократического авторитаризма, особенно в его повседневных житейских проявлениях — не менее характерная черта российской политической психологии, чем ее относительная информативность к ценностям представительной демократии. И эту черту, укорененную в представлении о «неправедности» чиновничьей власти, правильно было бы считать серьезной психологической предпосылкой развития демократического сознания. Типы личности и политические ориентации Теперь мы можем вернуться к оценке познавательных возможностей индивидуально–психологического подхода, рассмотрение которого, собственно, и подвело нас к проблематике политических ориентации в России. В свете имеющегося научного опыта, очевидно, можно согласиться с тем, что действительно в процессе первичной, дополитической социализации складываются определенные личностные психические структуры, более или менее релевантные различным политическим ориентациям. В свете нашей гипотезы о базовой напряженности и способах ее разрядки можно — также в гипотетическом плане (иное невозможно в силу слабой изученности проблемы) - высказать некоторые соображения о типах этой релевантности. Их источником является спонтанный выбор личностной стратегии в системе отношений «Я — Другой». Предпосылки развития «демократического» типа личности создает стратегия интеграции в общность при сохранении собственной психологической автономии. Она становится возможной при условии благожелательной открытости личности к другим людям, достаточной силы собственного Я, способности к эмпатии, мотивации «для других». Другой тип интеграции обусловлен слабостью Я, низким уровнем контрсуггестии, неспособностью установить равноправные отношения психологического обмена с другими, происходящим отсюда бессознательным переживанием одиночества, активностью защитных психологических механизмов. Такое сочетание порождает тип конформно–пассивного (психологически) авторитариста — человека, ищущего в принадлежности к иерархически организованной общности компенсацию слабости собственной индивидуальности и компенсирующего также эту слабость агрессивностью в отношении «чужих». Существует, наконец, стратегия индивидуального выделения из общности и поддержания связей с ней на основе стремления к преобладанию над другими,власти, лидерству, манипулированию. Она может, сочетаясь с силой Я и высоким уровнем суггетивности, формировать тип активного агрессивного авторитариста. Слабостью модели Айзенка является имплицитно заложенное в ней представление о непосредственной связи между психической структурой личности («политическим темпераментом») и ее политической ориентацией. По его модели получается: чем выше уровень авторитаризма человека, тем ближе оказывается он к полюсам «политической оси». В действительности такой непосредственной связи как некоего всеобщего закона не существует; скорее она работает лишь в некоторых ситуациях. Дело в том, что личностные демократизм и авторитаризм не тождественны демократизму и авторитаризму как политическим феноменам. Верно, что различные типы авторитаризма преобладают на крайних точках политического спектра, где предпочтительными считаются наиболее жесткие, предполагающие принуждение и насилие методы достижения политических целей. Но активные и пассивные авторитаристы отнюдь не являются каким–то редким исключением среди лидеров, активистов и сторонников более умеренных и демократических по своим принципам течений: их можно встретить в любой партии и движении. Другое дело, что в такого рода течениях принятые ими ценности не дают развернуться авторитарным качествам столь свободно, как в течениях, авторитарных по своей платформе. Все это лишний раз доказывает, что внутрипсихические структуры воздействуют на политические позиции людей не прямо, а взаимодействуя с иными, ситуационными факторами. Во многих же случаях они определяют не выбор позиции, а стиль поведения в рамках позиции, принятой по другим основаниям. Еще меньше оснований говорить об однозначном общественно–политическом смысле тех или иных рассматриваемых изолированно психических свойств личности. Мы видели, например, что такой фактор, как сила Я, — если понимать под ней способность и потребность активного индивидуального воздействия на социальную ситуацию может стимулировать формирование как демократического, так и авторитарного типа личности. Вместе с тем на массовом уровне это психическое свойство, очевидно, является одним из факторов, воздействующих на выбор принципиальных общественно–политических позиций. Человек с сильным Я скорее поддержит политические течения, основанные на индивидуалистических ценностях, призывающие людей добиваться индивидуального успеха, опираясь на собственные силы. Люди со слабым Я скорее пойдут за теми политиками, которые уповают на силу коллектива или организуемую государством социальную защиту. Так что этот психологический фактор, вероятно, играет какую–то роль в дифференциации на правых и левых (социалистов) в капиталистических странах, реформаторов и противников реформ в посттоталитарных государствах. Но, разумеется, кроме него, на эту дифференциацию оказывает влияние и много других личностных, социальных, культурных и ситуационных факторов. Вряд ли можно считать случайностью, что психологам легче всего удается проследить непосредственное воздействие психических структур личности на ее общественно–политические взгляды на примере агрессивного авторитаризма и на крайних полюсах политического спектра. Политический экстремизм чаще всего строится на гипертрофированно–иррациональных представлениях и поведении, а такой агрессивный иррационализм — обычно следствие некоей психической ущербности, неблагополучия, вынуждающего личность активно использовать механизмы психологической защиты и мифические формы сознания. Вот, например, какие черты обнаружило у правых и левых экстремистов западноевропейское исследование ценностей: они чаще сторонников других политических течений чувствуют себя социально изолированными и одинокими, не имеют семьи, ощущают бессмысленность жизни, испытывают тревогу за будущее[208]. Можно сказать, что эмоционально переживаемые чувства одиночества, беззащитности, тревожности являются типичной непосредственной предпосылкой политического экстремизма и авторитаризма. Но столь непосредственная связь между аффективными психическими структурами или состояниями и политическими ориентациями существует у тех людей, у которых по тем или иным причинам заторможены или парализованы более рациональные и упорядоченные механизмы политического выбора. Социализация и ориентация У любого человека глубинные, приобретенные в период первичной социализации психические структуры так или иначе участвуют в политическом выборе. Но участвуют лишь в качестве исходного «сырого материала», который впоследствии — в зависимости от конкретных исторических, социальных, культурных, личностных обстоятельств (ситуаций) может лечь в основу совершенно разных политических ориентации или оказаться вовсе невостребованным. Что, например, произойдет с человеком, обладающим «демократическим типом личности», в стране, где невозможна демократическая направленность политической деятельности? Скорее всего, его «демократическая» психическая структура проявится в сфере семейных, дружеских и других межличностных отношений, но не даст никакого политического «выхода». Вопрос о роли ранних и последующих этапов социализации в формировании политических ориентации не сводится к проявлениям в политике характерологических свойств личности. В рамках индивидуально–психического или психоаналитического подходов изучаются и процессы политической социализации: формирование в детском возрасте конкретного содержания, т.е. когнитивного и ценностного аспектов политических взглядов человека. Понятно, что, поскольку опыт и знания, да и историческая ситуация, в которой живет человек, сильно отличаются от того, что он узнает и переживает в раннем детстве, было бы нелепо думать, что уже в 3–5 лет совершается окончательный выбор политической ориентации. Исследователи–психоаналитики, изучавшие политическую социализацию, и не ставили вопрос таким образом. Наиболее видные представители этого направления Д. Истон и Дж. Деннис на основании эмпирического обследования 12 тыс. американских детей пришли к выводу, что в раннем возрасте формируется механизм «диффузной поддержки» существующей политической системы. Эти и другие американские авторы полагали, что дети переносят положительное аффективное восприятие отца и известного им представителя власти полицейского — на президента США, в результате чего фигура главы государства идеализируется, а затем эта идеализация может быть экстраполирована и на более безличные институты власти, например конгресс, на символы государства: флаг, гимн[209]. Критики концепции «диффузной поддержки» справедливо отмечали ограниченность того эмпрического материала, который лег в ее основание. Выводы авторов, относящиеся к маленьким белым американцам 60–х годов из благополучного среднего класса, не подтвердились данными о социализации детей из более бедных семей, особенно принадлежащих к этническим меньшинствам, а также детей более поздних поколений, росших в ином, более «конфликтном», чем в середине 60–х годов внутриполитическом климате. И уж совсем сомнительной выглядит эта концепция, если пытаться применять ее к условиям ряда других стран с менее конформным, чем в США, массовым политическим сознанием. И наконец, самый убедительный аргумент критиков состоял в том, что «диффузная поддержка» может быть сугубо временным феноменом и исчезать с повзрослением человека в связи с переживаемыми им личными или политическими событиями. При всей справедливости этой критики нельзя отрицать значимость концепции «диффузной поддержки». Во–первых, она вполне адекватна тем ситуациям, в которых институты первичной социализации (семья, школа, другие детские учреждения) вносят в сознание детей единую, непротиворечивую систему политических представлений. Опросы детей, проводимые в России в разгар перестройки, показали, что среди них была широко распространена идеализация «дедушки Ленина», хотя в этой период его образ был уже основательно подмочен средствами массовой информации. Во–вторых, многое в политической психологии подтверждает предположение Истона и Денниса, что первичные детские представления, даже будучи вытеснены последующим опытом, обладают значительной устойчивостью и что в «моменты кризисов вероятно возвращение личности к своим базовым представлениям»[210]. …В начале 1994 г. психолог Е.З. Басина провела серию бесед–интервью с несколькими представителями московской естественнонаучной и технической интеллигенции об их отношении к реформам и социально–политической ситуации в России[211]. Констатируя, что в этой социальной группе, первоначально поддержавшей реформы, впоследствии наметился явный сдвиг к антиреформаторским и тоталитарно«социалистическим» позициям, исследовательница объясняет его не только резким ухудшением социально–экономического положения респондентов. «Необходимо обладать продуманным и устойчивым «демократическим» мировоззрением, — пишет Е.З. Басина, — чтобы не подвергнуть сомнению свои прежние социальные ориентации, в связи с частичной реализацией которых твоя собственная жизнь изменилась таким образом, что перестала доставлять тебе радость, а окружающее утратило понятность. У обсуждаемой группы такого мировоззрения никогда не было… Новый период актуализировал «школьные» примитивные знания… единственной теории социального развития, известной «естественникам–техникам», которые теперь все больше проступают в их мыслях» — респонденты рассуждают о российской действительности 90–х годов в понятиях традиционного марксизма–ленинизма (хороший социализм — плохой капитализм и проч.). Приведенный пример показывает, что в ситуации когнитивной неопределенности и когнитивного дефицита по поводу негативных явлений («плохое и непонятное») знания — пусть даже мифологические, усвоенные на более ранних этапах политической социализации, мобилизуются и выступают своего рода якорем спасения в бушующем море распадающейся, теряющей смысл действительности. Выбор как процесс В целом рассмотренный материал подтверждает значимость установок и иных личностных структур, сложившихся на ранних стадиях дополитической и политической социализации, для процесса политического выбора. Социально–политическая психология, являясь психологической дисциплиной, не может не учитывать это первичное звено формирования политической ориентации личности. Но не надо забывать в то же время, что речь идет именно о первичном звене, за которым следует ряд других. Выбор политической ориентации для каждого конкретного индивида лишь в редких случаях является единовременным актом. Правильнее рассматривать его как процесс, развертывающийся на протяжении всей жизни человека. Формы этого процесса многообразны и могут быть расположены между двумя «крайними» типами. Один из них — стабильно–эволюционный. Он соответствует относительной устойчивости социально–экономического положения и культурной идентичности индивида, а также нарушаемой лишь ситуационными кризисами стабильности общественно–политической системы. В этих условиях содержание принятой в начале жизненного пути политической ориентации может меняться, но оно меняется, как уже отмечалось выше, не на индивидуальном, а на социэтальном и групповом уровнях по мере накопления общественно–политических изменений и соответствующего обновления набора актуальных для общества проблем. Иными словами, речь идет об эволюционном процессе психологических изменений, не контролируемом самим индивидом. Он просто «идет в ногу» с социумом. Второй «крайний» тип — дискретный процесс изменений в индивидуальной политической ориентации. Он происходит в обстановке резких, переломных экономических, социальных, политических и культурных сдвигов в обществе и(или) в положении индивида. В этих случаях он вынужден делать не один, а ряд последовательных выборов, причем выбор в таких ситуациях теряет автоматизм, становится более индивидуальным, сопряжен с какими–то переживаниями, когнитивной и интеллектуальной активностью совершающего его субъекта. При отсутствии у него необходимых волевых, интеллектуальных и когнитивных ресурсов он может оказаться не в состоянии совершить выбор, утратить какую бы то ни было ориентацию, пополнить ряды психолого–политических маргиналов. У людей, вообще никогда не имевших определенной ориентации, представителей политического «болота» в подобных ситуациях обычно происходит ослабление элементов одной и усиление другой из тех ориентации, которым они в той или иной степени подвержены. Для анализа подобного типа выбора недостаточно индивидуально–психологического подхода, он должен быть дополнен подходами ситуационным и манипулятивным. Ибо в переломных ситуациях люди в силу своей растерянности, утраты собственных ориентиров обычно больше подвержены воздействию разного рода идейно–политических манипуляций. Как уже отмечалось, ни воздействие ситуации, ни манипуляция не могут сами по себе быть монопольными факторами формирования индивидуальных и групповых ориентации. Выбор ориентации — результат взаимодействия этих факторов с потребностями и мотивами человека, выражающимися в его социальных ожиданиях и аспирациях. (Значение мотивации в социально–политической психологии подробно рассматривалось в главе П.) Здесь важно отметить, что иерархия потребностей и мотивов индивида является относительно устойчивым компонентом психики, который обеспечивает определенную независимость политического выбора от сиюминутных ситуационных и манипулятивных воздействий. Разумеется, потребности и мотивы, выражающие их установки, тоже изменчивы. Они меняются в зависимости от изменений в макросоциальной и личной ситуации, от возраста человека. Однако существуют психологические механизмы и образования, которые придают определенную устойчивость «представляющим» мотивы установкам людей. К ним относятся принимаемые людьми социальные роли, их макрогрупповые идентификации и интерериоризированные ими социально–политические ценности. Роли и идентификации как факторы выбора Социальная роль, усвоенная человеком, как бы моделирует систему его потребностей и ожиданий и становится чем–то вроде призмы, сквозь которую он воспринимает общественно–политическую действительность. Например, если главные для человека — семейные роли (отца или матери), он будет особенно болезненно воспринимать все те явления в обществе, которые подрывают семейное благосостояние, затрудняют нормальное воспитание и образование детей. Это само по себе не предопределяет его выбор политической ориентации, но образует существенный критерий такого выбора. Например, в постсоветской России какая–то часть населения придерживается реформистской ориентации, поскольку видит в новых видах деятельности и способах заработка, связанных с реформами, средство укрепления материальной базы семьи. В исследовании Е.З. Басиной отмечен любопытный факт: ее респондентки–женщины в общем более склонны положительно воспринимать пореформенную экономическую ситуацию, так как она избавила их от очередей и дефицита. Более, чем мужчины, вовлеченные в круг семейных забот и обязанностей, они получили возможность с меньшими трудностями и препятствиями выполнять требования, предъявляемые их социальной ролью. Понятно, в тех гораздо более многочисленных случаях, в которых реформы привели к резкому снижению жизненного уровня семей, реакция часто является противоположной. Люди, усвоившие главным образом профессиональные роли, воспринимают социальную действительность в зависимости от того, какие возможности она создает для их профессиональной деятельности, в каком направлении меняет ее социальный статус. Ряд респондентов Басиной враждебны либерально–реформаторскому течению в большой степени потому, что они являются высококвалифицированными специалистами военно–промышленного комплекса, а научно–исследовательская работа в данной области под влиянием реформ пришла в упадок. Следует в этой связи отметить, что полное игнорирование проблем статуса творчески–производительной деятельности вообще является серьезной идеологической слабостью либерально–реформаторского течения в России. Прямо или косвенно оно акцентирует социальную ценность деятельности, нацеленной на обогащение, но отнюдь не самоценность созидательного труда. Эта странная особенность российского либерального этоса отрицательно сказывается на отношении к реформам не только ученых из ВПК, но и (наряду, разумеется, с другими факторами) относительно широких слоев рабочего класса. Идентификация индивида с большой социальной группой является в любом обществе мощным фактором политического выбора. Это идентификация восходит к одной из фундаментальных особенностей человеческой психологии — потребности индивида в выделении из всей массы человеческих существ — выделению не только индивидуальному, но и групповому, потребностью в своем собственном «мы», в принадлежности к определенной социальной среде. Этот вид выделения детально исследован французским социологом П. Бурдье, показавшим, что идентификация с группой, демонстрация групповой принадлежности влияет на чрезвычайно широкий круг предпочтений и потребностей людей, их культурные нормы, взгляды, формы потребления и общения[212]. Под влиянием макрогрупповой или «средовой» идентификации складываются и политические предпочтения: она представляет собой механизм экстраполяции массовых потребностей в политическую сферу. Эти предпочтения не определяют жестко политическую ориентацию, но очерчивают рамки ее выбора. Так люди, идентифицирующие себя с группой собственников, бизнесменов, как правило, отторгают ориентации, предполагающие отмену или ограничение частной собственности, высокие налоги на прибыль. В ряде капиталистических стран люди, идентифицирующие себя с рабочим классом, поддерживают партии и течения, провозглашающие себя защитниками наемных трудящихся. В связи с экономическими и социальными сдвигами последних десятилетий в развитых странах умножилось число людей, индентифицирующих себя со «средним классом». Это привело к расширению влияния умеренных, внеклассовых «компромиссных» ориентации, отталкивающихся от крайностей и тяготеющих к центру политического спектра. Групповая индентификация с классом или иной социально–экономической группой — лишь один из возможных ее видов. В современных обществах групповая идентификация индивида плюралистична; он идентифицирует себя обычно не с одной, а с несколькими большими группами: нацией, профессиональной, локальной, демографической (женщины, молодежь), этнической, культурной и т.д. Выбор политической ориентации связан с относительной значимостью различных групп для субъекта: на него влияет идентификация с той группой, с которой в данный момент он ощущает наибольшую психологическую близость. Таким образом, можно сказать, что выбор ориентации обусловлен выбором наиболее значимой группы. Психология национализма Наиболее элементарный, распространенный и психологически естественный вид групповой идентификации — национальное чувство. Прежде чем осознать себя рабочим, предпринимателем или представителем «среднего класса», человек ощущает себя русским, немцем, поляком и т.д. Национальная или национально–государственная принадлежность — это эмпирическая данность, освоение которой не требует ни особого жизненного опыта, ни каких–либо сложных когнитивных процедур. В течение длительных исторических эпох во многих обществах национально–государственная ориентация фактически была единственно возможной. Государство, представлявшее территориальную общность (землю, княжество, город), а позднее — нацию, в средневековье и в эпоху абсолютизма нередко было единственным реальным политическим субъектом. Явным объектом политической борьбы были не проблемы жизни общества, но государственная власть в чистом виде. Преобладающей формой политической деятельности были войны между государствами или за власть в данном государстве. «Политический человек» если и совершал выбор, то выбирал не систему взглядов и идей, но властителя, которому стоило подчиниться. Иногда, правда, существовал и идеологический, говоря современным языком, выбор, но он был связан не с политической, а с религиозной идеологией. В современном мире националистическая или национал–государственная ориентация выражает определенную систему политических предпочтений. Ее источниками являются протест против национального неравноправия и стремление наций или этносов, не имеющих собственного государства, к независимости; угроза, реальная или воображаемая, национальной независимости и интересам со стороны других государств; межнациональные конфликты из–за спорных территорий; культурная экспансия извне, грозящая подорвать национальную идентичность; иммиграция представителей других национально–расовых групп, обостряющая конкуренцию за рабочие места и вносящая элементы «чужой» культуры в жизнь нации; особо высокий экономический статус национальных меньшинств (например, китайцев в ряде стран Юго–Восточной Азии); великодержавные амбиции и милитаристские тенденции, за которыми стоят прагматические интересы определенных социальных групп. Однако национализм распространен и в тех странах и социальных слоях, которые не вовлечены в такие конфликты и интересы или в жизни которых они не играют большой роли. Можно выделить несколько типов личных и социальных ситуаций, образующих психологическую почву подобного иррационального, не обусловленного реальными интересами политического национализма. Во–первых, он часто свойствен атомизированным (выше мы их назвали «типологическими») социальным группам, не имеющим возможностей для выработки собственных групповых идентичности и самосознания. Испытывая естественную потребность в принадлежности к большой социальной общности, члены таких групп удовлетворяют ее единственно доступным для них способом — переживанием национального чувства. Подобный тип групповых идентификаций порождает обычно пассивный, диффузный национализм, который, однако, в стрессовых ситуациях (дестабилизация положения группы, ощущение угрозы и т.п.) может принимать активную, агрессивную форму. Такого рода национализм особенно характерен для традиционной крестьянской психологии. Во–вторых, политический национализм сплошь и рядом является следствием низкого уровня когнитивных и интеллектуальных возможностей человека. Для людей невежественных и не способных ни к самостоятельному размышлению, ни к усвоению рационально обоснованных политических ориентации характерна склонность к предельно упрощенному объяснению негативно отражающихся на их положении экономических и социальных явлений, к наиболее примитивным мифологическим формам каузальной аттрибуции (см. главу I). Приписывание причин подобных явлений злокозненным действиям других наций или государств — одна из наиболее распространенных форм такого упрощения. Это тот самый случай, когда «простота хуже воровства». Характерно, что по данным конкретных исследований, агрессивный национализм характерен для малообразованных слоев населения и часто связан с антиинтеллектуализмом: в сущности он является способом агрессивного самооправдания собственной неспособности к политическому мышлению. Можно утверждать, что национализм во многих социально–исторических ситуациях представляет собой искаженную иррациональную форму экстраполяции массовых потребностей в социально–политическую сферу. За массовыми националистическими ориентациями в таких ситуациях кроются реальные неудовлетворенные потребности, в действительности не имеющие отношения к национальным проблемам и интересам. В–третьих, гипертрофированная национальная самоидентификация является результатом маргинального положения человека в социально–групповой структуре общества. Эта маргинализация может быть обусловлена его низким статусом в своей социальной группе. Ее жертвой является, например, мелкий предприниматель, не сумевший добиться делового успеха и испытывающий угрозу разорения; рабочий, которому не удалось приобрести профессиональную квалификацию; представитель творческой интеллигенции, не получивший признания своих коллег и публики. Маргиналами являются и люмпены — одинокие, социально–изолированные люди, не сумевшие прибиться ни к одной из обладающих определенным статусом и достоинством групп общества. Для таких людей националистическая ориентация есть способ восстановления — хотя бы иллюзорного — утраченных психологических связей с обществом. Такого рода национализм — психология озлобленных неудачников. Политический национализм, когда он не является идеологией угнетенной или униженной нации, обычно тесно связан с консервативными (правыми в капиталистических, государственно–социалистическими в постсоциалистических странах) и авторитарными ориентациями. Эта связь естественна и органична. Консерватизм выражает интересы привилегированных социальных групп, стремящихся сохранить статус–кво, не желающих учитывать потребности основной части общества. Апелляция к общенациональным интересам — наиболее удобный способ оправдания такой позиции, игнорирования реального многообразия социально–групповых интересов, существующих в обществе. Кроме того, она позволяет эксплуатировать стихийный массовый консерватизм, питаемый страхом перемен («не было бы хуже!»), особенно сильным в кризисной, неопределенной, стохастической ситуации. Апелляция к национальным традициям, «корням», к национальной идее эффективное противоядие против стремления к реформам, к социальным и культурным переменам. Психологически национализм традиционных консерваторов — в царской России или в странах Запада XIX первой половины XX в. не отличается от национализма советской и постсоветской номенклатуры. В истории известны ситуации когда ожесточенная борьба сторонников и противников агрессивного национализма была связана с конфликтом модернизаторских и консервативных течений в общественном сознании (один из наиболее ярких примеров — дело Дрейфуса во Франции). Что касается авторитаризма, то он связан с национализмом психологически и политически. Психологически — потому, что их объединяет дух культурной и идеологической нетерпимости, враждебность к «чужим». Политически — потому, что национализм оправдывает авторитарную власть национального государства над обществом, приносит суверенитет и свободу личности в жертву «национально государственной идее». Антагонист авторитаризма — демократия — несовместима с национализмом, ибо она требует учета и взаимосогласования различных социальных интересов и отстаивает суверенитет личности, а не ее подчинение общенациональному интересу, воплощаемому государством. Демократия расходится с авторитаризмом в самом понимании национальных интересов: для первой — это совокупность интересов реальных людей, составляющих общество, для второго — интерес общности, олицетворенной в государстве, практически сводящийся к интересу государства как института власти. Национализм нередко противопоставляют патриотизму, называя его «лжепатриотизм». Это противопоставление справедливо. Патриотизм, это — совокупность положительных ценностных и аффективных установок в отношении своей страны, ее народа, не совпадающая с какой–либо конкретной политической ориентацией. Он может служить лишь критерием выбора политической ориентации, побуждая принимать более всего соответствующую интересам всей общности людей, составляющих страну, нацию. Объектом патриотических чувств, ценностей, политических предпочтений является именно эта общность как таковая, национализм же обращен вовне, в нем главное — противопоставление своей нации другой или другим национально–этническим или национально–государственным общностям, синдром «чужого», «врага». Во многих ситуациях грань между патриотизмом и национализмом трудно уловима, но главным критерием их различения всегда остается наличие или отсутствие враждебного, конфронтационного восприятия других наций. Ценностный и прагматический выбор Политическая мотивация, укрепляемая интериоризованной социальной ролью и макрогрупповой идентификацией человека, находит свое более или менее осознанное выражение в принятой им системе социально–политических ценностей. Принятие социальной ценностной ориентации — одно из важнейших и необходимых звеньев в процессе политического выбора. Такие ценности, как нация, сила государства, экономическая или политическая свобода, благосостояние, равенство, социальная справедливость, социализм, верность традиционным устоям общества, технико–экономический прогресс, социальная иерархия, антимилитаризм, защита природной среды, демократия и др., лежат в основе предпочитаемых человеком целей политической деятельности, образующих, как помнит читатель, один из основных компонентов политической ориентации. Отмечая решающее значение ценностей в политическом сознании, важно в то же время учитывать, что их роль в выборе политической ориентации различна у разных людей. Существует тип политического человека, у которого ценности являются определяющим фактором выбора. Как правило, такой человек сильно вовлечен психологически в общественно–политическую жизнь. Его можно назвать идейным человеком, ибо его общественно–политические ценности приобретают характер достаточно четких и твердых личных убеждений. Эти убеждения относительно независимы от его личных прагматических интересов, они возникли под влиянием каких–то глубинно–психических черт его личности, или условий его политической социализации, или самостоятельной рефлексии. Таких людей нетрудно обнаружить среди наиболее активных представителей любой политической ориентации, но особенно много их среди сторонников тех течений, которые руководствуются обще гуманистическими ценностями, не связанными с какими–либо групповыми или индивидуальными интересами (например, среди экологистов, правозащитников). В некоторых странах (например, на Ближнем и Среднем Востоке) политический выбор часто осуществляется на основе религиозных убеждений человека, подкрепленных идентификацией с соответствующей конфессиональной общностью. Во всех этих случаях можно говорить о ценностном выборе политической ориентации. Большинство людей, во всяком случае в развитых странах, совершают политический выбор не на ценностных, но на прагматических основаниях. Они выбирают ту политическую ориентацию, которая представляется им наиболее соответствующей их потребностям и интересам. Ценности тоже участвуют в их выборе, но не как его определяющий фактор, а в инструментальном качестве — как способ осознания, самооправдания (психологической легитимизации) и подкрепления сделанного выбора. Основу же прагматического выбора образует социальный интерес. Выбор, осуществляемый на этой основе, направлен в отличие от выбора ценностного не только на цели политической деятельности, но и на средства их достижения. Ибо, будучи выбором прагматическим, он естественно руководствуется не только привлекательностью определенных политических целей, но и критерием эффективности политической деятельности, а это направляет внимание выбирающего на применяемые ею средства достижения целей. Рассматривая политические ориентации в постсоветской России, мы столкнулись с психологической неоднородностью сторонников представительной демократии. Психологические различия между идейными демократами и демократами–прагматиками довольно ясно проявляются в их политическом поведении. Для первых главное — принципы, поэтому свои позиции они отстаивают главным образом путем политических деклараций и разоблачений антидемократической практики. Многие из них, относясь весьма отрицательно к хасбулатовскому Верховному совету, жестко осудили тем не менее его разгон Ельциным в сентябре 1993 г. и последующие вооруженные акции властей против боевиков непримиримой оппозиции. Значение парламента как символа демократии было для них важнее содержания и последствий его деятельности. Демократы–прагматики не столько декларируют демократические принципы, сколько пытаются провести их в жизнь путем давления на бюрократическую власть. Разгон Верховного совета они восприняли как разумное решение, не видя других, более эффективных способов преодоления ожесточенного сопротивления антидемократических сил. Исходя из всего сказанного можно было бы заключить, что для подавляющего большинства людей прагматический интерес является решающим фактором политического выбора, что исключение из этого правила составляют лишь относительно незначительные идеологически ангажированные меньшинства людей и некоторые специфические региональные и страновые ситуации (где религиозный фактор сильно влияет на политическую жизнь). Такое заключение верно отражает господствующую тенденцию (направленность, интенцию) процесса выбора, но нуждается в весьма существенных оговорках в том, что касается ее реального осуществления. Для того чтобы положить интерес в основу политического выбора, необходимо знать, какие политические цели и средства оптимальны для его реализации. Иными словами, путь к выбору ориентации проходит через процесс осознания политических интересов, сопряженный чаще всего со сложными проблемами когнитивного порядка. Для прагматического выбора характерно осознание интересов на уровне рационального здравого смысла, опирающегося на личный и групповой социально–политический опыт, но этот опыт по своей природе противоречив, содержит в себе возможности противоположных выводов. Опыт экономических рыночных реформ в России был по–разному оценен различными группами российского общества. Одни из них пришли к выводу о необходимости продолжать реформы, но более решительно и умело, другие настаивали на приостановке реформ и возвращении к плановой, государственно–контролируемой экономике. Среди тех и других были люди, которые в результате реформ оказались в аналогичной социально–экономической ситуации, т.е. различные оценки нельзя объяснить только конфликтом между выигравшими и проигравшими. Один и тот же социальный опыт породил различные представления о конкретном политическом содержании интереса, в рамках одних и тех же социальных групп. Осознание политических интересов Для осознания своих политических интересов люди используют различные когнитивные механизмы, о которых уже говорилось подробно в главе I. Наиболее соответствующим принципам их рационального осознания является механизм общественно–политической рефлексии. В качестве примера его использования приведем спор между активистами движения «Демократическая Россия», зафиксированный в эмпирическом исследовании новых социальных движений, проведенном в конце 1991 г. Среди других проблем в ходе групповой дискуссии обсуждалась альтернатива политического развития России по авторитарному или демократическому пути. Учитывая мировоззрение этих активистов, можно утверждать, что общей целью почти для всех них (об исключениях будет сказано ниже) является установление демократического строя. В данном случае не имеет значения, в силу каких мотивов каждый из них пришел к этому убеждению, важно, что интериоризированная ценность политической демократии стала для них собственным интересом. Но верности этой цели, как выясняется, недостаточно для выбора политической ориентации. Многие участники дискуссии отстаивали необходимость авторитарной системы власти как неизбежного этапа на пути к демократии. Их аргументы: слабость нынешней власти, ее неспособность навести элементарный порядок в стране, что представляет собой угрозу для будущего демократии и реформ. Другой аргумент: непопулярность экономических реформ, — проводя их, «без авторитарных методов, без сильной руки не обойтись». Третий: только авторитарная власть может обеспечить социальную защиту в переходный период. Понятно, что для этих активистов авторитаризм неизбежное и, как они надеются, временное зло, использование авторитарных методов представляется им наиболее эффективным способом реализации демократической перспективы. Этот вывод основан на рациональном анализе ситуации, который, несмотря на демократические убеждения активистов, побуждает их отводить демократические ценности на задний план, а на передний — выдвигать проведение реформ и восстановление порядка в обществе. Этот тип рассуждения — «авторитаризм во имя торжества демократии» — подталкивает их к той политической ориентации, которую мы выше определили как реформаторско–авторитарную. Очевидной слабостью этой позиции является нерешенность вопроса о том, чем именно будет гарантирован дальнейший переход от авторитаризма к демократии. Иными словами, ей не хватает интегративной сложности (см. главу IV), т.е. охвата всего комплекса проблематики, которой касается процесс выбора. Еще более последовательными сторонниками реформаторско–авторитарной ориентации являются те активисты, которые отстаивают авторитарный путь в чистом виде, без оговорок относительно его временного или инструментального характера. Аргументы: «наше общество привыкло, что у нас все решает кто–то наверху», нам остается ждать с оптимизмом реформ сверху… А мы внизу находимся в плену собственных иллюзий». Это глубокое неверие в демократию в условиях России равносильно отказу от ее восприятия как политического интереса или цели. У этих активистов, образующих незначительное меньшинство в группе, идентификация с демократическим движением обусловлена не демократическими, а реформаторскими убеждениями, тем, что оно выступает за реформы. Данная позиция тоже результат рационального анализа, но довольно одностороннего, принимающего во внимание лишь антидемократические тенденции российской жизни. Вопрос о гарантиях перехода к демократии, игнорируемый сторонниками «временного авторитаризма», оказался в центре внимания тех активистов, которые однозначно высказались против авторитарного сценария. «Переход от авторитаризма к демократии не очевиден, — говорит один из них, — важнее установить политический механизм, который будет способствовать развитию демократии как института, который будет основан на законодательной базе». Эти активисты явно относятся к демократически–реформаторской ориентации. В ходе обсуждения выявилась еще одна позиция. Защищавшие ее активисты стремились сочетать в своих размышлениях неизбежность использования авторитарных методов с защитой демократических принципов, формированием условий для их окончательного торжества. Такое сочетание они усматривали в «механизме самоограничения авторитарной власти, которую нам придется поддержать». Этот механизм создание структур гражданского общества, блокирование наступления власти на такие структуры; «построение рыночной экономики, которая не способствовала бы авторитарной власти» (т.е. очевидно, немонополистической и не связанной с государственными структурами. — Г.Д.); создание сильной представительной власти[213]. Данная позиция, очевидно, отличается от всех остальных более высоким уровнем «интегративной сложности»: проблема рассматривается в ее целостности и полноте, во всех ее аспектах и противоречиях, предлагаемые средства достижения цели (демократия) основаны на компромиссе ведущего интереса с объективными императивами действительности. Сторонники этой позиции примыкают к реформаторско–демократической ориентации, но глубже и полнее других осмысливают пути ее реализации. Другим примером общественно–политической рефлексии могут служить групповые дискуссии в среде активистов шахтерского профсоюзного движения[214]. Одним из наиболее интересных моментов является здесь обсуждение вопроса о переходе к экономике, основанной на частной собственности. Материалом для размышления является в данном случае непосредственно пережитый рабочими опыт трудовых отношений в условиях государственного социализма. Интерес, лежащий в основе размышлений профсоюзных активистов — это, естественно, заинтересованность рабочей массы в достойной оплате и хороших условиях труда, словом, в том, что они называют «заботой о рабочем». Выводом из размышлений является убеждение в том, что «коллективная собственность — это безответственность, которая всегда оборачивается против рядовых рабочих», что им лучше иметь дело с частником–хозяином, который в отличие от государственной дирекции заинтересован в эффективности производства и от которого организованные в профсоюзы трудящиеся смогут добиваться «заботы о рабочих». Один из профсоюзных активистов определил такую систему отношений емкой формулой «капитализм с социалистическим лицом». Активисты в ходе обсуждений пришли к заключению, что рабочее движение должно «способствовать созданию хозяина и бороться с ним». Рефлексия, основанная на здравом смысле и собственном социальном опыте, позволила сформулировать концепцию, превосходящую по обоснованности и реализму иные «академические» построения. В политическом плане она логически ведет к принятию прагматической реформаторско–демократической ориентации. Высокий уровень интегративной сложности мышления обеспечен в данном случае хорошим эмпирическим знанием предмета — трудовых отношений. Думается, что именно этот фактор объясняет значительно большую общность взглядов шахтерских активистов по сравнению с демороссами, спорившими об авторитаризме и демократии. Преимущества различных политических систем в конкретных условиях постсоветской России — проблема, гораздо труднее поддающаяся эмпирически выверяемому знанию, чем более непосредственно переживаемые людьми социально–трудовые отношения. Реалистический образ этих отношений в условиях частной собственности построить от противного (т.е. отправляясь от опыта социалистической действительности) гораздо легче, чем спрогнозировать многообразные и противоречивые последствия различных сценариев политического развития. Поэтому в последнем случае волей–неволей приходится прибегать к абстрактным умозрительным построениям, неизбежно возникают резкие расхождения во мнениях, и индивидуальные интеллектуальные способности приобретают решающую роль в формулировании наиболее обоснованной позиции. Все приведенные примеры относятся к одной и той же социально–исторической ситуации, отличающейся крайней неопределенностью и нестабильностью. В такой ситуации естественно, что огромные массы людей, не обладающие способностью или волей к общественно–политической рефлексии, прибегают к иным когнитивным механизмам. В том числе к иррациональным, основанным на эмоциональных впечатлениях и реакциях, опирающимся на мифы, стереотипы, аттрибуции, ранее засевшие в сознании или внедряемые в него манипулирующей информацией. Интуитивно–чувственные механизмы выбора В любых исторических условиях выбор политической ориентации лишь у меньшинства людей совпадает с выбором политической концепции. У большинства он связан с выбором персонифицированным: ориентация персонифицируется в политическом лидере или организации, образы которых ассоциируются с теми предпочтениями, в которых выражаются политические интересы людей. Во всех странах политикам хорошо известно, что даже самой соблазнительной программы недостаточно для гарантированного успеха: к ней необходимо подсоединить привлекательного лидера или политическую команду. Большинство людей не занимается глубоким анализом программ с точки зрения их соответствия своим интересам: они улавливают лишь общую направленность программы, восприятие и оценка образов лидеров заменяет им трудную работу по осмыслению и сопоставлению содержания политических ориентации. Как отмечают специалисты по электоральной психологии, рядовой избиратель отнюдь не является изощренным «читателем» политических текстов. Более того, у него, как правило, отсутствует всякое желание читать их. Он берет лишь верхний слой информации, причем «подчиняет ее своей логике, своим представлениям о том, что пытается сообщить ему политик. Весьма часто избиратель и вовсе не воспринимает послание политического кандидата, а строит его образ по «осколкам» информации, которую он воспринимает на эмоциально–чувственном уровне. Этот уровень восприятия политических объектов является возможно даже более важным, чем понятийный»[215]. Подобный уровень восприятия заменяет интеллектуально–понятийное знание или существенно дополняет его. При этом он выполняет важную функцию, которую не в состоянии выполнить даже весьма глубокая общественно–политическая рефлексия. Тому, кто осуществляет политический выбор, важно знать не только, что обещают делать политики, представляющие те или иные ориентации, но и захотят ли они действительно и сумеют ли это сделать. Чувственно воспринимаемый образ политиков — это для большинства людей единственно доступный источник суждения о гарантиях осуществления разделяемых ими политических целей. Поэтому такие качества этого образа, как сила, уверенность, воля, ясное видение цели и средств ее достижения, играют немалую роль в выборе ориентации и в политической борьбе. Можно, таким образом, сказать, что осознание политических интересов в той или иной мере основано на их ассоциации с личностями лидеров или политической организацией (партией). Такой способ «осознания» вряд ли можно считать рациональным: ведь он является скорее интуитивным, зависящим от чувственных впечатлений. В политически стабильных обществах устоявшаяся партийная структура и культура общения политиков с населением формируют у него более или менее ясные представления о существующих политических ориентациях, воплощающих их партиях и деятелях. В таких обществах люди — если не все, то очень многие — по крайней мере в общих чертах знают, чем отличаются правые от левых, консерваторы от либералов и социал–демократов. Знают они и чего можно ожидать от лидеров, известных по их прошлой деятельности. Когда заново возникает проблема выбора, для него уже существует некая когнитивная база. Тем не менее и в таких обществах процесс выбора осуществляется в значительной мере на основе охарактеризованных чувственно–эмоциональных механизмов. Потребности и интересы лежат в основе выбора, но их осознание сплошь и рядом замещается эмоцией по поводу лидеров или «команд», а такое замещение может вообще сводить на нет роль интереса в выборе. Негативную эмоцию может вызвать, например, неблаговидный в этическом плане поступок лидера, и он отвергается обществом совершенно независимо от того, насколько его политика служит общественным интересам. Именно это произошло с Р. Никсоном — одним из самых эффективных с точки зрения защиты национальных интересов президентов в новейшей истории США. В Италии в 1994 г. политического доверия общества лишились партии, управлявшие страной в течение длительного исторического периода, принесшего итальянцам впечатляющий экономический прогресс, рост благосостояния и демократизацию политического строя; эмоции, вызванные фактами коррупции политической элиты, стали главной причиной ее изгнания и прихода к власти людей и течений с весьма неясными правопопулистскими или откровенно антидемократическими программами. Незавершенный выбор и «разорванное сознание» Если эмоциональный фактор и манипулирование массовыми эмоциями занимают видное место в политической жизни стран с относительно стабильной социально–экономической системой, со сложившимися социальными интересами и политическими ориентациями, то как может действовать фактор прагматического интереса в обществах, где отсутствуют все эти условия? Яркий пример — постсоветское российское общество, в котором старые интересы и ориентации в значительной мере разрушены, а новые только складываются, где еще не определились доминирующие социальные ценности и где часто очень трудно уловить разницу между соперничающими друг с другом программами и партиями. И главное — где существует зияющий когнитивный вакуум, неопределенность в понимании возможностей и путей экономического, социального и политического развития страны. На приведенной выше двухмерной схеме российских политических ориентации отмечена обширная «центральная зона». Ее «население» значительно отличается в политико–психологическом отношении от тех вовлеченных в общественно–политическую жизнь людей, которые, как мы видели из данных эмпирических исследований, уже выработали более или менее определенные политические ориентации, совершили свой политический выбор. Отличаются прежде всего неспособностью сделать такой выбор, связать свои интересы с какой–либо политической программой, крайней противоречивостью оценок и суждений. ….Одна из респонденток исследования Е.З. Басиной — 49–летняя инженер проектного отраслевого института — может показаться убежденной сторонницей рыночных реформ и демократии. На выборах 1993 г. голосовала за «Выбор России», считает, что лучше всего жилось «при Гайдаре», а его уход из правительства рассматривает как негативное событие. Довольна товарным изобилием, которое считает результатом гайдаровских реформ, предпочитает «изобилие с дороговизной» дешевизне с дефицитом, «ибо любой может заработать деньги». Утверждает, что «Гайдар не довел реформу до конца». «Все надо было делать разом, одним ударом. Не отрубать собаке хвост по частям». Причиной развала экономики считает «70 лет партийной власти». В принципе респондентка положительно относится к демократической перспективе. Ей «хотелось бы верить», что Россия будет демократической страной, она считает, что «демократические свободы имеют очень большое значение». Этому образу реформистки — «гайдаровки» и демократки резко противоречит ряд других высказываний респондентки. Хотя она относится к реформе положительно, но методы ее проведения ей кажутся неправильными. Эту весьма стереотипную в российском обществе 90–х годов формулу она раскрывает на примере своей отрасли. Хотя она работает в проектном институте, который, по ее собственному признанию, мог бы функционировать на коммерческой основе, его, по ее мнению, следует финансировать из бюджета, а вся отрасль (близкая к оборонным производствам) должна контролироваться государством. Вообще «жесткий правительственный контроль», по всей видимости, и есть тот главный корректив, который респондентка хотела бы внести в методы проведения реформ. Остается непонятным, как это сочетается у нее с высокой оценкой деятельности Гайдара, направленной как раз против такого контроля в экономике, с осуждением недостаточного радикализма реформ. Менее противоречивы, хотя и далеки от логичности взгляды респондентки по проблемам политического строя. Хотя ей импонируют демократические свободы, она решительно предпочитает «твердую руку», не верит в возможность установления полноценной демократии в России. В чем же причина столь противоречивых позиций этой женщины–инженера? Очевидно, на ее взгляды влияет, с одной стороны, рациональное осмысление негативного опыта реального социализма, те реформаторские и демократические ценности, которые она усвоила вместе с широкими слоями интеллигенции в период перестройки, те «бытовые» положительные результаты реформ, которые она ощущает в качестве потребителя. С другой стороны, как явствует из ее высказываний, она очень устойчиво идентифицирует себя со своей профессиональной ролью и группой — «инженерной прослойкой», и происшедшее в результате реформ снижение социального статуса профессии вызывает у нее резко отрицательную реакцию («с разрушением ВПК страдает прогресс»). Материальное положение ее семьи удовлетворительно (хорошо зарабатывает муж), но свою зарплату она считает низкой, главным образом по мотивам уязвленного профессионального самолюбия. На позиции респондентки, несомненно, влияет и унаследованный от реального социализма авторитарно–государственнический (патерналистский) синдром, страх лишиться «государственного контроля». Воздействие этих противоречащих друг другу факторов порождает у нее неспособность определить свои политические интересы; осмысливая их в социэтальном плане, в связи с общим направлением развития страны и его влиянием на свои жизненные возможности (в сфере потребления, демократических свобод) она — реформатор и отчасти демократка, связывая же их с личной профессиональной судьбой, — консерватор и «государственница». Преодолеть эту двойственность, построить целостную концепцию интересов своей профессиональной группы в контексте происходящих общественных перемен, респондентка не в состоянии. Особенно ярко эта разорванность сознания выступает в ее взаимоисключающих ответах на сходные вопросы: в одном случае она говорит, что самая лучшая экономическая ситуация была в доперестроечные годы, а через несколько минут — что лучше всего жилось при Гайдаре! Помимо всего прочего в ее суждениях сказывается и описанная выше персонификация политики. Ельцин и Гайдар для нее «позитивные фигуры» независимо от проводимой ими политики. В постсоветской России персонификация носит гипертрофированный характер: при отсутствии ясных политических программ и последовательно осуществляющих их партий приходится ориентироваться на отдельных деятелей. Подытоживая в конце беседы свой политический идеал, респондентка говорит: «а вообще хочется, чтобы все было честно, и я верю, что это возможно». Нравственный критерий оценки политиков и выбора политической ориентации нормален и естествен в любом обществе и вряд ли нуждается в каком–либо особом обосновании и комментарии. Однако бывают такие ситуации, когда доминирование этого критерия отражает неспособность «политического человека» осознать содержание различных тенденций политической жизни, выбрать соответствующую своим потребностям и интересам взаимосвязанную систему целей и средств политики. В этих случаях «честность, нравственность» служат ему якорем спасения в море хаоса, единственным ориентиром, способным хоть как–то упорядочить его отношение к происходящему в политическом мире. Именно в такой психологической ситуации находятся многие граждане постсоветской России. В итоге можно констатировать, что выбор людьми своих политических ориентации представляет собой многофакторный процесс, в котором роль и взаимоотношение различных факторов непостоянны, зависят от конкретной ситуации. Наиболее «сильными», чаще всего доминирующими факторами являются, с одной стороны, потребности и интересы людей, коренящиеся в их социально–экономическом положении, с другой — ценности (идеи, верования), вписанные в культуру общества и отдельных его групп, усваиваемые людьми в процессе социализации, освоения социального опыта и под влиянием различных идеологий. Большее или меньшее воздействие на выбор оказывают личностные мотивационно–волевые и когнитивные структуры, групповые и ролевые идентификации. В конечном счете определенность, устойчивость, последовательность политического выбора, его адекватность ситуации зависят от уровня сознательного самоопределения человеком своих интересов и ценностей. Чем ниже этот уровень контроля выбора сознанием, мышлением человека, тем более он случаен, неустойчив, непоследователен, диктуется преходящими эмоциями и иррациональными реакциями. А во многих случаях без такого контроля он оказывается просто невозможным. Сознательность же выбора, в свою очередь, зависит от ясности видения человеком общественно–политической ситуации и своего места в ней, она зависит, следовательно, как от качеств ситуации — ее большей или меньшей сложности, структурированности, характеризующих ее политических интересов, так и от субъективных свойств «политического человека». Чем больше возможностей предоставляет общество своим членам для сознательного участия в политике, для понимания ее связи с их нуждами и интересами, тем легче сделать им сознательный политический выбор. Примечания:1 Подробнее см.: Андреева Г.М. Социальная психология, М., 1980. С. 36–39. 2 Hollander E.P. Principles and Methods of Social Psychology. Third Edition. N.Y. 1976. P. 31. 18 Здесь следует предупредить читателя о специфической языковой трудности, связанной с двусмысленным словоупотреблением понятия «психология» в русском языке. В строгом смысле психология — это наука о психике, однако на практике тем же словом обозначают и совокупность психических явлений и процессов: мы говорим о психологии того или иного человека, группы, нации, на самом деле имея в виду их психику. Сломать эту вносящую известную путаницу традицию трудно, и в данной книге понятие «социально–политическая психология» не только обозначает определенную область знания, но и заменяет семантически более точное, но «не звучащее» по–русски «социально–политическая психика». 19 Краткий психологический словарь. М., 1985. С. 265. 20 Юрьев A.M. Введение в политическую психологию. СПб., 1992. С. 91. 21 Культура, в частности культура политическая, и ее взаимоотношение с общественным и политическим сознанием — особая, чрезвычайно масштабная и сложная тема, освещение которой не входит в задачи настоящей работы. Общую характеристику проблемы см.: Гаджиев К.С. Политическая наука // Сорос — Международные отношения. М., 1994, гл. XIV–XV. 183 Sobel R. From occupational involvement to political participation: an exploratory analysis // Political behaviour. 1993. Vol. 15. N 4. P. 339–359. 184 Амелин В. Неформалы, интеллигенция, партактив: политические ориентации // Общественные науки. 1989. № 4. С. 201. 185 Юрьев А.И. Введение в политическую психологию. СПб., 1992. С. 143. 186 Barber J.D. The Lawmakers. New Haven, 1965. 187 См.: Гордон Л., Груздева Е., Комаровский В. Шахтеры–92: Социальное сознание рабочей элиты. М., 1993. С 88–92. 188 См.: Яницкий О.Н. Социальные движения: 100 интервью с лидерами. М., 1991. С. 49, 50. 189 Там же. С 162–163. 190 См.: Новые социальные движения в России: по материалам российско–французского исследования. М., 1993. С. 70. Далее: Новые общественные движения в России; Гордон Л., Груздева Е., Комаровский В. Указ. соч. С. 87. 191 Гордон Л., Груздева Е., Комаровский В. Указ. соч. С. 77. 192 Новые социальные движения в России. С. 39. 193 Гордон Л., Груздева Е., Комаровский В. Указ. соч. С. 77. 194 Новые общественные движения в России. С. 29. 195 См.: Турен А. Введение к методу социологической интервенции // Новые социальные движения в России. С. 9–10. 196 В отечественной литературе психологии общественных движений посвящен большой раздел книги А.И. Юрьева «Введение в политическую психологию». См. также: Дилигенский Г.Г. Феномен массы и массовые движения // Рабочий класс и совр. мир. 1987. № 3. 197 Юрьев А.И. Указ. соч. С. 219, 220. 198 Sales S.M. Threat as a factor in authoritarianism // Journal of Personality and Social Psychology. 1973. N 28. P. 44–57. 199 Sears D.O. Op. cit. P. 244. 200 Adorno T.W. and oth. The Authoritarian personality. N.Y., 1950. 201 Lancelot A. Les attitudes politiques. P., 1969. P. 82. 202 Фромм Э. Душа человека, М., 1992. С. 31–32. 203 Известия. 1994. 18 апр. 204 Там же. 205 Deutsch E., Lindon D., Weill P. Les families politiques aujourd'hui en France. P., 1966. 206 Eysenck H.J. The Psychology of Politicks. L, 1954. 207 Например, исследователь, изучающий национальную этнографию, историк или художник, погруженные в национальное прошлое, могут под влиянием своих занятий прийти к идеализации исторических персонажей, нравов или политической практики, противопоставляемых негативно воспринимаемому настоящему. 208 Stoetzel J. Les valeurs du temps present; une enquete europeenne. P., 1983. P. 73. 209 Easton D., Dennis J. Children in the Political System // Origins of Political Legitimace. N.Y., 1969; Hess R.D., Torney J.V. The Development of Political Attitudes in Children. Chicago, 1967. Подробный критический анализ этой концепции см.: Шестопал Е.Б. Личность и политика. М., 1988. С. 58–69. 210 Easton D., Dennis J. Op. cit. P. 28. 211 Басина Е.З. Научно–техническая интеллигенция и реформа (неопуб.). Материалы и выводы этого исследования используются в работе с любезного разрешения автора. 212 Bourdieu P. La distinction. Critique sociale du jugement. P., 1979. 213 См.: Новые социальные движения в России. М., 1993. С. 47–49. 214 См.: Гордон Л., Груздева Е., Комаровский В. Указ. соч. С. 37–48, 60–63. 215 См.: Егорова–Гантман Е., Косолапова Ю., Минтусов Е. Восприятие власти // Власть. 1994. № 1. С. 18. |
|
||
|
Главная | В избранное | Наш E-MAIL | Добавить материал | Нашёл ошибку | Другие сайты | Наверх |
||||
|
|
||||