|
||||
|
|
В Шотландском замке () 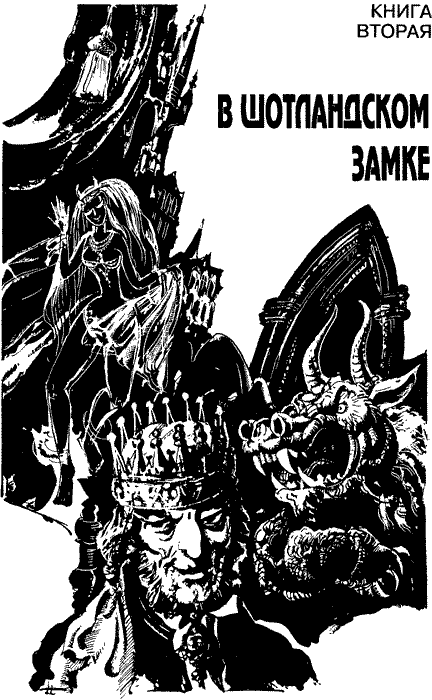 подин, стоя в нескольких шагах от нее, упорно ее разглядывает. Это был моложавый человек в дорогой шубе, но мертвенная бледность лица и ввалившиеся глаза указывали на его болезненное состояние. Он медленно и уныло бродил под колоннадой, и вдруг молодая девушка привлекла его внимание. С первого же взгляда он понял, что перед ним не обычная бедность, а что какое-нибудь роковое обстоятельство привело сюда эту очаровательную, несомненно аристократическую девушку; притом она не была испорчена, судя по тому, что честно мерзла тут, продавая остатки былой роскоши, вместо того, чтобы кататься в коляске, продавая свою выдающуюся красоту. После минутного раздумья незнакомец подошел к ней. — Вы продаете эти полотенца? — спросил он глубоким, звучным голосом. Она вздрогнула и подняла на него молящий, измученный взгляд. — Да. Ради Бога, купите хоть одно из полотенец и дайте, что хотите. Я, право, совершенно изнемогаю, — ответила она устало. — Я вижу это с сожалением и удивляюсь, что вы не искали более прибыльного занятия. Вы, очевидно, принадлежите к интеллигентному классу, получили, вероятно, образование, которое и должно бы дать вам сколько-нибудь обеспеченное положение. — Это правда и мы, к несчастью, разорены. Но я действительно получила хорошее воспитание, знаю французский, немецкий и английский языки и надеялась зарабатывать хлеб. Однако, несмотря на все старания, мне не удалось найти работу: везде все занято, все переполнено. Кто беден и не имеет протекции, тот всюду натыкается на грубый отказ, — с горечью закончила она. Видя, что незнакомец молча обдумывает что-то, она прибавила умоляюще: — Ради Бога, купите хоть что-нибудь! — Конечно, я куплю. Дайте мне, пожалуйста, полотенце, а кроме того, позвольте предложить вам работу. Не желаете ли занять у меня место чтицы? Не опасайтесь ничего и не предполагайте что-нибудь нехорошее. Я очень болен, страдаю болезнью сердца, и просто ищу образованную особу, которая могла бы читать мне на иностранных языках. Вознаграждение: пятьдесят рублей в месяц. Обдумайте и может быть сойдемся. Вот мой адрес и деньги за покупку. Достав бумажник он вынул визитную карточку и деньги, которые протянул продавщице. После этого он жестом подозвал следовавший за ним экипаж, сел в карету, и резвые кони умчали его. — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — - — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — Благодарю вас, если позволите, я позову Джемса, а тот знает мои привычки, — тяжело вздохнув, ответил незнакомец и нажал кнопку электрического звонка. — Разве вы также живете в замке? — спросила Мэри. Странный собеседник ничего не ответил, только его лицо приняло неопределенно-горькое и насмешливое выражение, а взгляд, брошенный на Мэри, подавляюще подействовал на нее. В эту минуту вошел Джемс и, побледнев, попятился. — Подайте мне чашу и хлеба, — приказал незнакомец и, опустясь в кресло, закрыл глаза. Мэри продолжала стоять, будучи встревожена и не зная, что делать. Через несколько минут тягостного молчания снова появился Джемс с подносом, на котором стояла большая золоченая чаша в вазе с горячей водой, а на хрустальной тарелке лежали насколько черноватых хлебцов. Руки лакея заметно дрожали, а лицо было смертельно бледно, пока он ставил поднос перед незнакомцем. А тот выпрямился, охватил чашу и с жадностью выпил ее, потом с такой же алчностью он принялся за хлебцы, оставив лишь небольшой кусочек. Словно по волшебству его лицо прояснилось. Он поднялся с места и взял положенную на стол шляпу с пером. — Честь имею пожелать вам спокойной ночи, миледи, и поблагодарить за любезный прием. В тоне и прощальном поклоне заметна была чуть скрытая насмешка. Затем он направился к двери и так быстро исчез, точно растаял в портьере, но Мэри не обратила на это никакого внимания. Она смотрела на серебряный поднос и ее мучило любопытство, что такое мог съесть незнакомец, которое так быстро подкрепило его, вернув ему силы и свежесть. После минутного колебания она подошла, взяла чашу и осмотрела ее: на дне осталось несколько капель крови, а по остатку хлеба она убедилась, что он был замешан на крови. Значит, ее новый знакомый — сатанист. Доказательство на лицо: все члены братства пьют кровь и ей также приписано это. Уриель несколько раз уже принуждал ее выпивать по чашке, хотя она избегала по возможности этого внушавшего ей отвращение пойла. Отужинав одна, Мэри позвонила камеристке, разделась и легла, но долго не могла уснуть. Ее мучила смутная тоска и грудь давила словно каменная глыба. Жизнь показалась ей вдруг пустой и несчастной, а будущее представлялось в виде бездны. Вместе с тем настойчиво и болезненно вспомнилась ей во всех подробностях ужасающая сцена смерти Ван-дер-Хольма. Затем явилось ощущение внутреннего разлада, словно в ней боролись две враждебные силы, причиняя ей даже боль во всем теле. Наконец, она забылась тревожным, странным сном. Ей представилась комната на той вилле, где проживала Суровцева. Ее мать стояла на коленях и молилась перед образом Богоматери, но Мэри не могла рассмотреть самой иконы, ее застилало густое черное облако, а за этой прозрачной завесой она видела себя лежащей в постели и спавшей. От скрытого дымкой образа исходили широкие лучи света, которые наталкивались на черную пелену, тем не менее светлые лучи пронизывали ее и достигали постели Мэри. Вдруг она увидела, что вокруг нее кишит стая бесенят, ее служителей. Адское полчище, по-видимому, чувствовало себя прескверно, а на их рожах отражались уныние и ярость. Каждый раз, как пробивавшийся сквозь завесу луч света касался крошечных демонов, одни падали навзничь, другие словно сгорали в этом золотистом свете, а иные изрыгали зеленоватую пену и с бешенством накидывались на Мэри, словно саранча, кусали и щипали ее, но не покидали своего поста, как бы не смея отойти от своей владычицы. Мэри невыразимо страдала и задыхалась, а все тело казалось сплошной раной. Между тем хаос вокруг нее все усиливался: беспорядочный и гулкий вой бесенят покрывал теперь отдаленное церковное пение и звон колоколов. Мэри понимала, что за нее молились, но сама не могла ни шевельнуться, ни сосредоточиться на какой-либо определенный мысли, и, наконец, лишилась сознания… Проснулась она поздно, но чувствовала себя настолько разбитой, слабой и апатичной, что не могла встать: голова ее была пуста и даже думать ей было больно. Однако воспоминание о мучившем ее кошмаре сохранилось. Мэрджит, пришедшая одеть ее, подозрительно оглядела Мэри, а потом заставила выкупаться в ванне и принесла полную чашу парной крови, которую настойчиво принудила выпить, а та не посмела ослушаться. Весь день Мэри ничего не делала, но обошла незнакомую еще ей часть замка. Комнаты казались необитаемыми, но в них было много любопытного и ряд портретов, некоторые из которых принадлежали кисти великих мастеров. После обеда она гуляла по саду, но вчерашний незнакомец не показывался. Взамен того, к великому ее удивлению, она встретила несколько католических патеров, бродивших уткнувшись в молитвенники. Все они были тощи, мертвенно-бледны и проходили мимо не кланяясь, а Мэри очень хотела знать: что могли делать здесь эти "служители церкви" и как вообще могли они жить в этом сатанинском притоне. На следующие сутки она чувствовала себя уже хорошо и усердно принялась за работу. Изучение темной науки начинало увлекать Мэри, а власть, которую та давала в ее руки, пленяла ее гордую и страстную душу. Хладнокровно взвесив и всесторонне обсудив свое положение, она с присущим ей мужеством решила, что глупо было бы бороться с неизбежным и следовало, по крайней мере, извлечь из настоящего всю выгоду, которую оно могло дать. Вследствие этих рассуждений она решила, что как только ей разрешат вернуться в свет, она создаст себе там положение, будет пользоваться роскошью и богатством, добытыми столь дорогой ценой, но попутно и отомстит всем, кто оскорблял и унижал ее во время бедности. Мысль о мщении особенно сильно возбудило в ней письмо матери, с которой она постоянно переписывалась. Суровцева считала, что Мэри в Лондоне, где та, по ее мнению, будто бы должна была получать из разных банков огромные, завещанные ей мужем капиталы, и перевести их в Россию. При посредстве одного из люцифериан письма Суровцевой доставлялись в Комнор-Кастл через Лондон и шли обратно тем же путем. В последнем письме Анна Петровна рассказала дочери, что случайно встретила в Канне Бахвалову, ту самую даму, которая отказалась вернуть долг в триста рублей, сопровождая свой отказ наглым обвинением в шантаже и бессовестности за вторичное, будто бы, истребование погашенного долга. Суровцева сделала вид, что не заметила сию противную особу, но ту обуяло любопытство, узнать, каким образом Анна Петровна очутилась заграницей, да еще окруженная, по-видимому, комфортом. Со свойственной невоспитанным людям развязностью подлетела Бахвалова, словно между ними ничего не было, и принялась допытываться, какая перемена произошла в их положении и что с Мэри, отсутствие которой очень удивляло ее. Узнав, что Мэри вышла замуж за очень богатого человека и уже овдовела, а в настоящее время приводит в порядок дела по оставшемуся наследству в Англии, Бахвалова ехидно захохотала, а у Анны Петровны кровь бросилась в голову и она ушла, не простившись с назойливой собеседницей, но дав себе слово никогда впредь не разговаривать с этой злой, дерзкой и бесчестной бабой. ГЛАВА 6 Прошло около трех недель. Мэри продолжала работать в одиночестве. Уриель еще не возвращался, да и таинственный незнакомец больше не показывался. Как-то вечером Мэри только кончила работу, но оставалась еще в библиотеке и мечтала, полулежа в большом кресле около стола, где лежали исправно доставлявшиеся в Комнор-Кэстпь газеты и иллюстрированные журналы, которые она иногда просматривала. Сегодня Мэри было грустно. Утром она получила письмо от матери, вызвавшее страстное желание увидеть своих и тоску по прежней жизни, когда еще был жив ее отец. Она пробовала отогнать назойливые думы и сосредоточить мысли на том, что изучала в течение дня: на удивительных ритуалах и формулах, служивших языком того страшного, неведомого царства тьмы, над которым обычно глумится невежественная толпа, уподобляясь шалунам, которые забавляются порохом или динамитом, не имея представления ни о их силе, ни об опасности. В эту минуту ей припомнился разговор с Ван-дер-Хольмом в самом начале ее вступления в лабиринт темной науки. Она тогда с трудом произносила непонятные ей слова и не то смеясь, не то досадуя спросила у него, какой смысл в этих нелепых, по-видимому, формулах и странных заклинаниях. Ван-дер-Хольм покачал головой и серьезно ответил: — Отправляясь в чужие края нужно знать язык, чтобы сноситься с местными жителями. Так вот, магические формулы и служат тем языком, который понимают и на который отвечают обитатели потустороннего мира… Мэри тяжело вздохнула и закрыла лицо руками: теперь она знала, что эти обитатели потустороннего мира оказались грозными служителями зла. Ах! Зачем все так сложилось, а роковая случайность и людская злоба толкнули ее в этот мир! Если бы нужда не принудила ее тогда идти продавать полотенца, она не встретила бы Ван-дер-Хольма, а роковое сплетение обстоятельств не кинуло бы ее в эту жизнь, которая, тем не менее, внушала ей смутную тревогу с тех пор, как она стала сознавать опасность и темную, зиявшую под ее ногами бездну. — К чему предаваться мрачным думам, дорогая ученица и наследница? Оплакивать невозвратное — непростительная слабость для такой, как ваша, энергичной души, — проговорил в эту минуту чей-то глубокий голос. Мэри вздрогнула, выпрямилась и вскрикнула. На кресле около нее сидел Ван-дер-Хольм, осененный слабым пурпурным ореолом. Помолодевшее и похорошевшее лицо осталось тем же, и вместе с тем оно значительно изменилось: кожа была черная, как у негра, и покрыта блестевшей шерстью, губы кроваво-красные, длинные и тонкие ногти на руках походили на изогнутые когти, а из пышных волос высовывалась пара красных, фосфоресцирующих рогов, некогда черные глаза теперь приняли темно-зеленый, изумрудный отлив, и в них глядела жестокая насмешка. — Но, милая сестра Ральда, не пугайтесь. Мне передали ваше желание видеть меня, и я явился! — На что вы похожи, Ван-дер-Хольм! Разве вы обратились в демона или, выражаясь вульгарным языком, в рогатого черта с копытами и хвостом? — спросила ошеломленная Мэри. — Вот именно, милый друг. У нас, как и у вас, свои отличия, и я могу, если пожелаю, украсить себя этими атрибутами обыкновенного черта. Он встал и расправил свой высокий, гибкий стан, до того гибкий, что он, будто вовсе не имел костей. Его ноги приняли форму копыт, а из спины мгновенно появился пушистый хвост. Увидев, что Мэри побледнела и отшатнулась, он дико захохотал. — Клянусь бородой козла вы, кажется, испугались старого приятеля, Ральда! А между тем вы должны знать, что бояться весьма опасно в вашем положении, и ваш испуг отдает вас, беззащитную, в мою власть. Но я не желаю причинять вам зла. Никогда не забывайте, что вы — живая женщина, прекрасная, как мечта, как олицетворенное искушение. Всегда помните, что находитесь среди диких зверей, и что если укротительница утратит свою силу господства — она погибла. Ваш единственный щит — бесстрашие. Он вдруг подошел к ней, крепко обнял ее и прижал к себе. Но объятия демона произвели на Мэри впечатление, точно ее коснулись раскаленным железом: из всего его существа лились словно потоки огня, в изумрудных глазах горело сладострастие, а усмешка и оскаленные зубы, блестевшие между кроваво-красных губ, были по истине ужасающи. Но близость опасности мгновенно вернула Мэри ее хладнокровие и мужество. Оттолкнув демоническое существо, она произнесла заклинание и сделала знак, который вырисовался в воздухе фосфоресцирующим треугольником. — Прочь, демон! Я не боюсь тебя и запрещаю прикасаться ко мне! — повелительно произнесла она и сняв с груди эмалированную пентаграмму на цепочке подняла ее перед собой. — Браво, Ральда! — воскликнул Ван-дер-Хольм отступая. — Вы начинаете владеть своим ремеслом. Мэри презрительно засмеялась. К ней вернулось ее бесстрашное спокойствие, а охватившие в первую минуту ужас и нервная дрожь исчезли. — Это просто незначительные, нападающие иногда на меня приступы прежней слабости духа, но, я надеюсь, скоро они совершенно исчезнут. Все-таки требуется некоторое время, чтобы окончательно сбросить с себя "простую смертную", которая подчас пугается любезных кавалеров из потустороннего мира. Надеюсь также, брат Бифру, что мы по-прежнему останемся добрыми друзьями, и вы поможете мне разобраться в вашем наследстве, весьма запутанном. Согласны? — Помогать вам будет для меня истинным удовольствием. Я только что преподал вам первый урок осторожности, а теперь прибавлю к нему один совет. Вы пренебрегаете бывшими моими, а теперь вашими, служителями, и не даете им работы. В настоящее время я начальствую над несколько более развитой умственной ватагой, но сохранил добрые отношения и со своими прежними подданными. В эту минуту Мэри увидела, что на рукоятке кресла, где сидел Ван-дер-Хольм, сидел крошечный демон, ростом с уистити. Его тельце было черное и покрыто шерстью, за спиной грациозно извивался хвостик, а хитрую, умную мордочку освещала пара больших, круглых глаз. Он казался огорченным, с обожанием смотрел на Ван-дер-Хольма и что-то шептал ему на ухо, а его бывший хозяин с отеческой нежностью гладил его спинку. Мэри узнала маленького демона, распоряжавшегося ее демонами. — Дорогая сестра, Кокото жалуется, что его подчиненные ропщут: им нечего делать и, кроме того, они голодны. Ведь программа, указанная Уриелем, давным-давно исчерпана. Заметив, что Мэри задумалась и казалась озабоченной, он прибавил: — Необходимо давать работу вашему маленькому воинству. Неужели у вас нет в свете врагов, людей, причинивших вам зло и которым вы желали бы отомстить? Лицо Мэри вспыхнуло: она вспомнила Бахвалову и ее подлое письмо, послужившее тем решительным ударом, который принудил ее — голодную и обнищавшую — идти продавать полотенца в тот злополучный день, когда она попала во власть Ван-дер-Хольма. Как это раньше не пришло ей в голову отомстить негоднице и заставить ее кровавыми слезами расплатиться за бесчестность и двусмысленные улыбки? Следивший за ней Ван-дер-Хольм, очевидно читавший ее мысли, скорчил гримасу. — Кажется, милая Ральда, вы считаете большим для себя несчастьем знакомство со мной? Но, видите ли, в нем есть хоть то хорошее, что вы можете отомстить за себя. Кокото здесь, произнесите заклинание, отдайте приказ, и ваши подданные в точности исполнят все. Только раньше надо успокоить их: смотрите, как они возбуждены. Сзади Кокото появилась стая крошечных существ, уже знакомых Мэри: они был не больше мыши, со злыми мордочками и, по-видимому, только присутствие бывшего хозяина мешало им броситься на Мэри. — Смотрите, бедняжки голодны, и надо накормить их прежде, чем отправить на работу!.. — Но что же я могу дать им сейчас? Я не знаю, найдется ли сухая кровь… — Да, да, в этом резном шкафчике. Уриель виноват, что не указал вам это, а вы, сестра, не справились о необходимом. Мэри проворно открыла шкафчик и достала оттуда большую, указанную Ван-дер-Хольмом, круглую коробку с красновато-бурым порошком. Взяв полную горсть порошка она бросила его в воздух, и он разлетелся облаком пыли. В одно мгновение все, до последней пылинки, исчезло, и мордочки ее слуг просияли. Затем Мэри встала посреди комнаты, подняла висевшую на шее под платьем узловатую палочку и произнесла несколько заклинаний, сопровождая из кабалистическими знаками, а маленькое воинство тотчас выстроилось в круг, во главе с Кокото, стоявшим в почтительном ожидании. — Кокото, повелеваю тебе напасть со всеми твоими на семью Бахваловых и терзать их без устали и пощады. Поселитесь в их доме и чините им всевозможное зло. Путь у них водворятся смерть, самоубийство, раздор и взаимная вражда, а разорение да низложит их во прах, как была я. Пусть испытают они все то унижение, какое перенесли мои близкие и я. Ступайте, дела вам хватит надолго, а противодействия вам бояться нечего. Они либералы, пропитанные современными идеями, неверующие, а потому, никакая враждебная сила не преградит вам путь. О каждом успехе, Кокото, ты будешь сообщать мне. Пока она говорила, лицо ее приняло выражение неумолимой жестокости, а глаза горели враждой и жаждой мести. Кокото низко поклонился Ван-дер-Хольму, менее почтительно Мэри, которую, очевидно, не так уважал, как своего прежнего хозяина, и минуту спустя исчез со своей ватагой. — Дело идет на лад, вы делаете успехи, дорогая сестра: думаю даже, что вы сделаете честь нашему братству. Позаботьтесь только окончательно изгнать всякое воспоминание о прежних предрассудках, притом это в ваших же интересах: пока вы еще уязвимы, и вас будут мучить зловредные флюиды противного лагеря, хотя бы, например, письма вашей матери. Когда же вы окрепнете, все это будет скользить мимо, а ваша внутренняя броня защитит вас, исключая, разумеется, случаи прямых нападений, которые весьма мучительны. — Спасибо, Бифру, за добрые советы. Я понимаю их справедливость и постараюсь согласовываться с ними. Кстати, — прибавила она, улыбаясь, — раз уж мы разговорились, то мне хотелось бы задать один вопрос, который пока не помогла мне выяснить наша темная наука. Где вы пребываете? Где обитают все эти лярвы, вампиры и демоны? Уриель уже водил меня в сатанинский город, да и Сведенборг обозревал в своих видениях области потустороннего мира, но все это очень туманно… — А вы желали бы видеть мое местожительство? Постараюсь показать вам его. Правда, там лучше чувствуешь себя без тела, но ведь при случае устроиться можно всегда. Однако, вам предварительно надо побывать на некоторых наших торжествах. Дело в том, что такие празднества придают телу особые способности, а также необыкновенную гибкость астралу. Не могу пока точно указать вам, когда именно, но вскоре здесь состоится собрание, на котором вы увидите много для себя интересного. Это будет, так называемая, бешеная охота, и когда вы услышите звук охотничьего рога, то должны быть наготове. Как видите, у нас тоже есть свои развлечения. Но что это вас удивляет? — Я читала рассказы про чертову охоту, черного охотника в лесу Фонтенебло и другие приключения в том же роде, пугавшие обитателей этих одержимых местностей, только я не думала, что это правда! — Нет дыма без огня, Ральда! — засмеялся Ван-дер-Хольм. — А в общем, Бифру, вы знаете, что я повинуюсь приказаниям начальства. Если меня вовремя предупредят, я буду готова как только раздастся сигнал охотничьего рога. — Отлично! Однако скажите, как вам нравится хозяин замка? — Недурен. Он даже красив и очень любезен, но не симпатичен. Странно, что когда я говорила с ним, мне казалось, что я его уже видела где-то. — Возможно, что и видели, да забыли, — ехидно рассмеялся Ван-дер-Хольм. — Однако мне пора уходить. Но если я вам понадоблюсь, постучите металлическим молотком, находящимся здесь, в библиотеке, по металлическому кругу, висящему на стене. Надо выстукать буквы моего имени, и я появлюсь не пугая вас. Минуту спустя фигура призрака потускнела, расплылась в сероватый пар и исчезла. Несколько дней спустя Мэри проснулась поздно и услышала, как в стекла хлестал дождь. Очевидно, погода была ненастная, и при том она чувствовала такую усталость и слабость, что, позвонив Мэрджит, приказала подать себе кофе в постель. — Лучше не вставайте, миледи: погода ужасная, идет дождь с градом, и вам следует хорошенько отдохнуть. Сегодня в полночь назначена охота, и вы должны быть вовремя готовы, потому что обергермейстер не любит ждать. Я подам теплой крови и чего-нибудь посытнее. Спустя четверть часа камеристка принесла поднос с чашкой парной крови и несколькими хлебцами, тоже замешанными на крови. Мэри начала свыкаться с этой пищей, а потому, осушила чашку и съела хлебцы. Затем Мэрджит налила в маленький стаканчик густой, как мед, очень пряной жидкости, которую Мэри выпила, после чего мгновенно заснула тяжелым, крепким сном. Прикосновение к лицу чего-то холодного и мокрого сразу пробудило Мэри. Над ней стояла Мэрджит, в одной руке держа мокрое полотенце, а в другой — стакан. — Выпейте лимонаду, он освежит вас, а потом надо приниматься за туалет. Времени терять нельзя. Горьковатое, ароматическое питье действительно освежило ее и придало силы. Прежде всего я должна натереть вас особой мазью и промассировать. Только не бойтесь — я полью вас розовым маслом. — Скажите, Мэрджит, а вы присутствовали на таких ночных празднествах? — полюбопытствовала Мэри, пока камеристка открывала большую фарфоровую банку с мазью и доставала флакон с маслом. — Да, миледи, уже несколько раз, — поспешила ответить та. — Только не на первом месте, конечно. Вы сядете на коня, а мы — как попало: на баранов, козлов, свиней и т. д.потому что не на всякое животное сядешь верхом. Пока она массировала и натирала тело Мэри мазью, той казалось, что ее терли огнем: у нее даже при этом кружилась голова, и она точно витала в воздухе. Но болезненные ощущения исчезли, когда дело дошло до розового масла, а затем ощущалось лишь легкое покалывание. Когда же Мэри встала, ей показалось, что она вдруг стала легка, словно пушинка, тело сделалось гибким, как каучук, и будто утратило свой вес, так что минутами пол будто уходил из-под ног. Вместе с тем она чувствовала себя отлично и по жилам разливалась приятная теплота. Мерджит одела ей серое пушистое трико, до того тонкое, что оно облепило все тело, как вторая кожа, а голову украсила шапочкой в виде летучей мыши с двумя зелеными лампочками на месте фосфоресцировавших глаз. На шею она накинула медальон на стальной цепи в виде кошачьей головы с бриллиантовыми глазами. Наконец, Мэрджит опоясала ее серебряным кушаком с висевшим на цепочке охотничьим рогом, подала серый плащ и такие же перчатки. — Какая ужасная погода, — заметила Мэри, прислушиваясь к свисту вихря, треску вековых деревьев и отдаленным раскатам грома. Град бил в стекла, а в старом камине и трубах ветер выл и стонал словно человеческим голосом. — Это всегда так бывает, миледи, и стихии бушуют, когда оберегермейстер выходит на охоту. Но не бойтесь, с вами ничего не случится. А я буду одеваться. Через четверть часа вы услышите сигнал. Оставшись одна Мэри подошла к окну и, прислонясь лицом к стеклу, выглянула наружу. Бушевала буря, гремел гром и временами молнии озаряли все зловещим, диким светом, а в воздухе кружились смутные тени, которые летели и бежали, собираясь у замка. "Начинается шабаш", — подумала Мэри и невольно содрогнулась. В эту минуту она почувствовала, что в плечо ей впились когти, а со стороны двора к стеклу прилипла отвратительная голова: не то человека, не то животного. Вдруг послышался голос Ван-дер-Хольма, крикнувшего: — Не бояться! Мэри мужественно выпрямилась и подняла руку с заклинанием: к ней вернулись обычные смелость и бесстрашие. Противная рожа снаружи исчезла. Вслед за этим поднялся хаос криков и беспорядочных голосов, рычавших: "Хар! Хар! Шабаш!" Одновременно раздался и звонкий протяжный звук охотничьего рога. — Скорее, скорее, миледи! — кричала Мэрджит, влетая в комнату и, схватив Мэри за руку, понеслась с нею к большой лестнице. Двор замка был залит точно красным заревом пожара, а внизу, у крыльца, какой-то человек держал под уздцы вороную лошадь, которая взвивалась на дыбы, а из ноздрей ее вырывался красный пар. Конь был великолепен, с длинной гривой, развевавшимся по ветру хвостом и искрившимися глазами. Человек подхватил Мэри, посадил верхом и вложил ей в руку поводья, а скакун, почувствовав свободу, понесся вперед и догнал голову кавалькады. Там, на таком же вороном, как и у Мэри, коне гарцевал Азрафил и не переставая отчаянно трубил в охотничий рог. Словно во сне мелькнули мимо Мэри на конях Ван-дер-Хольм и таинственный владелец замка, потом она почувствовала, что земля словно уплыла из-под копыт ее лошади и началась бешеная скачка. Адские охотники точно летали среди беспорядочных звуков пения и охотничьего рога, вперемешку с дикими криками: "Хар! Хар! Шабаш!" Мэри не могла бы сказать, сколько времени длилась эта головокружительная скачка. Словно туча зла неслись они над долинами и лесами, направляясь к горам. Наконец, они очутились в узкой, окруженной остроконечными скалами лощине, около полуразрушенных стен, по-видимому, монастыря, судя по развалинам церкви, стоявшей без крыши, но еще с остроконечными окнами и осыпавшимся каменным престолом. Подле раскинулось, надо полагать, прежнее монастырское кладбище, потому что вокруг белели кресты, плиты и другие надгробные памятники. Внутренность церкви была освещена, словно там-то и готовились справлять шабаш. Между тем буря стихла, тучи расплылись по небу и бледный лунный свет озарил мрачную картину. Незнакомец из Комнор-Кастла подошел к Мэри и помог ей за Азрафилом, который высоком памятнике. Возможно, надгробной часовни, но Мэри не только, что или черного плаща виднелось волосатое трико, впрочем, не была его собственная кожа. Прижав устам серебряный рог, тот принялся снова трубить, и по мере того, как резкие, несогласные звуки резали воздух, со всех сторон стали появляться блуждающие огоньки, витавшие вокруг него: надгробные памятники и плиты качались и точно заволоклись черной дымкой, а затем появились какие-то странные образы, одни в сутанах, другие в старинных одеяниях минувших веков. Лица их были бледны, худы, отвратительны и точно искажены страданием, а при каждом их движении слышался зловещий лязг костей. Совершенно непонятно почему, но Мэри не ощущала страха и с живейшим интересом следила за дальнейшим развитием страшной сцены. Вдруг незнакомец из замка, очевидно, считавший себя кавалером Мэри, взял ее за руку и повел. — Не стоит смотреть всю эту могильную тлю: они будут и на празднике, — презрительно проворчал он. Когда они вошли в бывшую церковь, Мэри увидела, что там горели костры, а вокруг них толпились мужчины и женщины, на лицах которых запечатлелись всевозможные нечистые страсти. В два ряда по стенам были расставлены длинные низкие столы, уставленные разными яствами, винами и серебряной посудой. Очевидно, готовился пир. Азрафил вскочил на жертвенник, и Мэри онемела от изумления, увидев, что вместо него появился огромный и страшный длиннорогий черный козел. Это чудовище — получеловек, полузверь — с красными, как горящие угли глазами, держало в руке пылавший факел и скаля зубы глумливо смотрело на голую, рычавшую толпу, которая начинала вокруг разнузданную и невероятно бесстыдную пляску. А оргия все росла и столы быстро опустошались: кубки с парной кровью или вином обходили присутствовавших, из которых одни вопили дикие песни, а другие забавлялись тем, что рвали на части живых жаб, ворон и других животных. Таинственный незнакомец неотступно ухаживал за Мэри, усердно угощая ее кровью и вином. Дикая оргия дошла до неописуемого неистовства, как вдруг кавалер Мэри схватил ее за руку, потащил к трону козлища и звонко крикнул, так, что его голос покрыл общий гам: — Азрафил, князь адских полчищ, владей Ральдой, своей красавицей-невестой, а потом подари ее мне. Ты ведь знаешь мои права на нее. Смертельная тоска сжала сердце Мэри ей казалось, что от ужаса волосы поднялись на голове. Несмотря на вино, приправленное возбудительными снадобьями, несмотря на почти утраченную способность свободно думать и кипевший в жилах огонь страсти, мысль принадлежать этому чудовищу наполняла ее душу отвращением и безумным ужасом. Но острые когти уже вонзились в ее тело, разрывая в клочья одежду, а затем чьи-то руки подхватили ее и опрокинули навзничь у ног козла. Словно сквозь туман видела она, как над нею склонялась голова чудовища, огненные глаза его насмешливо смотрели на нее, а бородатая пасть складывалась в гримасу, служившую улыбкой. Но тут голова у нее закружилась и ей показалось, что она падает в пропасть. Вдруг дрожащий звон привел ее в себя. Все яснее и громче разливались в воздухе звуки церковных колоколов, затем донесся отдаленный хор, певший: "Да воскреснет Бог!", и стройное пение становилось все сильнее и могучее. Вверху заблестел широкий, голубоватый луч и в самой глубине его, словно отдаленное видение, как будто открылось широкое окно, а там, подняв в руках лучезарный крест, стоял коленопреклоненный человек в белом. Ярко освещенное лицо его походило на лицо доктора Заторского, а около него, с протянутыми вперед руками и осененной лучами головой, был виден человек высокого роста, тоже в белом, но осыпанном точно алмазами, одеянии. Один лишь миг любовалась Мэри этим светлым видением, затем она почувствовала, что жертвенник рушится и огненные языки окружают опрокинутого козла. Смутно видела она, как омерзительная, нагая, опьяненная кровью и похотью толпа каталась в судорогах среди опрокинутых столов. После этого послышались раскаты грома вперемежку с кощунствами и стонами, а сверкавшие молнии освещали эту адскую сцену. Наконец, земля заколебалась, стены затрещали, и Мэри потеряла сознание. Придя в себя, она увидела, что лежит на своей постели, слабая и разбитая, точно ей переломали кости. Все ее тело болело, но о ночном пире у нее оставалось весьма смутное воспоминание. С трудом, так как малейшее движение доставляло ей боль, она позвонила. После довольно долгого ожидания, наконец, пришла Мэрджит: одна рука ее была на перевязи, голова забинтована, правый глаз подбит. Ее сопровождал горбатый человек в черном, со злым, угрюмым лицом и гнусавым голосом. Он предписал Мэри лежать в постели, потому что бывшие по всему ее телу ожоги еще не зажили. Он сменил ей пластыри и мази, напоил каким-то лекарством, и она почти мгновенно уснула. Когда Мэри стало лучше, она спросила у Мэрджит, что произошло? Собственные ее воспоминания были смутны и ясно было только сознание, что она избежала какой-то неминуемой опасности. — Ах, миледи, как ужасно закончился наш чудный поначалу, но злополучный праздник! — со слезами в голосе рассказывала камеристка. — Все наши братья ранены и больны, и сам оберегермейстер был обожжен, точно молнией. Медленно поправлялась Мэри, и только усилием воли, отгоняла она докучные мысли, осаждавшие ее при воспоминании о величавом звоне колоколов и дивном далеком пении. Наконец, выдался день, когда она получила злостное удовлетворение своей мести, примирившее ее с судьбой и на время совершенно рассеявшее мрачные мысли. Она читала вечером в библиотеке, как вдруг услышала слабый треск и невольно подняла голову от чьего-то прикосновения. На спинке кресла сидел Кокото. Его хитрая рожица выражала удовольствие, хвостик весело болтался, а глаза смотрели лукаво. — Я пришел с отчетом о нашей работе, хозяйка, так как ты сама не призывала меня, а ведь мы уже порядком поработали. — Я была больна, Кокото. Благодарю, что пришел. Ну, рассказывай скорее, что вы-сделали из заданной программы. — Как ты и сказала, никто не помешал нам вторгнуться в дом, и вообще, там всех очень легко направлять по-своему. Сама барыня отсутствовала. Сын — игрок, и с тех пор, как мы принялись за него и везде сопутствовали ему, он постоянно проигрывал. Нуждаясь в деньгах, он взломал стол отца, но в тот же вечер проиграл украденную весьма крупную сумму. Теперь он застрелился, и мать нашла его уже мертвым по возвращении домой, а сама с испугу забыла на столе ридикюль с драгоценными вещами, который в суматохе украли. Хи, хи, хи! — оскалился Кокото. Мэри погладила его пушистую спинку. — Я довольна тобою и твоими. Продолжайте старательно работать. Тебя я сейчас угощу. Она подала ему хлебец, замешанный на крови, и маленькое чудовище с наслаждением съело его, после чего исчезло. Ван-дер-Хольм частенько навещал ее и помогал в занятиях. Когда она рассказала ему об отчете Кокото, он презрительно рассмеялся и сказал: — Я понимаю ваше удовлетворение, сестра. Одно из величайших наших преимуществ — это возможность мстить. Я лично испытал это, и мой двоюродный брат, негодяй, погубивший меня, расплатился за это кровавыми слезами. Это злобное удовольствие и настойчивое желание уничтожить или унизить свою обидчицу было еще живо в душе Мэри, когда она получила письмо от матери, писавшей: "Каждый день молюсь я Богу за тебя, дорогая моя, и призываю на тебя благословение Христа. Пресвятой Божьей Матери и Николая Чудотворца…" Но едва прочла она эти строки, как у нее закружилась голова, письмо вспыхнуло в руках, и она упала без чувств, пораженная, словно ударом по голове. Через несколько минут появился призрак Ван-дер-Хольма и оцепенел, потому что над лежавшим на коленях Мэри пеплом витал небольшой голубоватый крест, и подойти к ней он смог только тогда, когда прорвавшийся в открытое окно ветер развеял в воздухе пепел. Однажды вечером, несколько дней спустя после этого случая, неожиданно явился таинственный незнакомец. Мэри давно не видела его. Он был мертвенно бледен, казался мрачнее обыкновенного и молча облокотился, скрестив руки, на высокую спинку кресла, пристально глядя на Мэри. Незнакомец почему-то интересовал Мэри и возбуждал в ней смутные чувства, в которых она не могла разобраться. — Какой у вас расстроенный вид! Я тотчас прикажу подать вам что-нибудь подкрепиться, — сказала Мэри нажимая звонок. Вскоре появился Джемс с обычным, угощением: чашей крови и хлебцами, которые незнакомец с жадностью уничтожил. Затем он сел в кресло и, подавшись вперед, спросил, ядовито ухмыляясь: — Разрешите, миледи, побеседовать с вами? Теперь он уже был не так мертвенно бледен и вполне походил на обычного человека. "Это должно быть старый сатанист, окончательно истрепавший себя, вроде Ван-дер-Хольма", — подумала Мэри, чувствуя неприятное стеснение в груди, но, тем не менее, вежливо ответила, что рада ему. Поглощенная охватившим ее недомоганием, она не заметила лукавой усмешки гостя, который, казалось, не только слышал, но и следил за ее мыслями. — К сожалению, вижу, миледи, что несмотря на вашу принадлежность к сатанинскому братству вы еще очень несведущи в законах потустороннего мира и вообще мало с ними знакомы. Например, имеете ли вы понятие о пагубной силе проклятия? Ах, если бы только люди знали, что проклятие, произнесенное в возбужденном состоянии, под влиянием страсти или бессильного, но бешеного гнева, это излучение души, сжигающее подобно раскаленной лаве ауру и создающее живое чудовище, обрекая человека на возмездие, а оно приковывает его к месту казни, порождает в нем ненасытную вражду и на многие века связывает с ненавистными ему существами. Но, увы, человек не знает, что вокруг него бушует космический ураган в ту минуту, когда произносит проклятие, одновременно осуждая и себя самого на роль палача, исполнителя собственного мнения… И вот, когда наступает годовщина этой злополучной минуты, старая рана будто вскрывается, оживают все душевные и физические муки, коршун проклятия требует пищи, а накопившаяся злоба стремится обрушиться на виновных. Он умолк, а Мэри вздрогнула под неумолимо злым взглядом загадочного человека, как будто смертельно ненавидевшего ее. В эту минуту у нее слегка закружилась голова и ей показалось, что она уже слышала этот голос и видела это лицо. Но она не могла дать себе отчет: не было ли то во сне во время какого-нибудь тяжелого кошмара. — Вы произнесли подобное проклятие, и оно мучает вас и не дает покоя? Но против кого же? — пробормотала она в смущении, и сердце ее заныло. Незнакомец пронзительно захохотал. — Счастливы живые, забывая прошлое, а также и мрачные законы ада, которые обрекают жертву злодейства на всю тяжесть злополучной минуты, когда бедняга в предсмертных муках взывает к бездне, а не к… — он оборвал речь и гнусное богохульство вырвалось из его перекошенного рта. Мэри дрожала, слушая его, и не была в состоянии произнести ни слова. Но минуту спустя к странному гостю, видимо, вернулось хладнокровие. — Недавно я водил вас на место преступления, совершенного несколько веков тому назад. Жена-изменница вместе с любовником убила герцога Мервина, а тот своим проклятием приковал себя здесь. От стал стражем и пугалом этих мест, отмеченных печатью мрачного прошлого. Он живет в замке, будучи, как и встарь, его хозяином, завлекает сюда последовательно всех участников преступления и мстит этим слепым невеждам… А те — ха, хa, ха! — в своих новых шкурах не догадываются, за что злой рок ополчился на них. Он шагнул по направлению к Мэри, глядя на нее с такой ненавистью, что она вздрогнула и отодвинулась. — Признали ли вы меня наконец, леди Антония! Знаете ли вы теперь кто я и кто вы? — Нет… Но почему вы называете меня Антонией? — пролепетала испуганная Мэри. — У вас притупился разум, дорогая Антония. Так вот, Чтобы освежить вашу память, почитайте-ка старый роман, который некогда разыгрался здесь. Взяв Мэри за руку, он потащил ее к большому резному баулу с инкрустацией, где та хранила разную мелочь, и открыл его, а затем нажал пружину. В глубине обнаружилось тайное отделение, откуда он достал шкатулку и пачку пожелтевших писем, но других лежащих там вещей не тронул. Поставив на стол шкатулку и положив письма, он сказал насмешливо: — Прочтите, а чтобы вам легче было припомнить это любопытное прошлое, я отрекомендуюсь вам: Эдмонд, герцог де Мервин. Образ его словно побледнел, затем отступил к двери и, наконец, точно растаял в складках портьеры. С трепетавшим сердцем опустилась Мэри в кресло и закрыла глаза, чувствуя себя совершенно уничтоженной, неспособной привести в порядок свои мысли. Но эта слабость быстро прошла: врожденная энергия, пройдя хорошую школу, научила ее владеть собой. Она выпрямилась и провела рукой по лицу, отгоняя докучные мысли. Она верила, что человек не раз живет на земле, и была убеждена в перевоплощении. Следовательно, то, что ей предстояло прочесть, было, вероятно, страничкой этого прошлого, забытого и задернутого покровом забвения ее Нового существования. А что это прошлое преступно, в том она не сомневалась: имя Эдмонда казалось ей теперь удивительно знакомым. Но к чему раздумывать и гадать, когда ключ к тайне у нее в руках? Она решительно придвинула к себе шкатулку и осмотрела ее. То был большой ларец сандалового дерева с чудной резьбой, золочеными ножками и наугольниками, а на крышке был вырезан герб, осыпанный драгоценными камнями, под герцогской короной. В замке торчал золотой ключик. Внутри шкатулка была обита красным бархатом и там хранились: толстая тетрадь в переплете из золотистой кожи, сложенный кусок пергамента, несколько золотых — вещей и между прочими кольцо с вырезанным внутри именем Эдмонда и числом. Были еще два медальона с портретами, но Мэри едва взглянула на них: все ее внимание привлекла тетрадь, которую она с любопытством открыла. Она была исписана тонким, сжатым почерком и представляла из себя дневник или автобиографию. Мэри придвинула лампу и начала читать: "На этих днях мне пришла мысль описать для себя самой историю моей жизни или, по крайней мере, ее главные эпизоды. Я много думала о прошлом во время моей болезни. Мне хочется пережить обстоятельства, которые довели меня до совершения поступков, несомненно осуждаемых моей совестью, хотя церковь отпустила все мои прегрешения, а ведь она, конечно, непогрешима, несмотря на то, что ее служители нередко бывают недостойными. Почему же, в таком случае, так пугает меня смерть? Да, я страшно боюсь того неведомого мира, куда предстоит мне уйти: молодой, красивой и одаренной всеми благами, украшающими жизнь! Может быть, это уже наказание?.. Нет, нет, индульгенция здесь, в этой самой шкатулке, где я буду хранить эту тетрадь, а она обеспечивает мне прощение неба и райский покой. Конечно, никто никогда не прочтет эти строки, но все равно: чтобы начать сначала, надо говорить о моем детстве, потому что в нем-то и кроются зародыши последующих событий. Мать скончалась, когда мне было всего два года, и до семи лет я жила в Ирландии, в старом замке на берегу моря. Меня воспитывала старая няня, а учил отец, и оба наперерыв баловали, потому что отец обожал меня и не был в состоянии в чем-либо отказать мне. Итак, я росла не по летам развитой, смелой и сметливой. Я знала, что отец чрезвычайно богат и была его единственной наследницей, а это делало меня еще своевольней и горделивее, нежели я была по природе. Мы были католики, а строго благочестивый отец с раннего детства внушил мне уважение к церкви к ее служителям. Наш старый капеллан был из тех достойных и добрых священников, которые заслуживают общей любви и уважения, почему я и воображала, что и все остальные такие же, как он. Однажды к нам приехал иностранный священник, знакомый отцу по Лондону и Риму. Это был человек средних лет с холодным и бесстрастным, смуглым, красивым, лицом. Говорил он по-английски с сильным иностранным акцентом. Его имя было Жуан Гомец де Сильва и впоследствии я узнала, что он был иезуит испанского происхождения. В тот раз, как, впрочем, обыкновенно, я играла в глубокой амбразуре кабинета отца, и никто не обращал на меня внимания, а, может быть, просто забыли или считали слишком маленькой, чтобы понять серьезный разговор. Между тем, я слушала внимательно и не пропускала ни единого слова. Они говорили об одном нашем родственнике из Шотландии, герцоге Роберте Мервине, о котором я уже слышала и раньше. Отец строго осуждал его, называя забулдыгой, мотом и бесчестным человеком: тот неоднократно и помногу занимал у отца, никогда, однако, не возвращая долга. — Да, это, конечно, человек без принципов. Да и откуда ему взять их, когда он — еретик и у него нет ни правой веры, ни духовного наставника, которые держали бы его на пути истинном, — заметил священник, а потом добавил: — Зато супруга его, леди Арабелла, достойна полного уважения: она истинная христианка и союз ее с сером Робертом составляет ее несчастье! — Жаль леди Арабеллу, которую муж оставит под конец нищей, так как он непозволительно проматывает свое состояние. Не так давно он предлагал мне выдать Антонию за его сына Эдмонда, но я поблагодарил за честь оплачивать огромные долги герцога и отдать единственную дочь за этого негодяя Эдмонда, который не только еретик, но еще, как говорят, прескверного характера. Не помню конца разговора, но эти слова запечатлелись в моей памяти. Через несколько месяцев после этого отец как-то объявил, что непредвиденное дело вызывает его в Лондон, а вообще пробудет он в отсутствии месяца три, так как вместе с тем желает побывать и в своих шотландских поместьях. Меня очень огорчала предстоящая разлука, но я еще не подозревала, увы, что она будет вечной. Отец посулил мне столько подарков, что я успокоилась и с нетерпением стала ждать его возвращения. Сначала от отца приходили письма, а потом прекратились всякие известия. В то же время меня постигло большое горе: моя добрая няня, старая Гризельдис, заболела и умерла. Эта потеря так меня огорчила, что я почти забыла про отсутствие вестей от отца и про то, что он не возвращался, хотя три месяца уже прошли. Мало-помалу тоска одиночества дала себя знать. В замок никто не приезжал и я часами сидела на окне глядя на дорогу, в надежде увидеть возвращавшегося отца. Наконец, однажды я заметила карету, окруженную довольно многочисленным конвоем и направлявшуюся к замку, а когда экипаж остановился у подъезда, я с удивлением увидела, что из него вышли незнакомый господин с сухим неприятным лицом и с ним отец де Сильва. Присутствие последнего успокоило меня: он всегда был добр и нежен со мной, а отец отзывался о нем, как о человеке высокодобродетельном, высокого ума и настолько дружественном, что я могла обращаться к нему при всяких затруднениях с полным доверием, как ко второму отцу. Итак, я бросилась к ним навстречу, но каков же был мой ужас, когда незнакомый господин объявил мне, что мой отец скончался и по завещанию назначил его — герцога Роберта Мервина — моим опекуном, и при этом выразил пожелание, чтобы я со временем вышла замуж за его сына Эдмонда. Он прибавил, что приехал за мною, дабы его питомица и будущая невестка воспитывалась в его семье, под руководством его жены. Это как громом поразило меня: в первую минуту я не могла даже плакать, а потом бросилась к отцу де Сильва и цепляясь за него кричала: — Отчего умер отец?.. Это неправда, что кузен герцог мой опекун! Отец говорил, что он злой, нечестный, а сын его — негодяй, и что он хочет только заплатить свои долги моими деньгами. Я не пойду с ним!.. Слезы прервали меня, но я все же заметила, как противное лицо герцога побледнело и исказилось такой злобой, что мне стало страшно. Тогда преподобный отец сделал знак герцогу оставить нас вдвоем. Он посадил меня на колени, нежно погладил мои кудри и дал мне выплакаться. Затем он рассказал, что во время пребывания отца в Шотландии, когда он переезжал из одного имения в другое с весьма небольшой охраной, в лесу на него напали разбойники. По-видимому, его ограбили и убили, потому что трупы двух его телохранителей затем нашли израненными и полунагими в чаще. Что же касается тела отца и его верного Рутланда, то их не нашли. Лесники, собаки которых и отрыли трупы, все тщательно обшарили, но нашли только плащ отца с пятнами крови, его перчатку да сломанную шпагу, но никаких следов разбойников. Убитых тел не было, а потому явилось предположение, что злодеи бросили их в находившееся неподалеку болото… На другой день, когда первый приступ отчаяния слегка утих, преподобный отец опять беседовал со мною и утешая, уговаривая подчиниться воле Божией, как подобает христианке. Потом, в подходящих к моему возрасту выражениях, он объявил мне, что я не имела никакого права оскорблять своего опекуна столь обидными словами. — Да ведь отец называл его нечестным! — прервала я его. — Часто в минуту раздражения говорят необдуманные слова, а лучшим доказательством, что эти речи не были серьезны, служит то, что покойный отец назначил его вашим опекуном. Я видел самый документ, — прибавил он, и уговаривал повиноваться воле усопшего, отдававшего меня под покровительство сэра Роберта, желая обеспечить мою будущность замужеством с Эдмондом. Вместе с тем он выражал уверенность, что я буду счастлива в семье герцога, где подрастали еще два мальчика. Нетрудно было уговорить семилетнего ребенка, а он сумел к тому соблазнить меня перспективой иметь двух сотоварищей. Более я не противилась отъезду и даже согласилась звать герцога "дядя Роберт". Через неделю мы уехали. Путешествие показалось мне бесконечным, а прибытие в Комнор-Кастл и первое свидание с двумя личностями, которым суждено было сыграть роковую роль в моей жизни, до того врезались в мою память, что мне хочется рассказать все подробно. Приехали мы утром чудного августовского дня и, на первый взгляд, замок понравился мне больше нашего родового. Зато тетка, леди Арабелла, вовсе не понравилась. Это была высокая худощавая женщина, с неприятным, надменным видом. Она встретила меня приветливо и поцеловала, но я нисколько не оценила этого. Я столько наслышалась про мое огромное состояние и про запутанные дела дяди, что возымела очень высокое мнение о собственной особе, и в глубине души всех их презирала. После обмена приветствиями преподобный отец спросил об Эдмонде. — Он играет в саду с Вальтером. Пойдемте к ним, — сказала тетка. Итак, мне предстояло сейчас увидеть обоих будущих друзей детства, обещанных мне отцом де Сильва. Я уже слышала раз об этом Вальтере от отца, который упомянул, что с ним дурно обращаются и что он — сирота и его ненавидят в Комнор-Кастле, но почему — я не поняла. Леди Арабелла хотела вести меня, но я вырвалась и взяла руку отца де Сильва. Мы спустились в сад и вдруг услышали крики, а когда вышли на площадку, я была поражена представившейся мне картиной. Белокурый мальчик лет одиннадцати был привязан веревкой за ногу к толстому дереву, а другой, лет тринадцати, бил его хлыстом. Никогда в жизни не видела я ничего подобного: дома у нас не били даже охотничьих собак, когда те утягивали что-нибудь со стола. Я почувствовала глубокую жалость к обиженному и бросилась между ними, гневно крикнув: — Сейчас же перестань, разбойник! Недаром отец говорил, что ты негодяй! Мальчик с хлыстом, оказавшийся Эдмондом, оглянулся, взглянул с удивлением и злобой, а потом, смерив меня враждебным взглядом, сказал: — А!.. Это "папистка", моя будущая жена! Какая же ты противная, с совиными глазами и рыжей гривой: ну, точно львица. Ты мне вовсе не нравишься, а если посмеешь еще раз вмешаться не в свое дело, то я и тебя побью. Я была ошеломлена и с минуту стояла молча. До сих пор мне приходилось слышать только, что я прехорошенькая, и отец очень любил мои золотистые кудри, а здесь меня сочли дурнушкой, да еще пообещали побить. Моя гордость женщины и, в придачу, богатой наследницы была до крайности возмущена, и я смело, почти вплотную подступила к нему. — Только посмей тронуть и тогда увидишь. Ты разве забыл, что тебе нужно мое приданое для уплаты ваших долгов? — кричала я, взбешенная. Вероятно, он кое-что знал о семейных делах, потому что покраснел. — Твой злой язык тоже, конечно, идет в счет приданого? Но я слишком благороден, чтобы бить такую знатную даму. А твои совиные глазенки недурны, особенно когда ты злишься. Итак, львица, ради твоих прекрасных глаз я не стану тебя бить, а лучше за каждую твою грубость будет расплачиваться твой любимец. Вот я сейчас же и приступаю. И он несколько раз хлестнул Вальтера. Тетка и священник молча наблюдали эту первую встречу жениха и невесты, но я уже не владела собой от негодования и бросилась на Эдмонда, не ожидавшего моей выходки. Я вырвала хлыст из его руки и изо всех сил резанула его по лицу, крикнув: — Вот тебе, разбойничья рожа! Попробуй, приятно ли, когда бьют! Эдмонд зарычал от боли и с бешенством кинулся на меня. Не знаю, что было бы дальше, если бы де Сильва не отнял меня, подняв на воздух. Не будучи в состоянии излить свою злобу на меня, Эдмонд набросился на Вальтера, я же схватила ручонками шею моего спасителя и спрятала лицо в его плечо. Меня ошеломили страх и неистовые крики дравшихся мальчиков: голова моя закружилась, шум уже неясно долетел до меня, а затем я лишилась сознания. Очнувшись, я увидела, что лежу в постели, а надо мной склоняется доброе и симпатичное лицо какой-то женщины. Это была Кэт Лестер, кормилица Эдмонда. Она целовала меня и старалась успокоить, но я принялась кричать, утверждая, что Вальтера убили. Чтобы разуверить меня, Кэт привела его в мою комнату, мы расцеловались, и он благодарил меня за заступничество. — Пока потерпи, Вальтер, и успокойся, — говорила я ему — а когда я вырасту, то выйду за тебя замуж, а не за Эдмонда, которого глубоко ненавижу. На другой день у меня с преподобным отцом был продолжительный разговор, который клонился к тому, чтобы добиться извинения перед Эдмондом. Сначала я наотрез отказалась, но де Сильва умел говорить. Он представил великий, совершенный мною грех, когда я в гневе ударила будущего мужа, а затем убеждал, что Бог непременно рассердится на меня за гордость и упрямство, если я не попрошу прощения. Последний его довод смягчил меня, и я согласилась. Тогда он повел меня к дяде, а тот в комнату, где Эдмонд и Вальтер играли с двумя мальчиками. Как только Эдмонд увидел меня, он ткнул ногой Вальтера и сказал: — Папистка идет просить у меня прощения, и я должен простить, потому что она женщина, а женщины, по словам отца, не понимают, что делают. — А я не хочу просить прощения у еретика, который говорит грубости, и ухожу, — сердито крикнула я и повернулась, но дядя удержал меня, взглядом заставив Эдмонда замолчать и подойти ко мне. — Здравствуй, львица, ну, что, ты сегодня миролюбивее вчерашнего? Я готов простить тебя и помириться, но не хочу, чтобы ты кусала меня в щеку. Я с достоинством ответила, что не укушу его, если он будет спокоен, и мы расцеловались. После этого он показал мне свои игрушки и болонку, которая мне очень понравилась, и мы принялись болтать. — Видишь, твой любимец прекрасно себя чувствует, а побои ему нужны, как лошади сено. Я упрекнула Эдмонда за то, что он дурно относится к сироте. — Видишь ли, и я пожалел бы его, не будь он таким подлым трусом, — ответил Эдмонд. — Мальчик одиннадцати лет уже не должен висеть на юбках баб и реветь при всяком удобном и неудобном случае. Он ни за что не хочет играть в дуэль, боится ездить верхом и прячется по углам или ревет, когда приводят пони. Будь у меня другой товарищ, я оставил бы его в покое, но мне хотелось бы его перевоспитать. Чтобы его пристыдить я велел подавать ему вместо лошади осла, пусть будут два осла, но все ни к чему. Он любит играть только в кухню, стряпать пирожки или устраивать сады. Ну ударь меня этот болван, я простил бы ему: ведь с двоюродным братом Чарли мы нередко деремся до синяков, а между тем остаемся искренними друзьями. При том, Вальтер подленький и лицемер, а если и ударит, так только воровски, исподтишка, а еще он и доносчик! Фи! Препротивный мальчишка! Вчера у меня были гости: Альджернон Кемпбели, наш сосед, и Джо Смит, сын кастеляна. Я назначил большую дуэль с Вальтером, чтобы те были свидетелями моей победы, а этот негодяй кинул наши шпаги в пруд. Тогда я, в совершенно справедливом негодовании, объявил, что дворянин, не желающий драться, не заслуживает ничего другого, кроме хлыста, а ты вошла вместе с моей матерью и преподобным отцом именно в этот трагический момент. Сначала этот рассказ меня смутил, так как я сама была храбра, но увидев на щеках Вальтера крупные слезы, я опять пожалела его и сказала: — Успокойся! Я сама помогу тебе сделать Вальтера отважным, потому что, когда вырасту большая, выйду за него, а не за тебя. — Ого! Значит, он нагишом пойдет к алтарю, — возразил Эдмонд. — Почему нагишом? Я настолько богата, что могу его одеть, и это будет гораздо приятнее, чем платить ваши долги, — ответила я. Ссора наша опять обострилась бы, конечно, но меня увели, и таким-то образом завершилось мое вступление в Комнор-Кастл. О последующем я не буду говорить. Это было бы слишком длинно и, мне кажется, не интересно: хотя именно в те годы и укоренились те чувства, которые впоследствии совратили меня с пути истинного. А потом, как знать, может быть, листки эти попадут в чужие руки, если я не успею уничтожить тетрадь; а умру я внезапно, потому что болезнь моя очень странная. Итак, если кто-либо прочтет посмертную исповедь неизвестной, пусть узнает, как все произошло, и не осудит меня. Например, Кэт Лестер нередко рассказывала нам по вечерам такие истории о привидениях и разбойниках, что волосы становились дыбом, и мы втроем очень любили ее слушать. Но если в рассказе появлялась какая-нибудь ведьма или старая колдунья, то Эдмонд непременно замечал: — Это была ты, львица, с рыжими космами и совиными глазами, а около тебя летал вовсе не ворон, Кэт ошибется, а бежал желтый пинчер, которого ты вела на голубой ленте. Такие слова, конечно, бесили меня. Затем леди Арабелла, женщина весьма набожная, внушала мне тоже почтение к церкви и ее служителям. Одним из величайших ее огорчений было ее замужество за человеком англиканского вероисповедания. Между тем ее сын ненавидел священников, издевался над ними и при удобном случае грубил ее и моему духовнику, отцу Розе. По этому поводу у меня с Эдмондом были бесконечные ссоры. Между тем, дружба моя с Вальтером крепла со дня на день. Тот, как и я, был католиком, горячо набожным и преисполненным почтения к отцу Розе, который любил его и открыто ему покровительствовал. Нередко преподобный отец говорил со вздохом: — О! Как жаль, что не Вальтер будет герцогом Мервином! Должна прибавить, что Вальтер был родственником герцога и представителем младшей ветви, совершенно обедневшей. От знатного наследства его отделяли Эдмонд и его кузен Чарли, и шансы Вальтера были совершенно призрачными. В отношении же меня Вальтер был мягок, как перчатка. Он был моим поверенным, моим рыцарем, и так заботился о моих интересах, что даже подслушивал у дверей, если я хотела знать то, что, по-моему, от меня скрывали. Здесь я должна упомянуть еще об одном, положительно ненавистном мне лице, также сыгравшем роль в моей жизненной драме. Это был мальчик по имени Томас Стентон, бывший года на два старше Эдмонда, но столь необычайно похожий на него, что их нельзя было бы отличить, будь они одинаково одеты. Эдмонд же удивительно походил на отца, который в молодости был очень красив, пока не обрюзг вследствие беспутной жизни. Томас оказался незаконным сыном герцога от умершей при его рождении служанки леди Арабеллы. Тетка из милости оставила ублюдка дома, но, конечно, ненавидела. Дядя же и Эдмонд очень любили его, и тот был слепо им предан. Несколько лет мальчики провели в училище и вернулись уже молодыми людьми, а я стала шестнадцатилетней девушкой. За несколько месяцев до того скончалась леди Арабелла, и в Комнор-Кастле поселилась старая родственница, чтобы вести хозяйство и вывозить меня. Эдмонд мало изменился. Он был по-прежнему надменен, вспыльчив, смел и пристрастен к воинским упражнениям. Вальтер же, наоборот, за эти годы отсутствия очень изменился к лучшему: он похорошел, научился ездить верхом и владеть шпагой. Мне чрезвычайно нравилось его грустное, кроткое лицо и задумчивый взор голубых глаз. К тому же, он выказывал мне искреннее обожание, называл своей покровительницей, ангелом-хранителем, и мы были неразлучными друзьями. Эдмонд косо смотрел на нашу дружбу и держал себя как жених, но я твердо решила не выходить за него замуж, а так как вопрос шел о путешествии в Лондон, то Вальтер посоветовал мне обратиться прямо к королю и молить его защитить от ненавистного мне брака. Мы уже объяснились с ним в любви и дали друг другу слово. Тем временем шли приготовления к отъезду, как вдруг произошло неожиданное несчастье. Дядя был тяжело ранен в голову: говорили, что он оступился и слетел, спускаясь ночью по винтовой лестнице с архивной башни. Единственный свидетель, светивший ему, Том Стентон, именно так рассказал это происшествие. Он позвал слуг, которые затем перенесли раненого в его комнату, а через два дня дядя скончался, не приходя в сознание. Спустя два месяца мы отправились в Лондон. За это время я мало видела Эдмонда, занятого делами. Вальтер также отправился вместо Эдмонда в отдаленное поместье. Он должен был ехать с нами, но не прибыл в назначенное время, и мы отправились без него. На мой вопрос по поводу его отсутствия герцог пренебрежительно ответил: — Этот пасхальный агнец, вероятно, беспутничает где-нибудь, Но будь покойна — он не пропадет. Название "пасхальный агнец" он дал Вальтеру потому, что тот любил одеваться в нежные цвета, преимущественно в белое, украшенное голубыми или розовыми лентами одеяние. В Лондоне я очутилась словно в ином мире. После уединенной, спокойной жизни в Комнор-Кастле я чувствовала себя совсем не на своем месте в этой сутолоке, среди новых знакомых. Эдмонд был любезен и предупредителен, но не заговаривал о женитьбе, а я по своей наивности воображала, что он отказался от этого плана и имеет в виду что-нибудь другое. Однажды он сказал мне, что день моего представления ко двору назначен, так как Их Величества пожелали меня видеть. При этом он посоветовал мне быть интересной, в виду того, что при дворе будет много красавиц и меня станут судить известные знатоки женской красоты. По этому случаю он подарил мне унаследованные от матери великолепные кружева и нитки чудесного жемчуга. Во мне проснулось кокетство и желание нравиться, которые до сей поры дремали, потому что к Эдмонду я была равнодушна, а Вальтеру все равно нравилась, как бы ни была одета. Однако мысль о туалете для представления ко двору всецело поглотила меня, и я даже забыла про Вальтера, который все не возвращался. Когда в день представления я оглядела себя в зеркало, то осталась довольна. Мне минуло семнадцать лет, и я была очень хорошенькая: белое, атласное, вышитое серебром и жемчугом платье, воротник из драгоценного кружева и жемчужный головной убор чудесно шли к моему ослепительному цвету лица. Я раскраснелась от волнения, но все-таки поехала довольно спокойно с Эдмондом и старой герцогиней, которая должна была представить меня. Когда я очутилась среди многочисленного, блестящего общества и почувствовала, что сотни любопытных глаз устремлены на меня, сердце мое усиленно забилось: я не смела поднять глаза и словно во сне проходила громадную залу. Лишь приседая перед троном я решилась взглянуть на королевскую чету. Оба показались мне" очень симпатичны — — — —
— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —
ГЛАВА 9 — — — — — — — — — Пока я пишу эти строки все кипит и трепещет во мне. — — — —
— — — — — — Примечания:1 Описываемое доказывается на примере одержимых, которые не могут подойти к причастию или священным предметам без болезненных криков, из-за того, что духи зла пронизывают их при этом своими отравленными флюидами |
|
||
|
Главная | В избранное | Наш E-MAIL | Добавить материал | Нашёл ошибку | Другие сайты | Наверх |
||||
|
|
||||
